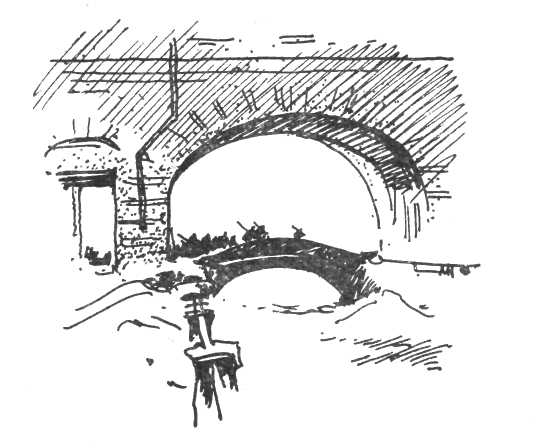 СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1968
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1968
 Р2 Л84
Фронтовой дневник Книга третья (февраль 1943 года -- до конца войны)
Подвиг, совершенный населением и защитниками Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, не забудется ни современниками ее, ни грядущими
поколениями. Все девятьсот дней блокады и обороны города-героя, а потом
месяцы наступательных операций Павел Лукницкий неутомимо вел свой подробный
дневник. Никакая обстановка не могла помешать автору делать свои ежедневные
записи. В них -- мысли, беседы, боевые дела фронтовиков и горожан множества
специальностей. Дневник дает широкую картину того времени во всей ее, порой
жестокой, суровой, но предельно чистой атмосфере несравненного мужества.
Способность автора записывать происходящее вкруг него в самый момент события
помогла ему создать художественный документ большой впечатляющей силы. Эта
книга охватывает период времени от прорыва до полного снятия блокады и,
затем, до изгнания разгромленных вражеских войск с территории Ленинградской
области. Дневник заканчивается описанием судебного процесса над
гитлеровскими карателями -- в Ленинграде, после войны. Этой книгой автор
завершает свою большую трехтомную эпопею, первые две части которой, под тем
же названием "Ленинград действует... ", изданы "Советским писателем" в 1961
и в 1964 гг.
7-3-2
49-68
Защитникам Ленинграда,
всем,
кого уже нет с нами,
и здравствующим ныне,
в год 50-летия Октября
мой многолетний труд
посвящаю...
ОТ АВТОРА
Итак, труд, занимавший мои мысли и время ровно двадцать пять лет -- с
первого дня Отечественной войны и до последней строки этой книги, закончен.
Третий том моего фронтового дневника охватывает период времени, начинающийся
с февраля 1943 года, когда сразу после прорыва блокады наши войска,
добиваясь полного ее снятия, улучшая свои позиции, накапливая и организуя
новые мощные силы, начали готовиться к последнему, решающему удару. В январе
1944 года этот удар был нанесен, блокада снята полностью, и от стен
свободного города армии, хорошо оснащенные техникой, двинулись на запад,
освобождая всю территорию Ленинградской области. К концу июля 1944 года
гигантская по размаху битва была успешно закончена -- ни одного
гитлеровского, солдата, кроме пленных и мертвых, на земле ленинградской не
осталось. Описание дальнейшего наступления наших войск за пределами
Ленинградской области в мою задачу не входит. Но не только действиям войск
Ленинградского и Волховского фронтов, -- не меньшее внимание я уделил и
самому Ленинграду, городу-герою, чье население с небывалым в истории
мужеством и спокойствием выдерживало новую цепь испытаний. Современные
варвары-гитлеровцы, подвергая в этот период Ленинград почти ежедневным
зверским обстрелам, разрушали город, несли смерть множеству мирных людей и
больше всего детям и женщинам... В этот период, с великолепным
хладнокровием, презрением к смерти и к беснующемуся врагу, с вдохновляющей
на подвиги верой в победу, население Ленинграда приступило к
восстановительным работам в городе, планируя их так, чтобы после победы
сделать Ленинград еще прекраснее, чем он был до войны.
Только по мере освобождения городов и сел Ленинградской области
узнавали мы, ленинградцы, а за нами весь мир, на какие чудовищные
преступления шел враг, поставивший себе целью полностью смести с лица земли
Ленинград, уничтожить или превратить в покорных рабов все население города
нашего и области.
Книга эта, а с нею и весь мой трехтомный труд заканчивается описанием
логического следствия вероломного нападения гитлеровцев на наш город и
содеянных ими преступлений: описанием судебного процесса над немецкими
карателями-изуверами. Процесс происходил в Ленинграде (в Выборгском Доме
культуры), одновременно с Нюрнбергским процессом, зимою 1945--1946 гг.
Показания немецких карателей в переполненном зале Дома культуры,
свидетельства уцелевших жителей Ленинградской области на этом процессе
открыли ленинградцам не только весь объем и всю чудовищность совершенных
гитлеровцами преступлений, но и самую суть фашизма, превращавшего рядовых
немцев, даже против воли некоторых из них, в такие человеконенавистнические,
звероподобные существа, степень одичания и подлости которых трудно
определить словами.
Шаг за шагом прослеживая своими наблюдениями прорастание чувства победы
в душах ленинградцев, а затем постепенное претворение подвига воинского в
подвиг мирного восстановительного труда, я посвящаю много внимания не только
быту, делам, но и психологии ленинградцев. Она поразительна с любой точки
зрения, и ее изучению я хочу своим трудом в меру моих сил и возможностей
помочь. Объем материала, включенного в этот третий, завершающий, том,
огромен не только потому, что по сравнению с двумя первыми томами третий том
охватывает период времени почти в три раза больший, но и потому, что сама
жизнь в этот период была насыщена крупнейшими и интереснейшими событиями.
Масштаб событий таков, что, конечно, в моем дневнике я не имел возможности
полностью охватить их, хотя и стремился к тому, чтобы последовательное
изложение того главного, что довелось мне знать и видеть, дало бы читателю
возможно более ясное представление обо всем в целом и о многих характерных
частностях.
Некоторые моменты "предвидения" -- предощущения грядущих событий,
записанные в моем дневнике, характеризуют, конечно, не какую-то мою личную
способность к прогнозам, а то, что "носилось в воздухе", -- ту атмосферу,
общую для всех, уверенных в победе и в своих силах ленинградцев, остро
вглядывавшихся во все происходившее в мире и прежде всего на фронтах
Отечественной войны, анализировавших события и потому способных к прогнозам,
иной раз удивительно правильным.
Задача моего труда -- показать на ленинградском материале крушение
бредовых замыслов фашизма, катастрофу, к которой привел его советский народ
благодаря беспримерной стойкости, храбрости своей, патриотизму и глубочайшей
вере в партию, что вела наш народ к Победе.
Январь 1967 г.
Пользуюсь случаем, чтобы принести мою глубокую благодарность всем, кто
своими материалами, воспоминаниями, ценными советами и уточнениями помог мне
обработать -- от первого тома до третьего -- мой подробнейший фронтовой
дневник (далеко еще не полностью в этих трех томах использованный). Прежде
всего в числе лиц, которым -- моя признательность, хочу упомянуть защитников
Ленинграда генерала армии И. И. Федюнинского, генерал-лейтенантов М. П.
Духанова, П. И. Горохова, полковников К- А. Седаша, А. И. Трепалина, Б. А.
Шалимова, П. А. Пилютова, врача В. Г. Потапову (ныне Лебедеву), В. В.
Лебедеву (ныне Соловьеву), В. П. Одоеву, всех участвовавших в обороне
Ленинграда писателей и журналистов. Кроме того, не могу не упомянуть
редактора всех трех томов К. С. Иванову и картографа издательства В. Г.
Виноградова, проделавшего трудную работу по обработке и перечерчиванию
сделанных мною схем и карт. Обращаюсь к читателям с просьбой сообщать мне
свое суждение, присылать советы и указания. Отнесусь к ним со всем
вниманием, -- они окажутся весьма полезными в случае переиздания моего
труда.
Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать
совета.
Данте, "Божественная комедия"
Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим уменьем и
помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город
Ленина от вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской
области от немецких захватчиков... Из клятвы ленинградских партизан
Р2 Л84
Фронтовой дневник Книга третья (февраль 1943 года -- до конца войны)
Подвиг, совершенный населением и защитниками Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, не забудется ни современниками ее, ни грядущими
поколениями. Все девятьсот дней блокады и обороны города-героя, а потом
месяцы наступательных операций Павел Лукницкий неутомимо вел свой подробный
дневник. Никакая обстановка не могла помешать автору делать свои ежедневные
записи. В них -- мысли, беседы, боевые дела фронтовиков и горожан множества
специальностей. Дневник дает широкую картину того времени во всей ее, порой
жестокой, суровой, но предельно чистой атмосфере несравненного мужества.
Способность автора записывать происходящее вкруг него в самый момент события
помогла ему создать художественный документ большой впечатляющей силы. Эта
книга охватывает период времени от прорыва до полного снятия блокады и,
затем, до изгнания разгромленных вражеских войск с территории Ленинградской
области. Дневник заканчивается описанием судебного процесса над
гитлеровскими карателями -- в Ленинграде, после войны. Этой книгой автор
завершает свою большую трехтомную эпопею, первые две части которой, под тем
же названием "Ленинград действует... ", изданы "Советским писателем" в 1961
и в 1964 гг.
7-3-2
49-68
Защитникам Ленинграда,
всем,
кого уже нет с нами,
и здравствующим ныне,
в год 50-летия Октября
мой многолетний труд
посвящаю...
ОТ АВТОРА
Итак, труд, занимавший мои мысли и время ровно двадцать пять лет -- с
первого дня Отечественной войны и до последней строки этой книги, закончен.
Третий том моего фронтового дневника охватывает период времени, начинающийся
с февраля 1943 года, когда сразу после прорыва блокады наши войска,
добиваясь полного ее снятия, улучшая свои позиции, накапливая и организуя
новые мощные силы, начали готовиться к последнему, решающему удару. В январе
1944 года этот удар был нанесен, блокада снята полностью, и от стен
свободного города армии, хорошо оснащенные техникой, двинулись на запад,
освобождая всю территорию Ленинградской области. К концу июля 1944 года
гигантская по размаху битва была успешно закончена -- ни одного
гитлеровского, солдата, кроме пленных и мертвых, на земле ленинградской не
осталось. Описание дальнейшего наступления наших войск за пределами
Ленинградской области в мою задачу не входит. Но не только действиям войск
Ленинградского и Волховского фронтов, -- не меньшее внимание я уделил и
самому Ленинграду, городу-герою, чье население с небывалым в истории
мужеством и спокойствием выдерживало новую цепь испытаний. Современные
варвары-гитлеровцы, подвергая в этот период Ленинград почти ежедневным
зверским обстрелам, разрушали город, несли смерть множеству мирных людей и
больше всего детям и женщинам... В этот период, с великолепным
хладнокровием, презрением к смерти и к беснующемуся врагу, с вдохновляющей
на подвиги верой в победу, население Ленинграда приступило к
восстановительным работам в городе, планируя их так, чтобы после победы
сделать Ленинград еще прекраснее, чем он был до войны.
Только по мере освобождения городов и сел Ленинградской области
узнавали мы, ленинградцы, а за нами весь мир, на какие чудовищные
преступления шел враг, поставивший себе целью полностью смести с лица земли
Ленинград, уничтожить или превратить в покорных рабов все население города
нашего и области.
Книга эта, а с нею и весь мой трехтомный труд заканчивается описанием
логического следствия вероломного нападения гитлеровцев на наш город и
содеянных ими преступлений: описанием судебного процесса над немецкими
карателями-изуверами. Процесс происходил в Ленинграде (в Выборгском Доме
культуры), одновременно с Нюрнбергским процессом, зимою 1945--1946 гг.
Показания немецких карателей в переполненном зале Дома культуры,
свидетельства уцелевших жителей Ленинградской области на этом процессе
открыли ленинградцам не только весь объем и всю чудовищность совершенных
гитлеровцами преступлений, но и самую суть фашизма, превращавшего рядовых
немцев, даже против воли некоторых из них, в такие человеконенавистнические,
звероподобные существа, степень одичания и подлости которых трудно
определить словами.
Шаг за шагом прослеживая своими наблюдениями прорастание чувства победы
в душах ленинградцев, а затем постепенное претворение подвига воинского в
подвиг мирного восстановительного труда, я посвящаю много внимания не только
быту, делам, но и психологии ленинградцев. Она поразительна с любой точки
зрения, и ее изучению я хочу своим трудом в меру моих сил и возможностей
помочь. Объем материала, включенного в этот третий, завершающий, том,
огромен не только потому, что по сравнению с двумя первыми томами третий том
охватывает период времени почти в три раза больший, но и потому, что сама
жизнь в этот период была насыщена крупнейшими и интереснейшими событиями.
Масштаб событий таков, что, конечно, в моем дневнике я не имел возможности
полностью охватить их, хотя и стремился к тому, чтобы последовательное
изложение того главного, что довелось мне знать и видеть, дало бы читателю
возможно более ясное представление обо всем в целом и о многих характерных
частностях.
Некоторые моменты "предвидения" -- предощущения грядущих событий,
записанные в моем дневнике, характеризуют, конечно, не какую-то мою личную
способность к прогнозам, а то, что "носилось в воздухе", -- ту атмосферу,
общую для всех, уверенных в победе и в своих силах ленинградцев, остро
вглядывавшихся во все происходившее в мире и прежде всего на фронтах
Отечественной войны, анализировавших события и потому способных к прогнозам,
иной раз удивительно правильным.
Задача моего труда -- показать на ленинградском материале крушение
бредовых замыслов фашизма, катастрофу, к которой привел его советский народ
благодаря беспримерной стойкости, храбрости своей, патриотизму и глубочайшей
вере в партию, что вела наш народ к Победе.
Январь 1967 г.
Пользуюсь случаем, чтобы принести мою глубокую благодарность всем, кто
своими материалами, воспоминаниями, ценными советами и уточнениями помог мне
обработать -- от первого тома до третьего -- мой подробнейший фронтовой
дневник (далеко еще не полностью в этих трех томах использованный). Прежде
всего в числе лиц, которым -- моя признательность, хочу упомянуть защитников
Ленинграда генерала армии И. И. Федюнинского, генерал-лейтенантов М. П.
Духанова, П. И. Горохова, полковников К- А. Седаша, А. И. Трепалина, Б. А.
Шалимова, П. А. Пилютова, врача В. Г. Потапову (ныне Лебедеву), В. В.
Лебедеву (ныне Соловьеву), В. П. Одоеву, всех участвовавших в обороне
Ленинграда писателей и журналистов. Кроме того, не могу не упомянуть
редактора всех трех томов К. С. Иванову и картографа издательства В. Г.
Виноградова, проделавшего трудную работу по обработке и перечерчиванию
сделанных мною схем и карт. Обращаюсь к читателям с просьбой сообщать мне
свое суждение, присылать советы и указания. Отнесусь к ним со всем
вниманием, -- они окажутся весьма полезными в случае переиздания моего
труда.
Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать
совета.
Данте, "Божественная комедия"
Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим уменьем и
помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город
Ленина от вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской
области от немецких захватчиков... Из клятвы ленинградских партизан
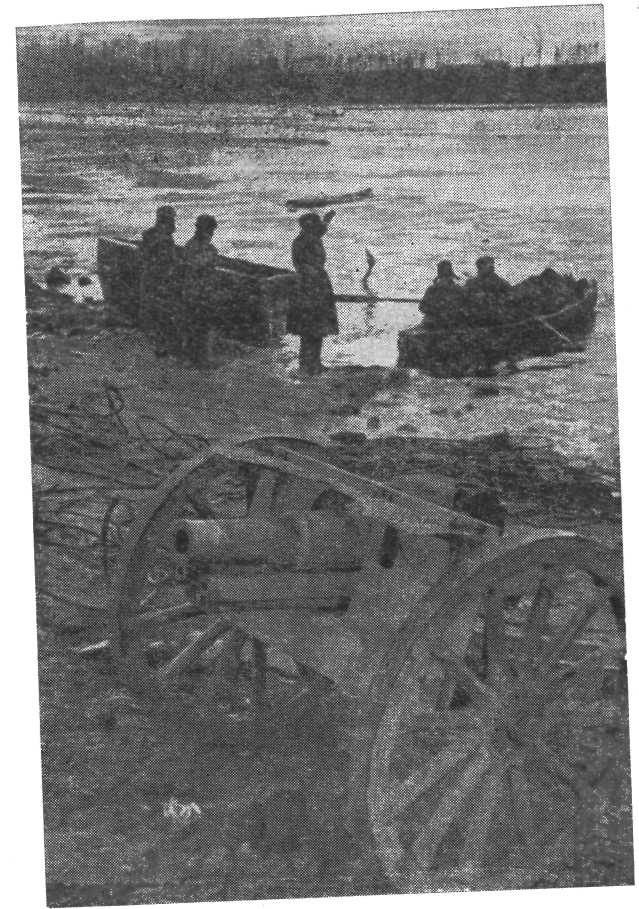 Нева у Арбузова форсирована! 1943 г,
Сегодня, воспользовавшись первым успехом наступления своих соседей на
флангах немецкой группировки, вновь со стороны Невы и Шлиссельбургской губы
двинулись в бой -- в лоб на Синявино -- войска 67-й и 2-й Ударной армий.
Ближайшая их задача -- ликвидировать давно окруженные, но до сих пор не
взятые, изрядно нам надосадившие узлы обороны немцев в 1-м и 2-м городках
имени Кирова и 8-ю ГЭС, на берегу Невы, а затем выровнять здесь линию
фронта, взяв приневский укрепленный узел Арбузово[1].
[1] Первые три пункта частями 67-й и 2-й Ударной армий были взяты нами
в боях с 13 по 15 февраля, а 20-го взятием северной окраины Арбузова линия
фронта с этой стороны была выровнена. 17 февраля части левого фланга 55-й
армии (45-я гвардейская дивизия и лыжная бригада Потехина) продвинулись на
четыре километра вперед, оттеснив противника к реке Тосне.
В эти дни немцы подбросили сюда полки нескольких дивизий, сняв их
из-под Урицка и с Синявинских высот, а в районе наступавшей 54-й армии
Волховского фронта -- из-под Чудова и Синявина -- до четырех дивизий. Наши
части, продвинувшись на востоке на пять километров, а со стороны Колпина на
четырнадцать километров (но на левом фланге не прорвав оборону немцев за
рекой Тосной), вынуждены были вести столь тяжелые бои, что "ставка
Верховного Главнокомандования 27 февраля приказала прекратить дальнейшее
наступление и начать подготовку новой наступательной операции... В марте
1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вновь перешли в
наступление, стремясь завершить разгром мгинско-синявинской группировки
противника"... Но и эта операция не привела к успеху. Однако "... удерживая
все это время в своих руках инициативу, наши войска нанесли соединениям 18-й
немецкой армии крупные потери и сорвали план наступления противника на
Ленинград. Они сковали под Ленинградом около 30 вражеских дивизий в тот
период, когда на южном фланге советско-германского фронта Советская Армия,
преследуя разбитого на Волге и Северном Кавказе врага, успешно развивала
наступление на запад.
В связи с наступившей распутицей и возросшим сопротивлением гитлеровцев
ставка Верховного Главнокомандования, приняв предложения командующих
фронтами, 2 апреля приказала прекратить наступление, закрепиться на
достигнутых рубежах и организовать здесь прочную, глубоко эшелонированную
оборону... "
("Битва за Ленинград". М., Воениздат, 1964, стр. 277--278).
Примечание автора. Все примечания к тексту книги везде далее даны
автором.
Путь в Кобону
13 февраля. Кобона
... Уговорившись с А. Прокофьевым, направляемым на Волховский фронт во
2-ю Ударную армию, ехать до Кобоны вместе, мы, и художник М. А. Гордон, в 7
часов вечера выехали поездом из Ленинграда. От Финляндского вокзала до
станции Ладожское озеро ехали два с половиной часа. В пути обменивались
новостями, рассуждали о войне, о южных фронтах, о близящейся катастрофе
Германии.
А потом, после многих и долгих хлопот, ехали в кузове попутного
грузовика через Ладожское озеро, минуя огни бакенов, укрепленных на льду,
встречая и обгоняя огни бегущих машин. Но по сравнению с прошлым годом машин
было мало, и направлявшиеся к Кобоне шли порожняком.
Все вокруг было мне давно знакомо: регулировщики, ветер, лед со
сметенным с него снегом, ниши зениток, костры. Приятно сознавать, что трассу
больше не обстреливают артиллерией -- немца на берегу Ладоги нет! И южный
берег, всегда прежде декорированный вспышками ракет, теперь темен и не
угадывается в ночи. Ночь особенно тусклая, изморозь, мрак, оттепель...
Остановка -- посреди озера. Хнычущий голос: "Возьми, прицепи!.. " --
шофер застрявшего грузовика умоляет взять его на буксир. Наш соглашается.
Вместе, в свете фар задней машины, ладят трос. Разговор, состоящий
преимущественно из непечатных слов. Но смысл его таков: "Сколько проехало,
ни один не останавливается, как ни просил... А ты -- хороший человек!" --
"Ну, еще неизвестно, хороший ли?" -- "Хороший, хороший! Кабы не ты, просидел
бы я здесь всю ночь!" -- "А я вот никогда не сижу... Если остановлюсь,
каждый спросит: "Горбачев из первой роты? Не нужно ли тебе чего? Горбачева
из первой роты все знают!.. "
Километров через пятнадцать на какой-то кочке трос оборвался, я заметил
фары оставшейся далеко -- почти на горизонте -- машины, а за нами волочился
по льду только трос...
Ближе к восточному берегу какие-то во тьме конные
обозы, шатры, палатки, темнеющие линии не разберу чего... Уже у пирсов
шофер заблудился, стал кружить, ища дорогу, а за ним гуськом кружили штук
шесть машин... Но вот выехали к пирсам, шофер сказал: "Я на склад, а вам
туда -- в деревню!"
Оставив машину, мы долго плутали, Прокофьев не узнавал своей родной
деревни Кобоны. Обошли ее крутом и -- в половине третьего ночи -- ввалились
в домик дяди Прокофьева, ныне занимаемый его сестрой, служащей эвакопункта.
В доме спали, Прокофьев поднял всех, сказал: "Собери нам, Маша!", и,
радостно принятые, в тепле, мы умылись, отдышались. Вскипел самовар, пили
чай. В пятом часу утра я лег спать, раздевшись, на тахте, в чистых
простынях.
-- А я ночь не спала! -- говорит утром Клава, двоюродная сестра
Александра Прокофьева. -- И не ложилась вовсе!.. В подпол ходила, картошку
перебрала всю. Днем-то еще неизвестно, какая погода будет. Вы знаете, в
ясную погоду мы ничего не делаем, только на небо и смотрим. А для дел
пасмурную погоду выбираем. Он в пасмурную погоду не летает...
23 ноября немцы сбросили на деревню Кобону сорок шесть бомб. Налетают
часто, бросают бомбы по три зараз. И обстреливают из пулеметов. Летают все
по ночам -- в ясные ночи. Недавно бомбили четыре ночи подряд. И только на
четвертую над озером нашим удалось сбить бомбардировщик. Пятеро немцев взяты
в плен, шестого застрелили...
4 часа. Войбокало
Расставшись с Прокофьевым и его родственниками, я в случайном
автомобиле скорой помощи выехал в Войбокалу... Эвакопункты, пирсы ледовой
трассы, деревня. Шум, летчики -- все знакомое мне с прошлого года по 8-й и
54-й армиям... Сколько новых дел, людей, боевых эпизодов предстоит мне
узнать в здешнем фронтовом краю!..
Вызов в Москву
17 февраля. Поезд Волхов -- Москва
Уже не одну телеграмму в Ленинграде за прошедшие полтора месяца получил
я от ТАСС с требованием выехать в Москву! Как бы я себя чувствовал там, в
момент, когда наши войска здесь прорывали блокаду!.. Мне тогда удалось
отвертеться, кое-как сумел объяснить, что "обстановка требует моего
пребывания на Ленинградском фронте". Убедил! Оставили! Везде побывал, все
увидел, все о прорыве знаю, и горжусь этим, и радость испытал невыразимую.
Теперь опять! Послав в ТАСС несколько корреспонденции о действиях
Волховского и Ленинградского фронтов, получил по телеграфу холодное,
категорическое требование выехать в Москву. Попытка отговориться фронтовыми
событиями не помогла; повторили: "Выехать немедленно!" Прекрасно понимаю,
чего хотят: отправить на другой фронт. А я хочу быть только на
Ленинградском. Снимем блокаду совсем, нечего станет здесь делать, тогда --
пожалуйста, куда угодно!
Еду в Москву, прямому приказу надо подчиняться. Но посмотрим, удастся
ли ТАСС вырвать меня из Ленинграда! Логика -- за меня!
... Все последнее время вражеская авиация систематически налетает на
железную дорогу в районе Волхова. Хочет помешать доставке в Ленинград
подкреплений. Особенно бомбит дорогу на участке от Шлиссельбурга до Званки.
10 февраля на станцию Пупышево налетели четыре бомбардировщика, одна бомба
попала в цистерну с бензином, восемь цистерн сгорели, разбиты четыре вагона
с красноармейцами. Один из самолетов сбит зенитками...
В Волховстрое дикая неразбериха с билетами, посадкой пассажиров и всем,
что относится к службе движения. Хотя билет у меня есть, все ж надо идти
регистрироваться к этапному коменданту. Оттуда -- на "Безымянную, 26", за
полтора километра, к другому коменданту, за посадочным талоном. Оттуда -- в
кассу (домик в полукилометре от станции), компостировать. Все -- в темноте,
все -- неизвестно где, все -- с очередями. Измотаешься!
После длительной беготни и перекрестных расспросов удалось выяснить,
что поезд из Волховстроя идет через Вологду, на Буй и два вагона в нем --
через Ярославль в Москву. От станции Волховстрой осталось только название:
все разбито. Год назад все было цело. Город стал неузнаваем. Разрушены
здания горсовета, НКВД, множество других зданий, а вблизи станции --
полностью все кварталы. Бомбежки продолжаются по сию пору. Но движение
поездов ничуть не уменьшилось.
Выехал в теплушке. Поезд переполнен эвакуируемыми из Ленинграда. И
поныне еще их везут каждый день -- и стариков, и женщин, и детей.
В пути было сообщение: взяты четыре города. Пассажиры называют:
Краснодар, Ворошиловград, Шахты. Спорят: то ли еще Красноармейск, то ли
Первомайск. Слышу фразы: "Ничего! Научились мы воевать!", "Так их (по
матушке), скорей бы всех их уничтожить!", "А пойдет так, пожалуй, к весне
всю Украину очистим... ", "Сеять будем на Украине!", "И очень даже просто!..
", "А вот у нас, на Ленинградском, заедает что-то... "
Другой вразумляет: "Так ведь у нас и условия другие... " И третий: "Да,
тут танками не пройдешь!.. " И еще один: "Закопался он здорово!.. "
"А Войбокалу и сейчас по ночам обстреливает. Из Мги, наверно, -- сорок
пять километров от нее!"
"Достает?"
"Достает, проклятый. Днем не бьет, только по ночам... "
В Ярославле встретился с отцом. Мне повезло: ему как раз дали
командировку в Москву, сейчас он едет вместе со мной, генеральское звание и
вызов высокого военного начальства помогли отцу сесть в поезд без хлопот.
Еду теперь уже не в теплушке, а в пассажирском, плацкартном вагоне.
... Никто ничего не говорит о сегодняшних делах на Ленинградском
фронте, абсолютное большинство, очевидно, не знает о них, Совинформбюро
сообщений не давало.
А я о них думаю непрестанно.
Удивительный все-таки человек Николай Павлович Симоняк! Оборона Ханко и
Пулковских высот, прорыв блокады -- его первая заслуга в удаче форсирования
Невы и самом прорыве. Сейчас его 63-я гвардейская -- снова первая ударная
сила: именно полки Симоняка брали Красный Бор, он, ничего не боясь, сам
бывает в наиболее опасных местах, изучает досконально обстановку, в какой
заваривается его повелением бой... А вот левее 63-й, на усть-тосненском
участке генерал А. А. Краснов, командующий 45-й гвардейской дивизией... Ему
не удалось развить наступление в решающие дни прорыва блокады. Ему не
удалось и сейчас прорвать оборону немцев на реке Тосне. Необходимо сказать,
конечно, что эту оборону немцы укрепляли шестнадцать месяцев, превратили
правобережье Тосны в сильнейший рубеж[1]. Но ведь и Красный Бор -- некогда
мирный поселок, в котором до войны было около двадцати тысяч жителей, а ныне
не осталось ни одного, -- такой же считавшийся немцами неприступным рубеж. А
вот Симоняк взял его в первый же день наступления своей славной дивизии,
после прорыва блокады переброшенной в состав 55-й армии и двинувшейся в бой
вместе с танками 1-й краснознаменной бригады, впереди других. 269-й, 270-й,
342-й полки дивизии Симоняка снова на устах у всех знающих боевые дела на
фронте.
... А Синявино, Мга будут взяты, как будут освобождены и все города,
села, деревни нашей великой страны. Порукой этому -- героизм миллионов
советских людей!
Я приехал в Москву. Как и предполагал, меня решили было сделать
разъездным корреспондентом по всем фронтам, с тем чтобы между поездками я
жил в Москве. Ради того чтобы не оставлять Ленинград, я готов был даже
расстаться с ТАСС вообще и добиться перевода в одну из воинских частей
Ленинградского фронта. Об этом я поставил в известность руководство ТАСС и,
пока находился в Москве, стал добиваться нужных мне результатов в Главном
Политическом Управлении Красной Армии, в кадрах которого состояли многие
спецвоенкоры органов центральной печати. В ожидании решения моей
[1] После взятия Красного Бора и неудачи на левом усть-тосненском
фланге новым командиром 45-й гвардейской дивизии был назначен "симоняковец"
Савелий Михайлович Путилов, отлично руководивший прекрасными людьми дивизии
во всех последовавших боях.
судьбы я писал в Москве для газет и журналов, для разных международных
комитетов и для Совинформбюро рассказы, очерки и корреспонденции о людях
Ленинградского фронта.
ТАСС долго задерживал меня в Москве. Здесь состоялось межфронтовое
многодневное совещание военных корреспондентов, мне было поручено
проанализировать все корреспонденции нескольких военкоров, выступить с
докладом и рекомендациями. Происходили собеседования по поводу методов
работы ТАСС и в Центральном Комитете партии. Выступая на совещании, пришлось
резко и откровенно говорить о недостатках этой работы: о серости,
безликости, штампованности публикуемого материала, -- я был дружно поддержан
редакторами "Вечерней Москвы", "Красного флота", "Труда", "Московского
большевика" и других газет. Эти редакторы высказывали желание получать от
ТАСС и рассказы, и очерки, и, главное, материал не от "одного
корреспондента, подписывающегося десятком фамилий", а от многих,
отличающихся друг от друга своей манерой писать. В результате были вынесены
полезные для общего дела решения.
После совещания ТАСС согласился оставить меня до конца блокады на
Ленинградском фронте, дав возможность публиковать через его редакции не
только сухой репортаж, но и рассказы, и художественные очерки. Окрыленный
этим обещанием, я выехал в Ленинград.
Мой московский дневник этого времени не имеет прямого отношения к
обороне Ленинграда, поэтому здесь я даю лишь несколько записей,
представляющихся мне ценными "с ленинградской точки зрения".
Встречи, размышления и наблюдения
6 марта. Гостиница "Москва"
В письме Мухтару Ауэзову в Алма-Ату пишу о пережитом в Ленинграде, о
фронтовой жизни. И продолжаю так:
"... Но я все-таки доволен и ни за что не променял бы эту жизнь на
прозябание в глубоком тылу, став подобным тем некоторым из наших
"эвакуантов", коих, находящихся в жалком состоянии, ты встречаешь у себя в
АлмаАте. Я с грустью убеждаюсь в том, сколь многие, в единственном
стремлении во что бы то ни стало сохранить свое существование, утратили и
чувство собственного достоинства и вообще человеческий облик.
У нас, в Ленинграде, людей мало, люди очень нужны. Я за это время
узнал, что родной город можно любить, как близкого родного человека, -- я не
могу жить без Ленинграда, несмотря на то что в нем как будто и одинок и
бездомен: квартира моя разбита, ни жены, ни родственников у меня в нем нет.
И уж если суждено мне будет дожить до того светлого дня, когда ни
одного гитлеровца под Ленинградом не станет, -- я знаю, что всю жизнь буду
считать правильным свое решение не покидать этот город, несмотря ни на что,
какие бы трудности на мою долю ни выпали.
Вот, Мухтар-ага, я знаю, ты меня поймешь, ты знаешь, что такое любовь к
родине, ты любишь свой родной тебе Казахстан, мог ли бы ты покинуть
Алма-Ату, если б твой город осаждали враги? Я уверен: ты оказался бы в рядах
самых упорных его защитников... Вот ты зовешь меня пожить у тебя спокойно.
Нет, Мухтар, я приеду в Среднюю Азию и в Казахстан тогда, когда буду
сознавать, что мой долг перед войной выполнен до конца, что я заслужил право
отдыхать и быть равным среди казахов так же, как я сейчас равный среди людей
на фронте, отдавших себя служению Родине... И тебя тогда позову в гости к
себе в Ленинград, мне не совестно будет чувствовать себя в нем хозяином...
Кое-кто, преисполненный высокомерия, со скептической усмешкой называет
меня романтиком! Что ж, быть романтиком в том смысле, что человек сохраняет
любовь к Человеку, когда многие это чувство утратили, быть романтиком в том
смысле, что человек не считает извечно высокие понятия словесной мишурой, --
разве так уж плохо?
Я, Мухтар, был свидетелем стольких случаев подлинного героизма, что не
мне утратить веру в чистоту вековечных принципов. И если многое в нашем
мире, даже до этой ужасной войны, было несовершенно, то разве следует
удивляться, что всякий стремящийся к совершенству художник видит пути к
совершенству везде и во всем и
верит в существование доброй воли к достижению этого совершенства?
И разве не следует все личное направлять в то единое русло, которое
ведет к этой цели?..
А проще сказать: я могу в этой войне растрачивать свои силы, свое
здоровье, но не могу и не хочу растрачивать свою душу... "
Только что по морозцу, под рядами тускло посвечивающих, обозначающих
лишь направление улиц фонарей, вернулся из филиала МХАТ, где смотрел "Школу
злословия", хорошо исполненную и потому весьма освежающую. Это -- чуть ли не
первый спектакль, посещенный мною за все время войны...
10 марта. Вечер
Кругом разговоры -- "зачем вам ехать сейчас в Ленинград?.. ".
Слов нет, мой организм настойчиво требует юга, солнца, отдыха, -- я
никогда прежде не мог высидеть за работой в Ленинграде дольше, чем несколько
зимних месяцев.
Да, это так хорошо: солнце, юг, покой, отдых, обстановка, не требующая
непрестанного нервного напряжения, что об этом можно мечтать, я это вижу
даже во сне. Но я гоню от себя эти мысли, как искушение дьявола. Ибо не
вернуться в Ленинград значило бы продать свою душу.
Один из приятельствующих со мною писателей уверял меня: "Это --
фетишизм, думать, что твой долг быть именно в Ленинграде. Будто ты не можешь
быть полезен в другом месте?.. " Но я тут же ловил себя на мысли: сей
приятель высказался так потому, что сам в Ленинград возвращаться не
собирается.
Голос совести говорит: "Поезжай в Ленинград и оставайся там до конца.
Может случиться: погибнешь, может статься: на всю жизнь останешься
полуживым, но поезжай туда и будь там!"
Вчера, вверх по улице Горького -- по широкому чистому асфальту,
освещенному празднично-ярким весенним солнцем, -- шел батальон пехоты. Шли
командиры в золотых погонах, одетые чисто и опрятно. Шли колонны
красноармейцев, кто в погонах, кто еще без погон. Шли [в] ботинках с
обмотками, в затрепанных, грязных шинелях, с узелками за спиной, без
винтовок. Люди были усталыми, лица их были серыми. Весенняя таль уже
расхлябила снег, подснежная вода выбивалась с асфальта. Многие красноармейцы
шли в валенках... Я понимал: этот батальон был только что сформирован из
состава разных частей, из людей, прибывших с фронта. Он был принят свежими
командирами...
Фронт от Москвы проходит в ста тридцати километрах, но Москва уже так
отвыкла от чувства близости к фронту, так отвыкла от всего прямо
напоминающего ей о фронте, что прохожие останавливались и смотрели на эту
нестройную, разномастную воинскую часть... Это шли защитники Москвы, шли
люди, готовые умереть за Родину, знающие, что такое их долг.
13 марта
Сегодня я чувствую себя великолепно, хотя и ездил за город и должен был
как будто устать... Только что вернулся домой из Перова. Угощали меня и
водкой, и американскими консервами, и ветчиной, и густым сладким компотом. В
той воинской части -- у пограничников -- выступали участники обороны
Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. От Ленинграда выступал Герой
Советского Союза снайпер Пчелинцев, ныне гвардии старший лейтенант, недавно
ездивший вместе с Людмилой Павличенко в Америку. После него выступал я,
читал очерк о встрече ленинградцев с волховчанами в день прорыва блокады --
материал хорошо мне известный.
Аудитория, состоявшая сплошь из курсантов-снайперов, встретила меня
весьма хорошо и слушала с огромным вниманием... Пчелинцев -- молодой,
худощавый, с вздернутым носом, с мягкими чертами лица -- говорил о том, как
зародилось в Ленинграде снайперское искусство. Говорил внятно, гладко,
толково.
Рядом со мной, за столом президиума, сидела женщина-майор, начальник
женской снайперской школы, -- серьезная женщина, сражавшаяся долгое время на
Ленинградском фронте. Мы нашли общих знакомых и, пока выступали другие,
вспомнили много эпизодов Отечественной войны на том, одинаково нам знакомом,
участке фронта.
14 марта
Зашел к моим родственникам -- Лагорио. Я давно знаю их, в былые времена
постоянно останавливался у них, наезжая в Москву. Старик, глава семьи,
умерший несколько лет назад, -- был превосходным инженером, суровым,
принципиальным, честнейшим служакой, любившим Родину, судившим обо всем
строго и прямо. В последние годы своей жизни он строил какие-то
военно-оборонительные сооружения на важных участках наших границ. Его
уважали, он пользовался большим авторитетом.
Старуха -- Эмилия Августовна -- жива до сих пор, ныне обретается где-то
в эвакуации, кажется в Башкирии. Их дети -- уже немолодые люди: Евгений
Лагорионыне полковник интендантской службы -- всю войну был на юге, с
недавнего времени -- опять в Москве, живет на казарменном положении. Он --
начальник топливного отдела Московского военного округа. Тамара Лагорио --
врач-терапевт, ныне начальник отделения госпиталя. Муж Тамары Юрий, почти
совсем глухой, -- инженер-механик... Отношение у меня к ним родственное, и
только. Ничто с ними не связывает меня...
Так вот, я зашел к ним. Приняли они меня как всегда -- запросто,
приветливо. Я разговаривал с Марусей -- женою Евгения (которого не застал),
-- она варила суп в комнатушке, заставленной всяким домашним скарбом, на
чугунной плитке-времянке. Говорить, собственно, было не о чем. Она тоже была
в эвакуации где-то под Горьким. Недавно вернулась, живет "зайцем" -- пока не
прописана, муж хлопочет об ее прописке... Потом разговаривал с Тамарой,
стиравшей белье в той своей квартире, ниже этажом, в которой из-за холода
никто не жил зимою и которую сегодня, в воскресенье, она решила привести в
порядок, чтоб в один из ближайших выходных дней вновь перебраться в нее. Мне
трудно было разговаривать с Юрием, -- по своей глухоте он мог слышать меня,
только когда я кричал ему прямо в ухо, а сам он -- тощий, измотанный,
неряшливо одетый -- наполнял комнату, отвечая мне, таким трубным гласом, что
я решительно ничего не понимал... Я никогда прежде даже не интересовался
толком, где он работает, какова в точности его специальность... Но вот он
заговорил о фронте, о Сталинграде, о Харькове, о Ленинграде (о последнем он
знает очень мало и приблизительно, как и многие москвичи вообще). Но во
всем, что говорил он о фронте, я почувствовал огромную его
заинтересованность войною, волнение за наши успехи и неудачи... "Вот сколько
мы послали танков туда, неужели же опять сдадим Харьков?.. " Оказалось, Юрий
работает на одном из оборонных заводов, изготовляющих танки, работает много,
не выходя из цеха порою по неделе и больше, всего себя отдавая этому
напряженному труду. "Мои танки везде, на всех фронтах!" -- с гордостью
говорил он.
Мне незачем записывать здесь все, не имеющее отношения к моей мысли, а
мысль моя о том, что я увидел перед собою горячо любящего Родину человека,
отдающего ей себя целиком в труде. Юрий много раз стремился уехать на фронт,
но ему поручили эту работу, и он отнесся к ней, как боец к боевому делу. Он
рассказывал мне о пережитых им бомбежках; о том, как взрывными волнами его
бросало о стену; о том, как недавно, испытывая танк, он был подмят и чуть не
раздавлен им, когда подкладывал под съехавшую в канаву гусеницу бревна.
Делал он это вдвоем с другим инженером, и тот был придавлен так, что через
несколько дней умер, а сам Юрий до сих пор ощущает боль в голове и груди. И
еще рассказывал Юрий о том, как дежурил он на объектах ПВО и как участвовал
в ловле диверсантов-парашютистов (он с подлинной жгучей ненавистью описывал
мне их, пойманных)... И глаза его светились любовью, когда он рассказывал
мне о рабочих с наших заводов-гигантов -- тех ленинградцах, кои были
эвакуированы из Ленинграда и работают сейчас на его заводе.
Передо мной был не равнодушный, лишь о себе думающий человек, а
страстный, благородный энтузиаст, отдающий себя целиком любимому делу,
видящий смысл своего существования только в энергичной помощи фронту и
пренебрегающий всем, что касается лично его...
Я ушел от Лагорио в хорошем, повышенном настроении, потому что думал о
том, какое великое множество таких беззаветных тружеников на нашей Руси, и о
том, что благодаря им придет к нам Победа.
... Был на выставке трофеев Отечественной войны. Все там в общем хорошо
мне знакомо, не раз виденное, а все же интересно... Вчера ездил смотреть
новую станцию метро. Мозаичные панно там особенные: их делали ленинградские
художники во время блокады, и мозаика доставлялась сюда на самолетах. Жаль,
что об этом на станции нигде не сказано!
17 марта
Позавчера мы сдали так недавно отбитый нами у немцев Харьков. А ведь
уже казалось, что прекрасное наше наступление передвинет линию фронта к
Днепру. Сейчас фронт откатился к Северному Донцу, и мы сдали Харьков. Мне
сказали сегодня, что мы сдали и Курск. Я еще не знаю, верно ли это...
Конечно, горько и тяжело. Конечно, тяжко представлять себе судьбу
несчастного населения Харькова. Но неудача эта, как ощущаю я и как ощущают
многие, уже не может изменить общего положения вещей: Германия близится к
катастрофе. Победа будет за нами. Повторится ли летом то, что было в летние
месяцы прошлого года? Покатятся ли наши армии вспять под напором новых сил
фашистской Германии? Нет! Пружина нашего фронта может сжаться опять, но она
и опять ударит по немцам с неменьшею силой, чем в эту зиму. Совершена
какая-то ошибка. Мы выскочили слишком далеко вперед, и не сумели
закрепиться, и пришлось отойти назад (слава богу, не так уж далеко!). Но эта
ошибка -- частного характера. Она будет исправлена. Резервов и техники у нас
хватит. И поскольку на Западном фронте мы именно сейчас наступаем, взяли
Ржев, Вязьму, приближаемся к Смоленску, совершенно ясно: немцы уже не могут
устоять под нашим напором на всех фронтах сразу. Значит -- ослабли. Значит
-- выдыхаются. И уж, конечно, не отсутствием у них желания бомбить Москву
можно объяснить тот факт, что за целый год на столицу нашу не было воздушных
налетов. Обессилена, в частности, и их авиация...
О союзниках наших говорить нечего. Их политика определилась вполне и
понята решительно каждым гражданином нашей страны, самой последней
неграмотною старушкой. Капиталистический мир остается капиталистическим
миром. Второго фронта ждать в ближайшее время нечего. Он может возникнуть
только тогда, когда Англия и США почувствуют, что не открыть второй фронт --
невыгодно им самим или даже для них губительно. Им хочется дождаться
одинакового бессилия и нашего и Германии, чтобы после -- таскать из огня
каштаны. Можем ли мы рассчитывать на неожиданности? На внезапный внутренний
крах Германии? На взрыв действенного сочувствия к нам народов Англии и
Соединенных Штатов, который заставил бы их правительства начать с Германией
войну по-настоящему? В ближайшее время, думаю, на это рассчитывать не
приходится. Но социальные силы несомненно зреют и копятся, и настанет день,
когда они придут в действие. Ибо -- нет сомнения! -- уже сотни миллионов
людей во всем мире искренне и горячо симпатизируют Советскому Союзу,
становятся (пока -- потенциальными) его защитниками. И несомненно также:
неверие в победу растет в германском народе; оскомина, которую все больше
ощущает он, заставит его когда-нибудь выступить против преступной войны и ее
носителя -- Гитлера. Но только все это будет не так скоро. Я помню приказ от
23 февраля, в котором прозвучало упреждение: остерегитесь, мол, излишне
скороспелых надежд. Этим приказом в значительной мере было ослаблено тяжелое
впечатление от последовавших в конце февраля и начале марта неудач на Южном
фронте. Ибо -- трезво рассуждая, -- трехмесячное наступление должно было и
замедлиться и остановиться, потому что не мог не наступить период нового
накопления сил.
Так или иначе, надежды на окончание войны в 1943 году нет, если только
не случится каких-либо чрезвычайно благоприятных обстоятельств. Предстоят и
военное лето, и еще одна военная зима, и еще весна, и лето будущего, 1944
года...
Человеку становится все тяжелее жить. Усталости в людях все больше. Но
воли к победе, уверенности в ней ни у кого не меньше. О себе люди -- часто
слышишь -- говорят так: "Ох, дожить бы только до Дня Победы... Другие
доживут, а вот я, пожалуй, не дотяну, моих сил не хватит"... Плохо, что
таких голосов много. Но хорошо, что во всяком таком голосе -- безусловная
вера в победу...
А как хорошо на душе было все три зимних месяца наступления! Люди не
спали, дожидаясь сообщения "В последний час!". Необходимыми, именно такими
обязательно долженствующими быть представлялись всем эти "Последние часы".
Силой наливался весь советский народ, -- казалось: все страшное уже
миновало; казалось:
вот месяц, два -- и дойдем до старых границ, и еще месяц-два -- рухнет
Германия... В личном быту, даже в интимной жизни сказывалось у каждого это
повышенное, бодрое настроение... Сейчас -- не то. Опять молчаливей люди. Они
или не говорят между собой о Харькове, или, во всяком случае, стараются
говорить меньше. Просто потому, что о тяжелом лучше не говорить. Но как-то
пожухли яркие краски дня, как-то нерадостно весеннее солнце, нет
непосредственности в любовании -- таком всегда естественном, органическом,
-- любовании весной. Надо опять сжаться сердцем, собрать волю, выдержку,
быть хоть и безрадостным, но таким же непоколебимым, как все эти два года
войны. Время радости -- опять отдалилось. Дожить бы до этого -- времени
радости, вспыхнувшем было прошедшей зимою перед человеческими душами --
манящим миражом... Нет, то было не озеро в жгучих песках, то был просто
мираж. Шагайте верблюды снова -- безводный путь по пустыне все еще тянется,
уходя далеко за горизонт. Озеро существует. Озеро будет. Но сколько еще
идти, идти, идти, с пересохшим от жажды ртом. Забудь сейчас эту жажду. Не
жалуйся, не делись горечью этой жажды с окружающим и, -- иди, замкнувшись в
себе. Но иди, иди, не слабей, не падай, -- озеро будет! И старайся отбросить
от себя сверлящую тебя мысль, тяжкую мысль о том, что в тот день, когда
другие дойдут до озера и жадно, вольно, радостно будут пить животворную
воду, -- тебя не окажется с ними, твой иссохший, мумифицированный ветрами
пустыни, колючими песками ее, труп будет лежать где-то на полпути, маленькой
черной точкой, следом огромного прошедшего здесь каравана...
Вот так!..
Жди, жена, в Ярославле, своего скитающегося по фронтам мужа, собери
свои силы еще на год, -- только не надо, чтоб слышался плач Ярославны!..
Собирай кизяк в петропавловской сухой степи, старуха мать москвича,
сражающегося на фронте. Еще не скоро тебе и ему возвратиться в Москву,
сойтись на пустой, ждущей вас обоих квартире!
Лежите, ценности Эрмитажа, в замшелых ящиках, -- еще не скоро появиться
вам перед взорами спокойных посетителей в зеркальных витринах...
Прислушивайся, прохожий, на Невском к свисту проплывающих в небесах над
тобою снарядов, -- еще не скоро улицы твоего города станут многолюдны и
безопасны...
Чисти конюшню проклятого фашиста, девушка-украинка, -- еще не скоро
вернуться тебе из рабства и плена на сожженную Родину.
Все будет. Только доживи до этого "будет", крепи свои силы и свое
сердце!.. Не скоро, еще не скоро, -- но победа придет. Мир, солнце,
счастье!.. Гордо борясь, не прячась, не сдаваясь духом, пересиливая
немоготу, -- дожить бы!.. А если твой путь во времени пересечет враг, --
убей его. Не бойся ни пули, ни бомбы, коль суждены они тебе, -- от них не
уйдешь. Делай свое дело, верь, крепись, а уж если придется схватиться с
врагом, -- гори пламенем ненависти, тут уж не до дум о собственной жизни. В
пламени смертельной схватки не страшно и умереть!
19 марта
Сегодня полдня провел в ГлавПУРККА. Между прочим, в аттестационном
отделе узнал: приказом от 4 марта мне присвоено звание капитана
интендантской службы. Такое звание присвоено всем корреспондентам ТАСС. Уж
не потому ли "интендантской", что военный корреспондент рассматривается как
своего рода "снабженец": снабжает печать своими корреспонденциями, то есть
духовною пищей?![1]
29 марта
... Днем ко мне в номер зашел Илья Эренбург. Мы встретились на
литературной дискуссии. Мне хотелось поговорить с ним, и Эренбург предложил
мне позвонить к нему. Вчера я звонил, договорились о встрече...
Я высказал Эренбургу мои сомнения, заговорил с ним о долге перед
Родиной. Можно ли писателю, говорящему в своих произведениях о долге перед
Родиной, о чести, о воинском подвиге, быть -- в своем личном поведении, в
своих поступках -- безнравственным, недостойным?.. И следует ли, пренебрегая
таким "раздвоением личности", подобного писателя превозносить, даже
награждать его?.. Я привел Эренбургу характерный пример.
Позже мне было присвоено звание строевого майора.
Мы сразу согласились: нельзя! И последовала очень интересная для меня
беседа. И. Г. Эренбург говорил о том, что не мог бы сейчас сесть за роман,
как ни хотелось бы ему написать роман о враге, -- без черных и белых красок,
"единственных запрещенных в искусстве!"... О том, что ежели бы он и решил
давать вместо каждодневных своих агитационных статей -- одно, два
произведения в месяц, но значительно более художественных, то воздействие
последних на читателя было бы меньшим, нежели воздействие, оказываемое
сейчас теми статьями, которые он дает. О том, что каждый, думающий об
искусстве, желающий проявить себя как подлинный художник, может сейчас
только накапливать материал, с тем чтобы предаться творчеству когда-нибудь в
будущем (если останется жив). Что во время войны писатель должен решить для
себя вопрос о цели его нынешней работы. Писать ли, не думая об успехе,
только агитационные вещи, выполнять любую требуемую от него работу, а
исподволь готовить себя к служению искусству в будущем? Или... стремясь к
успеху, пренебрегать своим каждодневным гражданским долгом, ставить себя
выше тех воинов, тех солдат, которые ждут от него именно сегодня
действенного слова писателя.
Разговор шел о крупных, всем известных писателях и их работе. Все это в
плане: следует ли отделять личность писателя от его авторской личности?
Разговор шел о достойных и недостойных личностях, и закончился разговор
следующим высказыванием Эренбурга:
"Кстати, я не верю в то, что личность может не проявиться в
произведении. Искусство умеет мстить за себя; если человек подл, то и в
произведении его это не может не чувствоваться... "
И еще:
"Только пережитое, только выстраданное отблагодарит писателя в его
произведении... "
Формулировки Эренбурга были острыми и порою элиграмматичными. Суждения
-- откровенными.
9 апреля
Хорошая, но какая тяжелая статья Эренбурга в "Правде". Прекрасная
фраза: "смерть монотонна" -- вся Европа в этой монотонности.
2 П. Лукницкий
Как представишь себе фронт -- разрушения, бытие солдата, -- какая
тоска!.. А ведь ничего не поделаешь, поддаваться этой тоске нельзя, надо
бороться! Бороться и с врагом -- неумолимым и отвратительным, и с
усталостью, с тоскою, грызущей каждого мыслящего. Не поддаваться ей -- надо!
Ничего не изменишь, ничему не поможешь, если предаться слабости духа.
Сейчас на фронтах затишье. Грозное затишье, которое оборвется скоро,
очень скоро, едва повсюду подсохнет земля, едва весна повернется на лето!
Тогда -- начнется... Новая фаза, новый период -- летняя кампания 1943 года.
Будем ли мы наступать? Или отступать, как в прошлые лета? Выступят ли
союзники? Наверное -- нет. Опять вся тяжесть -- на наших плечах, могучих
плечах, но как тяжело этим нашим плечам!..
11 апреля
Наступит день. Мы вынем из нашего быта слова "бомба", "месть",
"ненависть" с таким же удовлетворением, с каким воин вкладывает в ножны
сразивший врага кинжал. Мы начнем любить. Любить женщину и полевой цветок,
украшенный капельками росы. Любить дом, в котором можно спокойно жить.
Любить отдых.
Сейчас мы любим только Родину, и эта наша любовь к ней -- сострадание и
незыблемая вера в народ.
Откуда возникает та великая фронтовая дружба между солдатами? Она
возникает из сознания, что душа товарища мучится так же, как и твоя, и что
об этом не надо говорить. Когда солдат идет в бой, душе легче, тяжесть с нее
снимается, она становится окрыленной.
Величайшая общественная задача: помочь каждому человеку стать на тот
единственный для него путь, на котором, полностью раскрыв свои духовные
силы, он, этот человек, даст Родине максимум возможного для него.
Потребность патриота -- отдать себя Родине полностью, по возможностям,
в нем заложенным.
12 апреля
Прилетел из Ленинграда заведующий Книжной лавкой писателей.
Рассказывает: бомбежка 4 апреля была незначительной, 5 апреля бомбежка
была сильной. Разрушена телефонная станция на улице Марата, разрушена 5-я
ГЭС. Около тридцати тонновых бомб упали на какую-то не имеющую большого
значения фабрику в районе Международного проспекта. Падали бомбы на Марсово
поле, в Летний сад, много бомб упало в Неву и Фонтанку, несколько -- на
площадь Урицкого, одна -- на угол Марата и Невского. Повреждения
незначительные. Но бомбежки последнее время бывают почти ежедневно, на город
падает в среднем по восемь -- десять бомб. Обстрелы продолжаются с прежней
интенсивностью. Тем не менее театры полны, аншлаги в Академическом, полно в
других. Жизнь не нарушается, идет как обычно.
Все интересующие меня дома, о которых может знать мой собеседник
(вылетевший из Ленинграда 7 апреля), -- надстройка писателей, Дом Красной
Армии, Дом имени Маяковского, Штаб, Госиздат -- целы.
13 апреля
Другой человек, вчера прилетевший из Ленинграда, рассказывал:
сильнейшая бомбежка города была 9 апреля. Бомбами разбиты цирк, дома на
Моховой улице, дома вблизи Октябрьского вокзала в Московском районе и пр.
Обстреливаются шрапнелью одновременно все районы города. 5 апреля налетало
триста самолетов, к городу прорвались десятки.
2*
Нева у Арбузова форсирована! 1943 г,
Сегодня, воспользовавшись первым успехом наступления своих соседей на
флангах немецкой группировки, вновь со стороны Невы и Шлиссельбургской губы
двинулись в бой -- в лоб на Синявино -- войска 67-й и 2-й Ударной армий.
Ближайшая их задача -- ликвидировать давно окруженные, но до сих пор не
взятые, изрядно нам надосадившие узлы обороны немцев в 1-м и 2-м городках
имени Кирова и 8-ю ГЭС, на берегу Невы, а затем выровнять здесь линию
фронта, взяв приневский укрепленный узел Арбузово[1].
[1] Первые три пункта частями 67-й и 2-й Ударной армий были взяты нами
в боях с 13 по 15 февраля, а 20-го взятием северной окраины Арбузова линия
фронта с этой стороны была выровнена. 17 февраля части левого фланга 55-й
армии (45-я гвардейская дивизия и лыжная бригада Потехина) продвинулись на
четыре километра вперед, оттеснив противника к реке Тосне.
В эти дни немцы подбросили сюда полки нескольких дивизий, сняв их
из-под Урицка и с Синявинских высот, а в районе наступавшей 54-й армии
Волховского фронта -- из-под Чудова и Синявина -- до четырех дивизий. Наши
части, продвинувшись на востоке на пять километров, а со стороны Колпина на
четырнадцать километров (но на левом фланге не прорвав оборону немцев за
рекой Тосной), вынуждены были вести столь тяжелые бои, что "ставка
Верховного Главнокомандования 27 февраля приказала прекратить дальнейшее
наступление и начать подготовку новой наступательной операции... В марте
1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов вновь перешли в
наступление, стремясь завершить разгром мгинско-синявинской группировки
противника"... Но и эта операция не привела к успеху. Однако "... удерживая
все это время в своих руках инициативу, наши войска нанесли соединениям 18-й
немецкой армии крупные потери и сорвали план наступления противника на
Ленинград. Они сковали под Ленинградом около 30 вражеских дивизий в тот
период, когда на южном фланге советско-германского фронта Советская Армия,
преследуя разбитого на Волге и Северном Кавказе врага, успешно развивала
наступление на запад.
В связи с наступившей распутицей и возросшим сопротивлением гитлеровцев
ставка Верховного Главнокомандования, приняв предложения командующих
фронтами, 2 апреля приказала прекратить наступление, закрепиться на
достигнутых рубежах и организовать здесь прочную, глубоко эшелонированную
оборону... "
("Битва за Ленинград". М., Воениздат, 1964, стр. 277--278).
Примечание автора. Все примечания к тексту книги везде далее даны
автором.
Путь в Кобону
13 февраля. Кобона
... Уговорившись с А. Прокофьевым, направляемым на Волховский фронт во
2-ю Ударную армию, ехать до Кобоны вместе, мы, и художник М. А. Гордон, в 7
часов вечера выехали поездом из Ленинграда. От Финляндского вокзала до
станции Ладожское озеро ехали два с половиной часа. В пути обменивались
новостями, рассуждали о войне, о южных фронтах, о близящейся катастрофе
Германии.
А потом, после многих и долгих хлопот, ехали в кузове попутного
грузовика через Ладожское озеро, минуя огни бакенов, укрепленных на льду,
встречая и обгоняя огни бегущих машин. Но по сравнению с прошлым годом машин
было мало, и направлявшиеся к Кобоне шли порожняком.
Все вокруг было мне давно знакомо: регулировщики, ветер, лед со
сметенным с него снегом, ниши зениток, костры. Приятно сознавать, что трассу
больше не обстреливают артиллерией -- немца на берегу Ладоги нет! И южный
берег, всегда прежде декорированный вспышками ракет, теперь темен и не
угадывается в ночи. Ночь особенно тусклая, изморозь, мрак, оттепель...
Остановка -- посреди озера. Хнычущий голос: "Возьми, прицепи!.. " --
шофер застрявшего грузовика умоляет взять его на буксир. Наш соглашается.
Вместе, в свете фар задней машины, ладят трос. Разговор, состоящий
преимущественно из непечатных слов. Но смысл его таков: "Сколько проехало,
ни один не останавливается, как ни просил... А ты -- хороший человек!" --
"Ну, еще неизвестно, хороший ли?" -- "Хороший, хороший! Кабы не ты, просидел
бы я здесь всю ночь!" -- "А я вот никогда не сижу... Если остановлюсь,
каждый спросит: "Горбачев из первой роты? Не нужно ли тебе чего? Горбачева
из первой роты все знают!.. "
Километров через пятнадцать на какой-то кочке трос оборвался, я заметил
фары оставшейся далеко -- почти на горизонте -- машины, а за нами волочился
по льду только трос...
Ближе к восточному берегу какие-то во тьме конные
обозы, шатры, палатки, темнеющие линии не разберу чего... Уже у пирсов
шофер заблудился, стал кружить, ища дорогу, а за ним гуськом кружили штук
шесть машин... Но вот выехали к пирсам, шофер сказал: "Я на склад, а вам
туда -- в деревню!"
Оставив машину, мы долго плутали, Прокофьев не узнавал своей родной
деревни Кобоны. Обошли ее крутом и -- в половине третьего ночи -- ввалились
в домик дяди Прокофьева, ныне занимаемый его сестрой, служащей эвакопункта.
В доме спали, Прокофьев поднял всех, сказал: "Собери нам, Маша!", и,
радостно принятые, в тепле, мы умылись, отдышались. Вскипел самовар, пили
чай. В пятом часу утра я лег спать, раздевшись, на тахте, в чистых
простынях.
-- А я ночь не спала! -- говорит утром Клава, двоюродная сестра
Александра Прокофьева. -- И не ложилась вовсе!.. В подпол ходила, картошку
перебрала всю. Днем-то еще неизвестно, какая погода будет. Вы знаете, в
ясную погоду мы ничего не делаем, только на небо и смотрим. А для дел
пасмурную погоду выбираем. Он в пасмурную погоду не летает...
23 ноября немцы сбросили на деревню Кобону сорок шесть бомб. Налетают
часто, бросают бомбы по три зараз. И обстреливают из пулеметов. Летают все
по ночам -- в ясные ночи. Недавно бомбили четыре ночи подряд. И только на
четвертую над озером нашим удалось сбить бомбардировщик. Пятеро немцев взяты
в плен, шестого застрелили...
4 часа. Войбокало
Расставшись с Прокофьевым и его родственниками, я в случайном
автомобиле скорой помощи выехал в Войбокалу... Эвакопункты, пирсы ледовой
трассы, деревня. Шум, летчики -- все знакомое мне с прошлого года по 8-й и
54-й армиям... Сколько новых дел, людей, боевых эпизодов предстоит мне
узнать в здешнем фронтовом краю!..
Вызов в Москву
17 февраля. Поезд Волхов -- Москва
Уже не одну телеграмму в Ленинграде за прошедшие полтора месяца получил
я от ТАСС с требованием выехать в Москву! Как бы я себя чувствовал там, в
момент, когда наши войска здесь прорывали блокаду!.. Мне тогда удалось
отвертеться, кое-как сумел объяснить, что "обстановка требует моего
пребывания на Ленинградском фронте". Убедил! Оставили! Везде побывал, все
увидел, все о прорыве знаю, и горжусь этим, и радость испытал невыразимую.
Теперь опять! Послав в ТАСС несколько корреспонденции о действиях
Волховского и Ленинградского фронтов, получил по телеграфу холодное,
категорическое требование выехать в Москву. Попытка отговориться фронтовыми
событиями не помогла; повторили: "Выехать немедленно!" Прекрасно понимаю,
чего хотят: отправить на другой фронт. А я хочу быть только на
Ленинградском. Снимем блокаду совсем, нечего станет здесь делать, тогда --
пожалуйста, куда угодно!
Еду в Москву, прямому приказу надо подчиняться. Но посмотрим, удастся
ли ТАСС вырвать меня из Ленинграда! Логика -- за меня!
... Все последнее время вражеская авиация систематически налетает на
железную дорогу в районе Волхова. Хочет помешать доставке в Ленинград
подкреплений. Особенно бомбит дорогу на участке от Шлиссельбурга до Званки.
10 февраля на станцию Пупышево налетели четыре бомбардировщика, одна бомба
попала в цистерну с бензином, восемь цистерн сгорели, разбиты четыре вагона
с красноармейцами. Один из самолетов сбит зенитками...
В Волховстрое дикая неразбериха с билетами, посадкой пассажиров и всем,
что относится к службе движения. Хотя билет у меня есть, все ж надо идти
регистрироваться к этапному коменданту. Оттуда -- на "Безымянную, 26", за
полтора километра, к другому коменданту, за посадочным талоном. Оттуда -- в
кассу (домик в полукилометре от станции), компостировать. Все -- в темноте,
все -- неизвестно где, все -- с очередями. Измотаешься!
После длительной беготни и перекрестных расспросов удалось выяснить,
что поезд из Волховстроя идет через Вологду, на Буй и два вагона в нем --
через Ярославль в Москву. От станции Волховстрой осталось только название:
все разбито. Год назад все было цело. Город стал неузнаваем. Разрушены
здания горсовета, НКВД, множество других зданий, а вблизи станции --
полностью все кварталы. Бомбежки продолжаются по сию пору. Но движение
поездов ничуть не уменьшилось.
Выехал в теплушке. Поезд переполнен эвакуируемыми из Ленинграда. И
поныне еще их везут каждый день -- и стариков, и женщин, и детей.
В пути было сообщение: взяты четыре города. Пассажиры называют:
Краснодар, Ворошиловград, Шахты. Спорят: то ли еще Красноармейск, то ли
Первомайск. Слышу фразы: "Ничего! Научились мы воевать!", "Так их (по
матушке), скорей бы всех их уничтожить!", "А пойдет так, пожалуй, к весне
всю Украину очистим... ", "Сеять будем на Украине!", "И очень даже просто!..
", "А вот у нас, на Ленинградском, заедает что-то... "
Другой вразумляет: "Так ведь у нас и условия другие... " И третий: "Да,
тут танками не пройдешь!.. " И еще один: "Закопался он здорово!.. "
"А Войбокалу и сейчас по ночам обстреливает. Из Мги, наверно, -- сорок
пять километров от нее!"
"Достает?"
"Достает, проклятый. Днем не бьет, только по ночам... "
В Ярославле встретился с отцом. Мне повезло: ему как раз дали
командировку в Москву, сейчас он едет вместе со мной, генеральское звание и
вызов высокого военного начальства помогли отцу сесть в поезд без хлопот.
Еду теперь уже не в теплушке, а в пассажирском, плацкартном вагоне.
... Никто ничего не говорит о сегодняшних делах на Ленинградском
фронте, абсолютное большинство, очевидно, не знает о них, Совинформбюро
сообщений не давало.
А я о них думаю непрестанно.
Удивительный все-таки человек Николай Павлович Симоняк! Оборона Ханко и
Пулковских высот, прорыв блокады -- его первая заслуга в удаче форсирования
Невы и самом прорыве. Сейчас его 63-я гвардейская -- снова первая ударная
сила: именно полки Симоняка брали Красный Бор, он, ничего не боясь, сам
бывает в наиболее опасных местах, изучает досконально обстановку, в какой
заваривается его повелением бой... А вот левее 63-й, на усть-тосненском
участке генерал А. А. Краснов, командующий 45-й гвардейской дивизией... Ему
не удалось развить наступление в решающие дни прорыва блокады. Ему не
удалось и сейчас прорвать оборону немцев на реке Тосне. Необходимо сказать,
конечно, что эту оборону немцы укрепляли шестнадцать месяцев, превратили
правобережье Тосны в сильнейший рубеж[1]. Но ведь и Красный Бор -- некогда
мирный поселок, в котором до войны было около двадцати тысяч жителей, а ныне
не осталось ни одного, -- такой же считавшийся немцами неприступным рубеж. А
вот Симоняк взял его в первый же день наступления своей славной дивизии,
после прорыва блокады переброшенной в состав 55-й армии и двинувшейся в бой
вместе с танками 1-й краснознаменной бригады, впереди других. 269-й, 270-й,
342-й полки дивизии Симоняка снова на устах у всех знающих боевые дела на
фронте.
... А Синявино, Мга будут взяты, как будут освобождены и все города,
села, деревни нашей великой страны. Порукой этому -- героизм миллионов
советских людей!
Я приехал в Москву. Как и предполагал, меня решили было сделать
разъездным корреспондентом по всем фронтам, с тем чтобы между поездками я
жил в Москве. Ради того чтобы не оставлять Ленинград, я готов был даже
расстаться с ТАСС вообще и добиться перевода в одну из воинских частей
Ленинградского фронта. Об этом я поставил в известность руководство ТАСС и,
пока находился в Москве, стал добиваться нужных мне результатов в Главном
Политическом Управлении Красной Армии, в кадрах которого состояли многие
спецвоенкоры органов центральной печати. В ожидании решения моей
[1] После взятия Красного Бора и неудачи на левом усть-тосненском
фланге новым командиром 45-й гвардейской дивизии был назначен "симоняковец"
Савелий Михайлович Путилов, отлично руководивший прекрасными людьми дивизии
во всех последовавших боях.
судьбы я писал в Москве для газет и журналов, для разных международных
комитетов и для Совинформбюро рассказы, очерки и корреспонденции о людях
Ленинградского фронта.
ТАСС долго задерживал меня в Москве. Здесь состоялось межфронтовое
многодневное совещание военных корреспондентов, мне было поручено
проанализировать все корреспонденции нескольких военкоров, выступить с
докладом и рекомендациями. Происходили собеседования по поводу методов
работы ТАСС и в Центральном Комитете партии. Выступая на совещании, пришлось
резко и откровенно говорить о недостатках этой работы: о серости,
безликости, штампованности публикуемого материала, -- я был дружно поддержан
редакторами "Вечерней Москвы", "Красного флота", "Труда", "Московского
большевика" и других газет. Эти редакторы высказывали желание получать от
ТАСС и рассказы, и очерки, и, главное, материал не от "одного
корреспондента, подписывающегося десятком фамилий", а от многих,
отличающихся друг от друга своей манерой писать. В результате были вынесены
полезные для общего дела решения.
После совещания ТАСС согласился оставить меня до конца блокады на
Ленинградском фронте, дав возможность публиковать через его редакции не
только сухой репортаж, но и рассказы, и художественные очерки. Окрыленный
этим обещанием, я выехал в Ленинград.
Мой московский дневник этого времени не имеет прямого отношения к
обороне Ленинграда, поэтому здесь я даю лишь несколько записей,
представляющихся мне ценными "с ленинградской точки зрения".
Встречи, размышления и наблюдения
6 марта. Гостиница "Москва"
В письме Мухтару Ауэзову в Алма-Ату пишу о пережитом в Ленинграде, о
фронтовой жизни. И продолжаю так:
"... Но я все-таки доволен и ни за что не променял бы эту жизнь на
прозябание в глубоком тылу, став подобным тем некоторым из наших
"эвакуантов", коих, находящихся в жалком состоянии, ты встречаешь у себя в
АлмаАте. Я с грустью убеждаюсь в том, сколь многие, в единственном
стремлении во что бы то ни стало сохранить свое существование, утратили и
чувство собственного достоинства и вообще человеческий облик.
У нас, в Ленинграде, людей мало, люди очень нужны. Я за это время
узнал, что родной город можно любить, как близкого родного человека, -- я не
могу жить без Ленинграда, несмотря на то что в нем как будто и одинок и
бездомен: квартира моя разбита, ни жены, ни родственников у меня в нем нет.
И уж если суждено мне будет дожить до того светлого дня, когда ни
одного гитлеровца под Ленинградом не станет, -- я знаю, что всю жизнь буду
считать правильным свое решение не покидать этот город, несмотря ни на что,
какие бы трудности на мою долю ни выпали.
Вот, Мухтар-ага, я знаю, ты меня поймешь, ты знаешь, что такое любовь к
родине, ты любишь свой родной тебе Казахстан, мог ли бы ты покинуть
Алма-Ату, если б твой город осаждали враги? Я уверен: ты оказался бы в рядах
самых упорных его защитников... Вот ты зовешь меня пожить у тебя спокойно.
Нет, Мухтар, я приеду в Среднюю Азию и в Казахстан тогда, когда буду
сознавать, что мой долг перед войной выполнен до конца, что я заслужил право
отдыхать и быть равным среди казахов так же, как я сейчас равный среди людей
на фронте, отдавших себя служению Родине... И тебя тогда позову в гости к
себе в Ленинград, мне не совестно будет чувствовать себя в нем хозяином...
Кое-кто, преисполненный высокомерия, со скептической усмешкой называет
меня романтиком! Что ж, быть романтиком в том смысле, что человек сохраняет
любовь к Человеку, когда многие это чувство утратили, быть романтиком в том
смысле, что человек не считает извечно высокие понятия словесной мишурой, --
разве так уж плохо?
Я, Мухтар, был свидетелем стольких случаев подлинного героизма, что не
мне утратить веру в чистоту вековечных принципов. И если многое в нашем
мире, даже до этой ужасной войны, было несовершенно, то разве следует
удивляться, что всякий стремящийся к совершенству художник видит пути к
совершенству везде и во всем и
верит в существование доброй воли к достижению этого совершенства?
И разве не следует все личное направлять в то единое русло, которое
ведет к этой цели?..
А проще сказать: я могу в этой войне растрачивать свои силы, свое
здоровье, но не могу и не хочу растрачивать свою душу... "
Только что по морозцу, под рядами тускло посвечивающих, обозначающих
лишь направление улиц фонарей, вернулся из филиала МХАТ, где смотрел "Школу
злословия", хорошо исполненную и потому весьма освежающую. Это -- чуть ли не
первый спектакль, посещенный мною за все время войны...
10 марта. Вечер
Кругом разговоры -- "зачем вам ехать сейчас в Ленинград?.. ".
Слов нет, мой организм настойчиво требует юга, солнца, отдыха, -- я
никогда прежде не мог высидеть за работой в Ленинграде дольше, чем несколько
зимних месяцев.
Да, это так хорошо: солнце, юг, покой, отдых, обстановка, не требующая
непрестанного нервного напряжения, что об этом можно мечтать, я это вижу
даже во сне. Но я гоню от себя эти мысли, как искушение дьявола. Ибо не
вернуться в Ленинград значило бы продать свою душу.
Один из приятельствующих со мною писателей уверял меня: "Это --
фетишизм, думать, что твой долг быть именно в Ленинграде. Будто ты не можешь
быть полезен в другом месте?.. " Но я тут же ловил себя на мысли: сей
приятель высказался так потому, что сам в Ленинград возвращаться не
собирается.
Голос совести говорит: "Поезжай в Ленинград и оставайся там до конца.
Может случиться: погибнешь, может статься: на всю жизнь останешься
полуживым, но поезжай туда и будь там!"
Вчера, вверх по улице Горького -- по широкому чистому асфальту,
освещенному празднично-ярким весенним солнцем, -- шел батальон пехоты. Шли
командиры в золотых погонах, одетые чисто и опрятно. Шли колонны
красноармейцев, кто в погонах, кто еще без погон. Шли [в] ботинках с
обмотками, в затрепанных, грязных шинелях, с узелками за спиной, без
винтовок. Люди были усталыми, лица их были серыми. Весенняя таль уже
расхлябила снег, подснежная вода выбивалась с асфальта. Многие красноармейцы
шли в валенках... Я понимал: этот батальон был только что сформирован из
состава разных частей, из людей, прибывших с фронта. Он был принят свежими
командирами...
Фронт от Москвы проходит в ста тридцати километрах, но Москва уже так
отвыкла от чувства близости к фронту, так отвыкла от всего прямо
напоминающего ей о фронте, что прохожие останавливались и смотрели на эту
нестройную, разномастную воинскую часть... Это шли защитники Москвы, шли
люди, готовые умереть за Родину, знающие, что такое их долг.
13 марта
Сегодня я чувствую себя великолепно, хотя и ездил за город и должен был
как будто устать... Только что вернулся домой из Перова. Угощали меня и
водкой, и американскими консервами, и ветчиной, и густым сладким компотом. В
той воинской части -- у пограничников -- выступали участники обороны
Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. От Ленинграда выступал Герой
Советского Союза снайпер Пчелинцев, ныне гвардии старший лейтенант, недавно
ездивший вместе с Людмилой Павличенко в Америку. После него выступал я,
читал очерк о встрече ленинградцев с волховчанами в день прорыва блокады --
материал хорошо мне известный.
Аудитория, состоявшая сплошь из курсантов-снайперов, встретила меня
весьма хорошо и слушала с огромным вниманием... Пчелинцев -- молодой,
худощавый, с вздернутым носом, с мягкими чертами лица -- говорил о том, как
зародилось в Ленинграде снайперское искусство. Говорил внятно, гладко,
толково.
Рядом со мной, за столом президиума, сидела женщина-майор, начальник
женской снайперской школы, -- серьезная женщина, сражавшаяся долгое время на
Ленинградском фронте. Мы нашли общих знакомых и, пока выступали другие,
вспомнили много эпизодов Отечественной войны на том, одинаково нам знакомом,
участке фронта.
14 марта
Зашел к моим родственникам -- Лагорио. Я давно знаю их, в былые времена
постоянно останавливался у них, наезжая в Москву. Старик, глава семьи,
умерший несколько лет назад, -- был превосходным инженером, суровым,
принципиальным, честнейшим служакой, любившим Родину, судившим обо всем
строго и прямо. В последние годы своей жизни он строил какие-то
военно-оборонительные сооружения на важных участках наших границ. Его
уважали, он пользовался большим авторитетом.
Старуха -- Эмилия Августовна -- жива до сих пор, ныне обретается где-то
в эвакуации, кажется в Башкирии. Их дети -- уже немолодые люди: Евгений
Лагорионыне полковник интендантской службы -- всю войну был на юге, с
недавнего времени -- опять в Москве, живет на казарменном положении. Он --
начальник топливного отдела Московского военного округа. Тамара Лагорио --
врач-терапевт, ныне начальник отделения госпиталя. Муж Тамары Юрий, почти
совсем глухой, -- инженер-механик... Отношение у меня к ним родственное, и
только. Ничто с ними не связывает меня...
Так вот, я зашел к ним. Приняли они меня как всегда -- запросто,
приветливо. Я разговаривал с Марусей -- женою Евгения (которого не застал),
-- она варила суп в комнатушке, заставленной всяким домашним скарбом, на
чугунной плитке-времянке. Говорить, собственно, было не о чем. Она тоже была
в эвакуации где-то под Горьким. Недавно вернулась, живет "зайцем" -- пока не
прописана, муж хлопочет об ее прописке... Потом разговаривал с Тамарой,
стиравшей белье в той своей квартире, ниже этажом, в которой из-за холода
никто не жил зимою и которую сегодня, в воскресенье, она решила привести в
порядок, чтоб в один из ближайших выходных дней вновь перебраться в нее. Мне
трудно было разговаривать с Юрием, -- по своей глухоте он мог слышать меня,
только когда я кричал ему прямо в ухо, а сам он -- тощий, измотанный,
неряшливо одетый -- наполнял комнату, отвечая мне, таким трубным гласом, что
я решительно ничего не понимал... Я никогда прежде даже не интересовался
толком, где он работает, какова в точности его специальность... Но вот он
заговорил о фронте, о Сталинграде, о Харькове, о Ленинграде (о последнем он
знает очень мало и приблизительно, как и многие москвичи вообще). Но во
всем, что говорил он о фронте, я почувствовал огромную его
заинтересованность войною, волнение за наши успехи и неудачи... "Вот сколько
мы послали танков туда, неужели же опять сдадим Харьков?.. " Оказалось, Юрий
работает на одном из оборонных заводов, изготовляющих танки, работает много,
не выходя из цеха порою по неделе и больше, всего себя отдавая этому
напряженному труду. "Мои танки везде, на всех фронтах!" -- с гордостью
говорил он.
Мне незачем записывать здесь все, не имеющее отношения к моей мысли, а
мысль моя о том, что я увидел перед собою горячо любящего Родину человека,
отдающего ей себя целиком в труде. Юрий много раз стремился уехать на фронт,
но ему поручили эту работу, и он отнесся к ней, как боец к боевому делу. Он
рассказывал мне о пережитых им бомбежках; о том, как взрывными волнами его
бросало о стену; о том, как недавно, испытывая танк, он был подмят и чуть не
раздавлен им, когда подкладывал под съехавшую в канаву гусеницу бревна.
Делал он это вдвоем с другим инженером, и тот был придавлен так, что через
несколько дней умер, а сам Юрий до сих пор ощущает боль в голове и груди. И
еще рассказывал Юрий о том, как дежурил он на объектах ПВО и как участвовал
в ловле диверсантов-парашютистов (он с подлинной жгучей ненавистью описывал
мне их, пойманных)... И глаза его светились любовью, когда он рассказывал
мне о рабочих с наших заводов-гигантов -- тех ленинградцах, кои были
эвакуированы из Ленинграда и работают сейчас на его заводе.
Передо мной был не равнодушный, лишь о себе думающий человек, а
страстный, благородный энтузиаст, отдающий себя целиком любимому делу,
видящий смысл своего существования только в энергичной помощи фронту и
пренебрегающий всем, что касается лично его...
Я ушел от Лагорио в хорошем, повышенном настроении, потому что думал о
том, какое великое множество таких беззаветных тружеников на нашей Руси, и о
том, что благодаря им придет к нам Победа.
... Был на выставке трофеев Отечественной войны. Все там в общем хорошо
мне знакомо, не раз виденное, а все же интересно... Вчера ездил смотреть
новую станцию метро. Мозаичные панно там особенные: их делали ленинградские
художники во время блокады, и мозаика доставлялась сюда на самолетах. Жаль,
что об этом на станции нигде не сказано!
17 марта
Позавчера мы сдали так недавно отбитый нами у немцев Харьков. А ведь
уже казалось, что прекрасное наше наступление передвинет линию фронта к
Днепру. Сейчас фронт откатился к Северному Донцу, и мы сдали Харьков. Мне
сказали сегодня, что мы сдали и Курск. Я еще не знаю, верно ли это...
Конечно, горько и тяжело. Конечно, тяжко представлять себе судьбу
несчастного населения Харькова. Но неудача эта, как ощущаю я и как ощущают
многие, уже не может изменить общего положения вещей: Германия близится к
катастрофе. Победа будет за нами. Повторится ли летом то, что было в летние
месяцы прошлого года? Покатятся ли наши армии вспять под напором новых сил
фашистской Германии? Нет! Пружина нашего фронта может сжаться опять, но она
и опять ударит по немцам с неменьшею силой, чем в эту зиму. Совершена
какая-то ошибка. Мы выскочили слишком далеко вперед, и не сумели
закрепиться, и пришлось отойти назад (слава богу, не так уж далеко!). Но эта
ошибка -- частного характера. Она будет исправлена. Резервов и техники у нас
хватит. И поскольку на Западном фронте мы именно сейчас наступаем, взяли
Ржев, Вязьму, приближаемся к Смоленску, совершенно ясно: немцы уже не могут
устоять под нашим напором на всех фронтах сразу. Значит -- ослабли. Значит
-- выдыхаются. И уж, конечно, не отсутствием у них желания бомбить Москву
можно объяснить тот факт, что за целый год на столицу нашу не было воздушных
налетов. Обессилена, в частности, и их авиация...
О союзниках наших говорить нечего. Их политика определилась вполне и
понята решительно каждым гражданином нашей страны, самой последней
неграмотною старушкой. Капиталистический мир остается капиталистическим
миром. Второго фронта ждать в ближайшее время нечего. Он может возникнуть
только тогда, когда Англия и США почувствуют, что не открыть второй фронт --
невыгодно им самим или даже для них губительно. Им хочется дождаться
одинакового бессилия и нашего и Германии, чтобы после -- таскать из огня
каштаны. Можем ли мы рассчитывать на неожиданности? На внезапный внутренний
крах Германии? На взрыв действенного сочувствия к нам народов Англии и
Соединенных Штатов, который заставил бы их правительства начать с Германией
войну по-настоящему? В ближайшее время, думаю, на это рассчитывать не
приходится. Но социальные силы несомненно зреют и копятся, и настанет день,
когда они придут в действие. Ибо -- нет сомнения! -- уже сотни миллионов
людей во всем мире искренне и горячо симпатизируют Советскому Союзу,
становятся (пока -- потенциальными) его защитниками. И несомненно также:
неверие в победу растет в германском народе; оскомина, которую все больше
ощущает он, заставит его когда-нибудь выступить против преступной войны и ее
носителя -- Гитлера. Но только все это будет не так скоро. Я помню приказ от
23 февраля, в котором прозвучало упреждение: остерегитесь, мол, излишне
скороспелых надежд. Этим приказом в значительной мере было ослаблено тяжелое
впечатление от последовавших в конце февраля и начале марта неудач на Южном
фронте. Ибо -- трезво рассуждая, -- трехмесячное наступление должно было и
замедлиться и остановиться, потому что не мог не наступить период нового
накопления сил.
Так или иначе, надежды на окончание войны в 1943 году нет, если только
не случится каких-либо чрезвычайно благоприятных обстоятельств. Предстоят и
военное лето, и еще одна военная зима, и еще весна, и лето будущего, 1944
года...
Человеку становится все тяжелее жить. Усталости в людях все больше. Но
воли к победе, уверенности в ней ни у кого не меньше. О себе люди -- часто
слышишь -- говорят так: "Ох, дожить бы только до Дня Победы... Другие
доживут, а вот я, пожалуй, не дотяну, моих сил не хватит"... Плохо, что
таких голосов много. Но хорошо, что во всяком таком голосе -- безусловная
вера в победу...
А как хорошо на душе было все три зимних месяца наступления! Люди не
спали, дожидаясь сообщения "В последний час!". Необходимыми, именно такими
обязательно долженствующими быть представлялись всем эти "Последние часы".
Силой наливался весь советский народ, -- казалось: все страшное уже
миновало; казалось:
вот месяц, два -- и дойдем до старых границ, и еще месяц-два -- рухнет
Германия... В личном быту, даже в интимной жизни сказывалось у каждого это
повышенное, бодрое настроение... Сейчас -- не то. Опять молчаливей люди. Они
или не говорят между собой о Харькове, или, во всяком случае, стараются
говорить меньше. Просто потому, что о тяжелом лучше не говорить. Но как-то
пожухли яркие краски дня, как-то нерадостно весеннее солнце, нет
непосредственности в любовании -- таком всегда естественном, органическом,
-- любовании весной. Надо опять сжаться сердцем, собрать волю, выдержку,
быть хоть и безрадостным, но таким же непоколебимым, как все эти два года
войны. Время радости -- опять отдалилось. Дожить бы до этого -- времени
радости, вспыхнувшем было прошедшей зимою перед человеческими душами --
манящим миражом... Нет, то было не озеро в жгучих песках, то был просто
мираж. Шагайте верблюды снова -- безводный путь по пустыне все еще тянется,
уходя далеко за горизонт. Озеро существует. Озеро будет. Но сколько еще
идти, идти, идти, с пересохшим от жажды ртом. Забудь сейчас эту жажду. Не
жалуйся, не делись горечью этой жажды с окружающим и, -- иди, замкнувшись в
себе. Но иди, иди, не слабей, не падай, -- озеро будет! И старайся отбросить
от себя сверлящую тебя мысль, тяжкую мысль о том, что в тот день, когда
другие дойдут до озера и жадно, вольно, радостно будут пить животворную
воду, -- тебя не окажется с ними, твой иссохший, мумифицированный ветрами
пустыни, колючими песками ее, труп будет лежать где-то на полпути, маленькой
черной точкой, следом огромного прошедшего здесь каравана...
Вот так!..
Жди, жена, в Ярославле, своего скитающегося по фронтам мужа, собери
свои силы еще на год, -- только не надо, чтоб слышался плач Ярославны!..
Собирай кизяк в петропавловской сухой степи, старуха мать москвича,
сражающегося на фронте. Еще не скоро тебе и ему возвратиться в Москву,
сойтись на пустой, ждущей вас обоих квартире!
Лежите, ценности Эрмитажа, в замшелых ящиках, -- еще не скоро появиться
вам перед взорами спокойных посетителей в зеркальных витринах...
Прислушивайся, прохожий, на Невском к свисту проплывающих в небесах над
тобою снарядов, -- еще не скоро улицы твоего города станут многолюдны и
безопасны...
Чисти конюшню проклятого фашиста, девушка-украинка, -- еще не скоро
вернуться тебе из рабства и плена на сожженную Родину.
Все будет. Только доживи до этого "будет", крепи свои силы и свое
сердце!.. Не скоро, еще не скоро, -- но победа придет. Мир, солнце,
счастье!.. Гордо борясь, не прячась, не сдаваясь духом, пересиливая
немоготу, -- дожить бы!.. А если твой путь во времени пересечет враг, --
убей его. Не бойся ни пули, ни бомбы, коль суждены они тебе, -- от них не
уйдешь. Делай свое дело, верь, крепись, а уж если придется схватиться с
врагом, -- гори пламенем ненависти, тут уж не до дум о собственной жизни. В
пламени смертельной схватки не страшно и умереть!
19 марта
Сегодня полдня провел в ГлавПУРККА. Между прочим, в аттестационном
отделе узнал: приказом от 4 марта мне присвоено звание капитана
интендантской службы. Такое звание присвоено всем корреспондентам ТАСС. Уж
не потому ли "интендантской", что военный корреспондент рассматривается как
своего рода "снабженец": снабжает печать своими корреспонденциями, то есть
духовною пищей?![1]
29 марта
... Днем ко мне в номер зашел Илья Эренбург. Мы встретились на
литературной дискуссии. Мне хотелось поговорить с ним, и Эренбург предложил
мне позвонить к нему. Вчера я звонил, договорились о встрече...
Я высказал Эренбургу мои сомнения, заговорил с ним о долге перед
Родиной. Можно ли писателю, говорящему в своих произведениях о долге перед
Родиной, о чести, о воинском подвиге, быть -- в своем личном поведении, в
своих поступках -- безнравственным, недостойным?.. И следует ли, пренебрегая
таким "раздвоением личности", подобного писателя превозносить, даже
награждать его?.. Я привел Эренбургу характерный пример.
Позже мне было присвоено звание строевого майора.
Мы сразу согласились: нельзя! И последовала очень интересная для меня
беседа. И. Г. Эренбург говорил о том, что не мог бы сейчас сесть за роман,
как ни хотелось бы ему написать роман о враге, -- без черных и белых красок,
"единственных запрещенных в искусстве!"... О том, что ежели бы он и решил
давать вместо каждодневных своих агитационных статей -- одно, два
произведения в месяц, но значительно более художественных, то воздействие
последних на читателя было бы меньшим, нежели воздействие, оказываемое
сейчас теми статьями, которые он дает. О том, что каждый, думающий об
искусстве, желающий проявить себя как подлинный художник, может сейчас
только накапливать материал, с тем чтобы предаться творчеству когда-нибудь в
будущем (если останется жив). Что во время войны писатель должен решить для
себя вопрос о цели его нынешней работы. Писать ли, не думая об успехе,
только агитационные вещи, выполнять любую требуемую от него работу, а
исподволь готовить себя к служению искусству в будущем? Или... стремясь к
успеху, пренебрегать своим каждодневным гражданским долгом, ставить себя
выше тех воинов, тех солдат, которые ждут от него именно сегодня
действенного слова писателя.
Разговор шел о крупных, всем известных писателях и их работе. Все это в
плане: следует ли отделять личность писателя от его авторской личности?
Разговор шел о достойных и недостойных личностях, и закончился разговор
следующим высказыванием Эренбурга:
"Кстати, я не верю в то, что личность может не проявиться в
произведении. Искусство умеет мстить за себя; если человек подл, то и в
произведении его это не может не чувствоваться... "
И еще:
"Только пережитое, только выстраданное отблагодарит писателя в его
произведении... "
Формулировки Эренбурга были острыми и порою элиграмматичными. Суждения
-- откровенными.
9 апреля
Хорошая, но какая тяжелая статья Эренбурга в "Правде". Прекрасная
фраза: "смерть монотонна" -- вся Европа в этой монотонности.
2 П. Лукницкий
Как представишь себе фронт -- разрушения, бытие солдата, -- какая
тоска!.. А ведь ничего не поделаешь, поддаваться этой тоске нельзя, надо
бороться! Бороться и с врагом -- неумолимым и отвратительным, и с
усталостью, с тоскою, грызущей каждого мыслящего. Не поддаваться ей -- надо!
Ничего не изменишь, ничему не поможешь, если предаться слабости духа.
Сейчас на фронтах затишье. Грозное затишье, которое оборвется скоро,
очень скоро, едва повсюду подсохнет земля, едва весна повернется на лето!
Тогда -- начнется... Новая фаза, новый период -- летняя кампания 1943 года.
Будем ли мы наступать? Или отступать, как в прошлые лета? Выступят ли
союзники? Наверное -- нет. Опять вся тяжесть -- на наших плечах, могучих
плечах, но как тяжело этим нашим плечам!..
11 апреля
Наступит день. Мы вынем из нашего быта слова "бомба", "месть",
"ненависть" с таким же удовлетворением, с каким воин вкладывает в ножны
сразивший врага кинжал. Мы начнем любить. Любить женщину и полевой цветок,
украшенный капельками росы. Любить дом, в котором можно спокойно жить.
Любить отдых.
Сейчас мы любим только Родину, и эта наша любовь к ней -- сострадание и
незыблемая вера в народ.
Откуда возникает та великая фронтовая дружба между солдатами? Она
возникает из сознания, что душа товарища мучится так же, как и твоя, и что
об этом не надо говорить. Когда солдат идет в бой, душе легче, тяжесть с нее
снимается, она становится окрыленной.
Величайшая общественная задача: помочь каждому человеку стать на тот
единственный для него путь, на котором, полностью раскрыв свои духовные
силы, он, этот человек, даст Родине максимум возможного для него.
Потребность патриота -- отдать себя Родине полностью, по возможностям,
в нем заложенным.
12 апреля
Прилетел из Ленинграда заведующий Книжной лавкой писателей.
Рассказывает: бомбежка 4 апреля была незначительной, 5 апреля бомбежка
была сильной. Разрушена телефонная станция на улице Марата, разрушена 5-я
ГЭС. Около тридцати тонновых бомб упали на какую-то не имеющую большого
значения фабрику в районе Международного проспекта. Падали бомбы на Марсово
поле, в Летний сад, много бомб упало в Неву и Фонтанку, несколько -- на
площадь Урицкого, одна -- на угол Марата и Невского. Повреждения
незначительные. Но бомбежки последнее время бывают почти ежедневно, на город
падает в среднем по восемь -- десять бомб. Обстрелы продолжаются с прежней
интенсивностью. Тем не менее театры полны, аншлаги в Академическом, полно в
других. Жизнь не нарушается, идет как обычно.
Все интересующие меня дома, о которых может знать мой собеседник
(вылетевший из Ленинграда 7 апреля), -- надстройка писателей, Дом Красной
Армии, Дом имени Маяковского, Штаб, Госиздат -- целы.
13 апреля
Другой человек, вчера прилетевший из Ленинграда, рассказывал:
сильнейшая бомбежка города была 9 апреля. Бомбами разбиты цирк, дома на
Моховой улице, дома вблизи Октябрьского вокзала в Московском районе и пр.
Обстреливаются шрапнелью одновременно все районы города. 5 апреля налетало
триста самолетов, к городу прорвались десятки.
2*
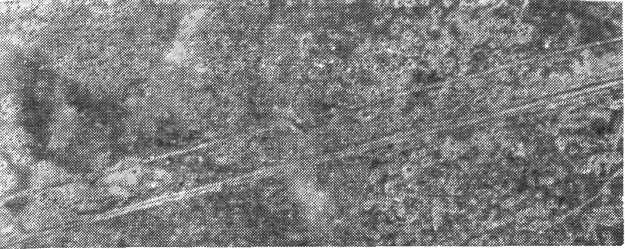 * Путь через "коридор смерти" в сплошных воронках. Так с воздуха,
сквозь легкую облачность, выглядит участок железной и шоссейной дорог
Шлиссельбург -- Назия, единственной наземной связи Ленинграда с Большой
землей после прорыва блокады в 1943 г. По этой железной дороге, несмотря на
бешеные непрерывные обстрелы и бомбежку, проходило ежесуточно до 30 эшелонов
с подкреплениями, боеприпасами и продовольствием для Ленинграда.
Фото с самолета-корректировщика фашистского аса, полковника фон Эриха,
сбитого над водами Ладожского озера (опубликовано Э. Арениным в газете
"Вечерний Ленинград" 15 сентября 1965 г. ).
Пересекая Неву, гляжу на искрошенные стены гордой крепости Орешек, не
подпустившей к себе врага за все шестнадцать месяцев блокады. Морские
артиллеристы капитана Строилова, составлявшие легендарный гарнизон крепости,
теперь воюют уже не здесь.
На мосту почти возле каждой понтонной лодки дежурят красноармейцы и
кое-где командиры. Диспетчеры направляют поток машин попеременно то в одну,
то в другую сторону. На левом берегу Невы -- землянка КПП. Поперек щели у
входа сочится вода. Эта хорошая ключевая вода для питья прикрыта куском
фанеры.
Перед щелью стоит девушка-регулировщица. Пропуская машины, она четко
взмахивает желтым и красным флажками. Сапоги у девушки блестят. Сапожная
щетка лежит тут же, на бревнышке.
Шлиссельбург -- город, простреливаемый насквозь. Противник постоянно
держит под огнем перекресток шоссе и железной дороги, а особенно -- оба
моста.
-- Наверное, в городе еще есть корректировщики! -- проверив мои
документы, говорит пограничник на КПП. -- Немец зря не бьет -- бьет туда,
куда ему нужно.
Население Шлиссельбурга, то, что осталось после оккупации, полностью
переведено в другой район, но улицы полны новых людей, много женщин и даже
детей. Взводными колоннами, распевая песни, шагают девушки в военной форме,
с пилами, лопатами. Это части саперных, инженерных и железнодорожных войск.
Я еду вдоль Старо-Ладожского канала, сначала на грузовике с битым
кирпичом, потом в попутном автофургоне, направляющемся через Назию к деревне
Петровщине, -- мой путь пролегает в шестикилометровой полосе отвоеванной у
немцев земли между берегом Ладоги и Синявином. С Синявинских высот, откуда
бьет немецкая артиллерия, все это плоское пространство хорошо
просматривается простым глазом.
Под бровкой канала совсем недавно проведена железнодорожная линия. По
ней теперь в ночное время ходят поезда, обеспечивающие снабжение фронта и
Ленинграда. С неделю назад эта линия заменила собой непрерывно
обстреливаемую старую железную дорогу, которая пересекает Рабочие поселки No
1 и No 4. Новая дорога тоже обстреливается, но она все-таки километра на два
дальше от немцев. Железнодорожники прозвали этот путь от Шлиссельбурга до
Назии "коридором смерти".
Между железными дорогами проложена автомобильная. От рабочего поселка
No 1 она идет то по песчаному, как в Каракумах, грунту, то по настилу из
бревен, окаймленному топким болотом. Лунки от авиабомб полны черной воды.
Кое-где стлани раздваиваются, образуя разъезды. На них даже поставлены
скамьи со спинками, словно на даче. А с южной стороны вдоль всей дороги --
высокий жердевой забор с ветками, чтобы немцы не могли видеть движущийся
транспорт.
Там, где позволяет песчаная бровка, рядом с дорогой вырыты укрытия для
автомашин и землянки. Всюду работают красноармейцы, веселые, спокойные, --
живут они тут же в землянках, как дома. Мостят дорогу размельченным
кирпичом, привозимым на грузовиках из 5-го поселка и Шлиссельбурга.
Изредка кое-где могильные памятники -- деревянные острые Пирамидки с
красными звездами на вершинах.
Весь путь от Ленинграда до Петровщины потребовал меньше четырех с
половиной часов!
В редакции "Отважного воина"
В Петровщине, в избенке редакции армейской газеты "Отважный воин", я
встретился с Александром Прокофьевым, которому Приладожье -- край родной, и
с П. Никитичем. В этой избенке я сразу почувствовал себя легко и просто, как
дома...
Вечер
Александр Прокофьев лежит под шинелью, на кровати, устремив глаза в
потолок. Сочиняет стихи. Петр Никитич в другой комнате сидит без дела на
скамье. Больше нет никого. Тихо. Редактор -- майор Алексей Иванович
Прохватилов и его сподручные ушли копать котлованы. А я у окна рассматриваю
широкие дали, так "наизусть" знакомые по лету прошлого года. Хорошо видны
расположенные вокруг меня деревни -- Путилове, Горная Шальдиха, Назия;
направо -- серые воды Ладоги. Изредка доносится орудийный гул. Вечер еще
светел, небо пасмурно...
Я только что перелистал комплект "Отважного воина". Единственная как
будто газета, которая 12 января прямо сказала о предстоящем прорыве блокады!
В номере от 10 января напечатана моя запись -- "Ленинградскою ночью", а
в другом номере -- очерк "Пулеметы идут на фронт".
Вот входят сотрудники редакции, ведут разговор о последних известиях по
радио, о самоликвидации Коминтерна, о подвигах армейских разведчиков и
снайперов.
Снайпер злился на немецкого снайпера, которого никак не мог убить.
Заметил, что тот ночью уходит из своей ячейки. Прополз к его ячейке, заложил
мину, а на заборе против мины -- со своей стороны прицепил клочок белой
бумаги. Вернулся. Утром, когда немец залез в свою ячейку, выстрелил в
бумажку, сиречь -- в мину. Взорвал снайпера, и забор, и ячейку. Это
называется насыпать соли на хвост!
надежных стволов
24 мая. Вечер
Шалаш командира минометной батареи 320-го полка 11-й стрелковой
дивизии. Вокруг -- лесок на болоте, жиденькие, но веселые березки; кое-где
песчаные бугорки; кочки с ландышами, только еще расцветающими. После ночного
дождя -- весь день в солнечных лучах жужжат комары. Расположение батареи
обведено изгородью. Пять 120-миллиметровых минометов стоят в котлованах,
шестой, новый миномет привезут завтра. Шалашики батареи присыпаны песком,
там и здесь -- частокольцы из тоненьких березовых стволов, улочки в лесу,
все чинно, аккуратно. На легком срубе выложен песчаный квадрат, на нем --
модель местности с деревней: домики, речки из битого стекла, мостик,
телеграф с ниточками проводов, пушчонки из дерева и большая удочка с хлопком
ваты в воздухе. (Это -- "разрыв снаряда". ) Красивый и точный макет,
сделанный для занятий!
Полк, обороняя свой участок на переднем крае, в то же время
пополняется, формируется, учится, а в своем тылу строит рубежи и дороги.
В минометной батарее старшего лейтенанта Ф. П. Цивликова -- известный
всему фронту боевой расчет братьев Шумовых, ради которого я с А.
Прокофьевым, П. Никитичем и сотрудниками газеты "Отважный воин" сегодня
пришел сюда.
Ехали на грузовике из Петровщины по хорошей мощеной дороге, проложенной
там, где в прошлом году я бултыхался, засасываемый непролазною грязью. У
деревни Верхней Назии мы сошли с машины, двинулись дальше пешком. Верхняя
Назия -- несуществующая деревня, обозначена только двумя
надписями-указателями, при входе и выходе. Дорога, по которой здесь мы шли,
была когда-то улицей, об этом можно узнать по проступающим кое-где из земли
каменным плитам исчезнувшего тротуара.
Мы сели на пнях отдохнуть, осмотреться и по расположению пней поняли,
что здесь были аллеи высоких лип, таких же, как несколько оставшихся
прекрасных одиноких деревьев. Было здесь поместье -- богатый дом, усадьба,
парк, -- теперь ничего, вот только каменный добротный колодец; возле него
спит под плащ-палаткою между двух пней красноармеец, замаскировавшийся так,
чтобы никакое начальство его не увидело.
Даже кирпичей и камней от фундаментов не осталось во всей Верхней Назии
-- они взяты и развезены, пошли на строительство дорог и оборонительных
сооружений. Ямы, да кочки, да какой-то истлевающий, перегнивающий мусор,
сквозь который уже прорастают сочная трава да молоденькие деревья. Ни одного
дома! Увидеть деревню Верхнюю Назию можно только на карте!
Томясь от жары, скинув шинели, мы прошли к Нижней Назии, растянувшейся
вдоль канала. Эта деревня -- существует: между "паузами" пустырей в ней еще
есть дома. Шли по новой дороге, что тянется (параллельно со старой,
разбитой) по стланям бревен, по грубой мостовой, по дощатым "колеям",
настланным продольно для колес машины, на бревна. По этой дороге ползли
грузовики с камнем и толченым кирпичом -- развозящие на строительство
оборонительных сооружений последние остатки разрушенных деревень. Прокофьев
сочинял частушки, в которых подтрунивал над Никитичем, все дружно их
распевали, а Никитич терпеливо молчал. Пройдя по болоту, найдя в лесочке КП
11-й дивизии, посетив в одном из шалашей редактора дивизионной газеты
"Красное знамя", майора Савельева, с ним вместе отправились дальше, в другой
лесок, -- сюда на минометную батарею. И, пройдя всего километров пять, нашли
здесь минометчиков, занимавшихся у минометов -- они проходили трехчасовую
практику работы в противогазах. "Тяжело! -- сказал нам командир батареи. --
В такую жару!"
Услышав о приходе А. Прокофьева (его знают везде), во время обеда
пришел сюда командир полка, полковник Виноградов, умный, широко образованный
командир. После его ухода мы направились в шалаш братьев Шумовых, на весь
день занялись разговорами и записями...
И весь день, да и сейчас, вечером, -- гуденье самолетов, идут воздушные
бои, доносятся звуки бомбежек и орудийный гул -- огневые налеты, отдельные
залпы...
Днем братья Шумовы изготовляли миномет к бою, стреляли по немцам,
показывая нам обращение со своим оружием, рассказывали о себе, о прошлых
боях. В беседе участвовали командир батареи старший лейтенант Федор
Парамонович Цивликов -- краснолицый и черноглазый, с крючковатым носом,
энергичный мужчина небольшого роста, в заломленной набекрень фуражке, и оба
его заместителя -- старшие лейтенанты Д. К. Сергунин и И. В. Плаксин.
Перед вечером А. Прокофьев с сотрудниками газеты ушел -- ему хочется
поскорее в Кобону, где живут его родственники. Я остался вместе с П.
Никитичем, чтобы завтра пройти вдвоем в 1074-й стрелковый полк Арсеньева,
занимающий оборону на переднем крае.
Батарея 120-миллиметровых минометов Ф. П. Цивликова считается одной из
лучших в дивизии. Цивликов начинал войну под Сортавалой старшиною,
командиром взвода боепитания в дивизии А. Л. Бондарева, воевал потом под
Ленинградом и на Волховском фронте, под Погостьем. Командиром этой батареи
он был назначен в январе 1943 года, когда прежний отважный ее командир
Лимарчук, выйдя за боевые порядки пехоты, чтобы восстановить связь с ПНП,
был тяжело ранен осколком немецкой мины... Батарея с января прошлого года
постоянно участвовала в боях -- сначала под деревней Погостье, затем -- под
Макарьевской пустынью, под Дубовиками, Малиновкой, в сентябре прошлого года
возле Тортолово и, наконец, в решающих боях по прорыву блокады. В этих боях
она двигалась от Гайтолова к торфяникам 7-го поселка, к дороге Гонтова Липка
-- Синявино, у знаменитой Круглой Рощи и высоты "Огурец". Два месяца назад,
в марте, была переведена сюда, под Нижнюю Назию. Весь боевой путь батареи
пролегал в лесах и болотах Приладожья, в медленном, но упорном наступлении
54-й, 8-й и 2-й Ударной армий.
Из четырнадцати месяцев своего пребывания на фронте расчет братьев
Шумовых провел в тяжелых боях восемь месяцев и за это время не знал
отступлений -- все бои были наступательными.
Пятеро братьев
Удивительный это расчет, состоящий из пяти братьев! Командир его --
тридцатилетний Александр Шумов, старший сержант; наводчик -- Лука, ефрейтор,
старше его на четыре года; заряжающий -- Василий, тоже ефрейтор, на год
старше Александра; заместитель наводчика Авксентий, на год моложе, и
снаряжающий -- Иван, самый старший, 1905 года рождения, оба красноармейцы.
Все пятеро -- в один день одновременно, за бои по прорыву блокады --
награждены орденами: Александр -- орденом Отечественной войны 2-й степени, а
остальные -- Красной Звездой. Все они сибирские казаки, родом из Танна-Тувы,
там родились, там жили, оттуда вместе по доброй воле явились на фронт.
Из пяти братьев я познакомился сегодня с четырьмя, -- пятый, Авксентий
(сами братья зовут его: Аксений), болен желтухой и находится сейчас в
госпитале. Трое -- Василий, Лука и Иван -- подлинные великаны-богатыри,
ростом каждый в сто девяносто сантиметров; среднего роста только Александр,
но и он крепыш. Все они обладают огромной силищей. Руки Василия -- словно
медвежьи лапы. Раз грузовик расчета застрял в яме правым задним колесом.
Лука и Василий приподняли его, вытолкнули из ямы. А шофер, по неопытности,
дал задний ход. Чтобы колесо опять не попало в яму, братья поднатужились и,
пересилив мотор машины, не дали ей сдвинуться назад. Однажды, когда все
связисты выбыли из строя, Лука пополз исправить связь, разрывная пуля ранила
его в поясницу, но он даже не заметил, что ранен, пока товарищи не сказали
ему об этом. Другой раз Василий, работая пулеметчиком при отражении
контратаки, разгоряченный азартом, тоже не заметил было пули, которая,
пробив ему щеку, выскочила из его раскрытого в тот момент рта, не задев
зубов, -- он почувствовал ранение только тогда, когда ощутил во рту вкус
крови. Лука лишь на следующий день после боя согласился отправиться в
медсанбат, а Василий и вообще не захотел уйти от своего миномета.
Все они -- спокойные, уравновешенные, хладнокровные. Лица у всех --
открытые, ясные, добродушные, сосредоточенные. Все блондины или светлые
шатены. Между собой разговаривают тихо, размеренно, натомтаннатувинском
языке, который стал им родным с детства; в общении с окружающими --
переходят на русский язык. Они полны гордости за свою могучую семью, они
никогда не солгут, не слукавят, все делают дотошно, добросовестно, накрепко.
Тесно связаны братством, один без другого скучают, но очень
дисциплинированны, и если кто-либо из них получает отдельное поручение, то
выполняет его так же охотно и беспрекословно, как выполняют общее,
"семейное" дело, в котором каждый благодаря своей силе, росту и сноровке
работает за десятерых. Никто из них никогда в пререкания не вступает,
расстроенными, чем-либо недовольными их не видели, молчаливость их известна
всем, только Лука -- побойчее, любит поговорить, а Александр, более других
склонный к веселью иной раз даже пускается под гармонь в пляс.
Все, кроме Александра, малограмотны: живя в дальней тувинской глуши,
окончили они только по два класса начальной школы, лишь Александр -- четыре.
Александр у себя на родине с юности рыбачил да охотился в тайге На медведя,
волка, росомаху, рысь, сохатого оленя, козла, марала. Сдавая пушнину на
заготпункты, накопил денег, потом поселился в городе Кизыле, женился на
переплетчице типографии и сам в той же типографии стал рабочим. Такими же
охотниками были Иван и Авксентий. Василий работал грузчиком в госторге, а
затем колхозным плотником. Лука, начав свою трудовую жизнь работником у
богатого мужика ("за овечку шесть месяцев жил!"), стал позже колхозником...
Те из братьев, кто имели своих коней, по доброй воле отдали их в первые же
дни войны Красной Армии.
О своей жизни в Туве, о семьях своих братья рассказывают охотно, но и
слова из них не выжмешь, когда начнешь расспрашивать об их боевых подвигах
(которых ими совершено немало): скромны, хвастовства или хоть рисовку собой
-- не подметишь. Добросовестны, обо всем говорят просто, "как есть"...
Все братья женаты и многодетны -- детей у них общим счетом двадцать
четыре: у Луки -- десять, у Ивана -- шестеро, у Василия и Авксентия -- по
три, и только у "горожанина" Александра -- двое.
Семья у них на родине патриархальная, можно сказать, почти родовая.
Лука, Иван и Авксентий -- "Никитичи"; отец Василия -- Егор Фадеевич Шумов,
был партизаном, убит в гражданскую войну; отец Александра -- Терентий Шумов,
член партии с 1926 года, -- глубокий старик. Все пятеро считают главой семьи
и своим "единым" отцом (которого называют почтительнейше "они") Никиту
Фадеевича Шумова. Семидесятилетний Никита Фадеевич -- хлебопашец и скотовод,
сильный и здоровый поныне, строгий старец с огромной белой окладистой
бородой, ведет свой казацкий род чуть ли не от Ермака Тимофеевича и,
живя в Енисейской тайге, пользуется непререкаемой властью над сыновьями,
племянниками, внуками и правнуками своими...
Кроме пяти братьев-минометчиков на фронтах Отечественной войны воюют и
другие их братья: колхозный шофер Семен Никитич -- пулеметчик, позже радист,
уже дважды раненный на Ленинградском фронте; Максим Терентьевич -- тоже уже
дважды раненный, -- связной при штабе батальона на Калининском фронте;
Емельян -- пока в запасном полку; Петр Терентьевич -- неизвестно где
находящийся, потому что писем от него с фронта нет. Воюет и муж одной из
дочерей Луки, а три его самых старших брата отвоевались еще в годы первой
мировой войны: двое погибли, третий был контужен и ныне -- дома.
Все они, кроме этих трех самых старших братьев, отправились в армию
вместе, "одной колонной", и стоит сказать, как это произошло.
Жили они в своей таежной глуши, за сотни километров от железной дороги,
работали, слушали вести с войны по радио, почитывали газеты да обсуждали
далекие фронтовые дела, не радовавшие в ту пору их души. Думали частенько о
Ленинграде, в котором никто не бывал, но который был близок их сердцу:
родной их колхоз создавал ленинградец -- рабочий, близкий им всем человек.
От него наслышались они много о великом городе, с первых месяцев войны
окруженном немцами.
Первую мысль о том, чтобы им, всем братьям Шумовым, пойти на фронт да
гнать немцев от Ленинграда, подал Иван. Посоветовался с Семеном, и тот
горячо откликнулся -- пошел "агитировать" всех других братьев. И явились они
к отцу, Никите Фадеевичу.
Усадил их всех округ себя старик и сердито сказал: как это, мол, без
его приказу надумали? "Коли пришли за приказом, то вот он, таков: у нас в ту
войну два брата от немчуры погибли, Галафтифон (Галактион) и Андрон. Время
пришло такое, идите теперь, отвечайте за старших братовей, только семейства
устройте!"
Устроили Шумовы своих жен, детей и вместе с женами -- снова явились к
отцу, было это в зимний вечер января 1942 года. И вот как о том вечере
рассказывает Василий:
-- Барашка зарезали. Гуси жареные, поросеночек. Пивишка отец поставил,
браги ведерочка два выпили, -- сахар дешевый был, рубль килограмм.
Спиртик... Собирались в доме Луки. Утром -- Лука еще спал -- подъезжает отец
на санях, с красным флагом, кумач -- с метр. "Надо ехать!" У меня еще
оставалось с пол-литра, подал ему, сам выпил. Поехали в другой поселок на
сборный пункт, за семь километров. Отец впереди на своих санях с красным
флагом, за ним -- шесть саней, мы с женами и детворою постарше. Ехали, песню
пели:
С красным флагом приезжали, С полевых работ собрали...
По морозу, все дружно пели!
Оттуда двинулись мы в Балгазик -- районный центр. Не доезжая до
Балгазика с полкилометра, отец с саней слез, выстроил нас в две шеренги, сам
вперед флаг понес, мы за ним, а жены -- сзади на санях ехали. В Балгазике --
районное начальство встречает, подошел капитан, а отец ему с приветствием,
чин по чину:
"Вот, товарищ! Привел свою армию, отправлю на фронт, идут добровольно!"
И вышло нас население провожать. Мы все -- в одну машину. Продуктов
набрали с собой. Проехали на машине до Абакана, оттуда -- железной дорогой
до Красноярска. Здесь четырнадцать дней учились на минометчиков в запасном
полку. И собрались мы -- пятеро -- к полковнику, и полковник нам предлагает:
"Вот, мне как раз -- расчет! Ну давайте!"
А Семена с нами тут не было -- шофером работал он, позже нас в
Ленинград отправился.
Из Красноярска эшелоны с пополнением шли прямиком до Волховстроя.
-- Отсюда, -- рассказывает Василий, -- на Глажево, один эшелончик.
Прибыли восемнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года, а из
Глажева пехом в составе пополнения к Погостью, сразу в одиннадцатую
стрелковую дивизию, всех -- кто куда желает. Мы все в ряд выстраиваемся. И
нас -- в третью батарею отдельного минометного дивизиона, сразу -- расчетом.
Дали нам командиром старшего сержанта Кривоухова Анатолия Никитича...
Климат. Болото! Сразу плохо показалось. У Луки были болотные сапоги, пошел
пробовать, -- высоко!..
Когда я записывал этот рассказ, сидя возле миномета, в кругу братьев
Шумовых и их командиров, заместитель командира батареи по политчасти старший
лейтенант Плаксин перебил Василия:
Климат?.. А теперь им хорошо, ни жары, ни холода не чувствуют. Им что
похуже, то больше нравится, ничего не боятся -- ни снарядов, ни пуль!.. А ты
расскажи, в какой вы одежде приехали да что с собой привезли!
Одежда? В собственной! Полушубки, болотные -- повыше колен -- сапоги,
шапки-ушанки с хромовым верхом! А везли с собой всего на месяц -- мяса по
целому барану, всего прочего -- в таких же количествах!
Трое из них, -- добавляет Плаксин, -- вначале получали по распоряжению
командира дивизии полуторный паек, а теперь, когда получают обычный, им не
хватает еды.
То верно! -- усмехнулся Василий. -- Поддаемся болезням. Вот Александр
мечтает после войны первым делом полечиться: резвматизм!.. Хилость теперь у
нас!
Глянув на братьев при этих словах, я подумал, что и сейчас каждый из
них вдесятеро сильней и здоровее любого другого, -- но лица этих богатырей
действительно были бледными; обычного, строго и точно рассчитанного по
калориям армейского пайка им, великанам, конечно, мало!
Беда их, -- продолжает Плаксин, -- неграмотными приехали. Теперь сами
газеты читают. Беспартийными были -- теперь Александр и Василий члены
ВКП(б), остальные кандидаты!
Это -- после боев уже, когда заслужили, что нас узнали, какие мы. Тогда
заявления подали -- с октября прошлогоднего!.. А еще пуще беда наша, когда
приехали, -- в отношении наводки: что вправо, что влево, понятия не имели; и
еще: необстрелянные.
Как они воевали?
На вопрос: как же учились они воевать? -- Василий отвечает:
-- Сперва стали мы под "железкой", немцев там много лежало. Александра
да Ивана с супом послали -- доставить на передовую. Расскажи, Иван!
И Иван рассказывает:
-- Сперва страшно было! Смотрю -- снаряд разорвался. Другие падают, а
мы -- нет, стоим, смотрим. Только пошли -- шесть самолетов бросают бомбы.
Суп все ж доставили. Второй раз -- тоже, все пятеро суп, водку носили. Опять
под обстрелом. Авксентия снегом забросило, не ранило, только так -- рванет
оглушительно. Ну, мы решили: если ранят, то не бросим один другого... Вот и
слаженность у нас теперь в бою почему? В других расчетах каждый надеется,
что он сделает что полегче, а другим -- потрудней оставит. А нам что? Друг
на дружку надеемся, за нас -- никто! И нам отец говорил: "В куче, как веник,
будет всем лучше, а по одному -- наломают, всем хуже будет!" Так мы:
"Давайте, братья, сделаем!" И уж на совесть. Где если машина засядет -- "А
ну! Давай!.. " Надеяться на других не любим. Комсоставу кто землянки делает?
Шумовы! (А уж себе -- сделана!) А другие еще себе только делают!.. Связь
себе сами ладим!
Василий снова ведет рассказ. О том, как учил их всех Кривоухов, как
вначале вместе с другим боевым расчетом "вхолостую" команды принимали, а тот
-- стрелял; и о том, как Александр охотнее всех изучал миномет и всех тянул
за собой. Не стеснялись братья своего незнания, все "натурально"
расспрашивали: и как поставить правильный угол возвышения, и как управлять
дистанционным краном, и давать беглый огонь. Объясняет Василий, как
одновременно изучали они автомат, гранату, винтовку и пулемет. И как
научились заменять друг друга в любой обязанности; и еще повествует о том,
как первый раз закипела в них злость, когда под Погостьем, у Кондуи, в бою
за поляну "Сердце" (она имеет вид сердца) увидели наших раненых, сожженных
заживо фашистами...
-- Первый бой наш расчет повел пятого апреля, под Макарьевской
пустынью. Наша батарея стояла готовая на огневой позиции, впереди. Миномет
был уже стодвадцатка. Мы под огнем блиндаж делали. Снег растаял, мокро.
Александр навел, я было стал тут теряться, но ничего, сразу пять мин -- и
подавили станковый пулемет, -- он из лесочка, за километр бил... А уж в мае,
в Малиновке, когда немец (человек восемьсот) шел в наступление и пробил
брешь в соседней дивизии, нас бросили в эту брешь. С ходу мы развернулись,
сделали все как
надо и дали ему жару. Он опять в атаку пошел, силами до полка, мы
срубики сделали над минометами широкие, не так, как другие расчеты узкие
амбразурки делали, и открыли огонь! Всего три дня канитель была, мин пятьсот
бросили, подходяще. Принесут суп, не успеешь ложки хлебнуть -- по местам!
... Ночью они бомбили здорово, жаром охватывало, деревом накрыло, Ивана
отбросило, -- это была тополевая роща, тополи толстые. Мы все лежали за
лесиной, за корнями, срубчики -- пустяковые, укрыться некуда... А они
пикируют, с ревунами, -- вот крепко было!..
И от боя к бою шли неторопливые рассказы Василия, Ивана, Луки.
Александр больше помалкивал, а командир батареи и два его заместителя
уточняли: где именно, когда и при какой общей обстановке происходило то или
иное. И когда я поинтересовался секретами успеха Шумовых в этих боях, то
сказали мне братья, что главной причиной успеха была приобретенная ими
точность и скорострельность стрельбы. Когда расчет Шумовых делает
пристрелку, то по их миномету и другие расчеты батареи открывают огонь:
Шумовы не ошибаются.
-- Конечно, и сила тут!.. Когда, допустим, осечка, нужно силенку, чтоб
сгрести за казенник машинку и мину вытряхнуть, Александр с Лукой, а то и
один Лука сгребет! Для его ручищ пудовая мина -- что огурец. А осечки
бывают, особенно ежели чужие мины собираешь: ящики, бывает, несут, мины
повыкладывают, а мы тут как тут, собираем их, раз штук двести собрали.
Капсюль отсыреет -- осечку дает, или шляпка от патрона остается в стволе.
Миномет переворачиваешь, вытряхиваешь. Лука часто один вытряхивал, -- ну, у
него ж и рост!.. А все ж дело не только в силе: скорострельность необходима!
Значит -- внимательность. По уставу в минуту полагается выпустить десять
мин, практически другие расчеты дают семь-восемь. А у Василия
скорострельность достигает пятнадцати, а то и семнадцати мин. И бывали
случаи -- в январских боях по прорыву блокады, -- до восемнадцати мин
"висело в воздухе". Это значит: когда первая мина, достигнув цели,
взрывается, братья опускают в ствол миномета двадцатую, -- а восемнадцать
выпущенных летят одна за другой, приближаясь к цели. А когда затем разрывы
чередой следуют один за другим, получается впечатление,
будто Заработала "катюша". Каждые три секунды -- мина!
А точность работы расчета Шумовых характеризует хотя бы такой случай,
рассказанный мне старшим лейтенантом Плаксиным.
Недавно -- 18 апреля -- на минометную батарею пришел полковник,
заговорил о точности стрельбы, и командир батареи предложил ему самолично
убедиться в том, насколько точна стрельба расчета братьев Шумовых.
Впереди виднелся немецкий блиндаж, и полковник спросил: сколько мин
потребуется Шумовым, чтобы пристреляться к этому блиндажу, а затем перейти
на поражение?
Командир расчета, Александр Шумов, уверенно ответил:
-- Три! А четвертую, товарищ полковник, пустим на поражение!
Такая уверенность показалась полковнику бахвальством. Но командир
батареи Цивликов знал, что Шумовы его не подведут, и попросил разрешения
самому отправиться на передовой корректировочный пункт вместо всегдашнего
разведчика-наблюдателя старшего сержанта Фролова. Полковник разрешил
Цивликову быть корректировщиком-наблюдателем и приказал командовать старшему
лейтенанту Плаксину.
Весь расчет помнит команды этой стрельбы.
-- По блиндажу противника, -- скомандовал Плаксин, --
осколочно-фугасная мина, взрыватель замедленный: заряд 1, буссоль 1, 92,
прицел 5, 23 -- первому, одна мина, огонь!
По донесению корректировщика, мина легла точно на линии блиндажа, но
чуть-чуть левее, и он дал поправку:
Правее, 0, 55...
Огонь!
Вторая мина легла на той же линии, чуть правее. Третья мина пошла по
команде: "Левее... 0, 03... Огонь!"
-- Ясно! -- сказал Александр Шумов, услышав последнюю поправку: "левее
0, 05". -- Разрешите пойти на поражение?
Четвертая мина попала точно в блиндаж, полковник приказал дать еще
шесть штук беглым огнем, от блиндажа ничего не осталось, и на этом кончили
стрелять.
Другой раз столь же точным огнем Шумовы успели
накрыть вражеский грузовик с пехотой, который быстро пересекал открытую
поляну и вот-вот должен был скрыться в лесу. Сами Шумовы результатов своих
стрельб обычно не видят -- их глазами давно стал корректировщик Фролов.
Только раз, в торфяниках под Гонтовой Липкой, довелось им самим наблюдать
действие своих мин.
-- Как мина упадет, -- радостно рассказывает Василий, -- так где
клочки, где что летит -- хорошо видать. Они подбегают, и мины их начинают
крошить; которые сразу падают, которые обратно бегут, а мы по ним снова --
"Не уйдешь!" -- кричим. "Ну, братья, действительно попадаем!"
Были случаи, за день батарея выпускала больше тысячи мин, а однажды
выпустила две тысячи.
По подсчетам Фролова, который уже год не расстает ся с расчетом
Шумовых, на счету у братьев больше четырехсот немцев, одиннадцать пулеметов,
четырнадцать минометов (только уничтоженных, не считая подавленных), девять
дзотов, несколько автомашин с людьми и одна машина с боеприпасами. Эту
последнюю машину накрыли вечером. В ней был и ящик с осветительными
ракетами, и, когда ракеты стали рваться, освещая темные небеса разноцветным
фейерверком, вся батарея, да и весь полк любовались работой Шумовых...
Этот полк недавно, после жестоких боев под Синявином, состоял всего из
восемнадцати человек, -- теперь он снова укомплектован полностью. А в
расчете Шумовых за весь год потерь не было, если не считать тех ранений, о
которых я уже упоминал, да убитых лошадей, которым почему-то особенно не
везло.
-- Черт его знает, -- рассказывает Василий, -- как лошадь возьмем,
приведем на ОП, так прямое попадание в лошадь. А мы коней любим! Расскажи,
Иван, как своего жеребчика встретил!
-- В дивизии это было, -- усмехается Иван, -- в деревне Криваши, в
августе сорок второго. Вижу, майор верхом едет, и узнал я своего коня издали
-- тот самый, которого на Туве сдал. Вот случай, думаю! Подошел, и по тавру
удостоверился, и говорю: "Белик!" -- "Ты что?" -- глядит на меня майор. А я:
"Товарищ майор, разрешите обратиться! С лошадкой охота повидаться!" -- "Как
так?" -- "Я пожертвовал!" -- И похлопал я по шее
3П. Лукницкий
коня, и узнал он меня, баловник, и Думаю: "Поездил бы на тебе!" -- как
раз задание выполнял, километров десять пешком. "Вот бы сел на тебя!.. "
Бывают же, в самом деле, случайности!
Мне сказали, что Василий в боях под Синявином действовал и как
пулеметчик. Я расспросил его. Узнал, как он косил гитлеровцев с близкой
дистанции, лежа в торфяниках. Братья ему завидовали, и из их отрывистых
замечаний я понял, что каждому из них хотелось бы бить врагов не только из
миномета, издали, а схватиться с фашистами врукопашную, -- вот уж где они
понаслаждались бы своей физической силищей! А то ведь, не обращая никакого
внимания на огонь врага, воюют, как работают: спокойно, деловито,
невозмутимо.
Приучили себя к выдержке и хладнокровию, а у каждого, вопреки внешнему
суровому спокойствию, живет в крови русская удаль. "Эх, дотянулись бы вот
эти руки!" -- сдержанно произнес Лука и, подняв огромные свои кулаки,
погрозил ими в воздухе: "Во!"
... Весь день и весь вечер меня грызут комары, мириады их поют в
воздухе, спасения от них нет, и, пока я делал все эти записи, руки и лицо
опухли, и невольно я расцарапал их... [1]
[1] В дни войны поэма "Россия", за которую А. Прокофьеву была
присуждена Государственная премия, да тоненькая брошюра журналиста Кара,
изданная Политуправлением Ленинградского фронта, да мои корреспонденции,
опубликованные через ТАСС в десятках газет, разнесли славу о братьях Шумовых
по всей Советской стране. Самих братьев Шумовых мне никогда больше не
довелось увидеть, и об их дальнейшей судьбе я до недавнего времени ничего не
знал.
9 июля 1958 г. я прочел в "Комсомольской правде" заметку в четырнадцать
строк. Она начиналась словами: "В суровые годы Отечественной войны по всему
Ленинградскому фронту разнеслась слава о боевых делах отважных братьев
Шумовых... " Вторая половина заметки состояла из таких строк: "... Но не
всем братьям суждено было вернуться с поля брани, трое погибли смертью
героев".
С тех пор прошло много лет, но и сейчас ленинградцы с большой любовью
произносят имена братьев Шумовых. Их 120-миллиметровый миномет No 0199
установлен в Ленинградском артиллерийском музее. В Музее истории Ленинграда
намечено открыть специальный стенд, посвященный подвигам отважных братьев.
Шумовы награждены юбилейной медалью в честь 250-летия Ленинграда.
Два брата -- Александр и Лука -- трудятся сейчас на Фрунзенской фабрике
модельной обуви.
Цветет черемуха!
25 мая. 12 часов 30 минут дня
... Вчера вечером А. Прокофьев с журналистами газеты "Отважный воин"
ушел назад в Петровщину, а я с П. Никитичем остался ночевать на батарее, с
тем чтобы поутру направиться в 1074-й полк 314-й стрелковой дивизии к
известной всем на фронте Круглой Роще.
Командиры батареи с утра были заняты приемом пополнения. Цивликов ушел
на сутки километров за пять на тактические учения. Он повел с собой группу
бойцов, среди которых есть узбеки, татары, грузин и казах Адильжан --
старший сержант, отличный, храбрый и исполнительный, в армии он -- с 1939
года.
Мой путь с Никитичем лежал мимо Бугровского маяка. Мы вышли с батареи в
одиннадцать часов утра, шли четыре километра по дороге, переправились на
плоту через канал, пошли вдоль берега Ладоги между двумя каналами,
осчастливленные чудесной природой -- пением птиц, запахом черемухи... Она в
цвету, деревья белеют!
Через час пришли сюда, и вот сижу на каменной глыбине, пишу, а Никитич
фотографирует меня и развалины маяка. В солнечном небе -- самолет. В эту
минуту он пикирует, и его обстреливают наши зенитки. Глыбиной прикрыт вход в
блиндаж, у подножия маяка. В блиндаже мы застали лейтенанта и красноармейца.
Лейтенант, разбуженный нами, сразу куда-то ушел, а красноармеец, разложив
костер, стал варить суп в ведре перед блиндажом. Чуть подальше, у маяка, --
группа саперов 320-го стрелкового полка, ходят с осторожностью: все
минировано. Я с Никитичем ходил здесь, однако ж, без провожатых. Все облазил
и осмотрел, сделал несколько фотографий.
Природа торжественна и величава. Зеленая листва, освещенная жарким
солнцем, ярка; в голубых небесах медленно наплывают с севера белые кучевые
облачка; гладь озера бестрепетна, тиха. В природе -- благостный мир, а
вокруг меня -- хаос опустошения: снесенные дома, обломки маячной башни,
воронки от бомб, снарядов и мин, кирпичный лом -- крупные кирпичные глыбы,
вырванные из башни. От нее осталось только основание. Два зуба -- остатки
круглых стен -- высятся до четвер-
того этажа, внутри со стороны озера, по куче развалин тянется
деревянная лестничка и там, наверху, стоит красный маячный фонарь, --
видимо, по ночам он действует.
Рядом с маяком -- руины кирпичной казармы. По словам Никитича, здесь
был отличный дом отдыха водников. В двухстах -- трехстах метрах от маяка
видны проволочные заграждения и немецкие дзоты. Здесь, до прорыва блокады,
стояли немцы. За озером видна Шлиссельбургская крепость, отчетливо видны оба
берега -- и ленинградский и кобонский.
Вот лейтенант вернулся, с ним три пожилых бойца. Окинув жестом руки
наши траншеи и дзоты, обводящие маяк со стороны озера, лейтенант спрашивает:
Где мины, знаете?
Не знаем! -- отвечает старший из трех бойцов.
-- Напоретесь! Тут мин до хрена! Я сейчас дал задание, чтоб, пока не
стемнеет, до пота работать!
Лейтенант стоит, размышляет, как объяснить им, где мины.
По каналу немец нет-нет да и стреляет. Вчера попал в самый канал. Вчера
же в 4-м поселке снарядом убито семнадцать красноармейцев... Доносятся звуки
разрывов, немецкая артиллерия бьет то справа, то слева. Ночью авиация
налетела на Шлиссельбург, были сброшены осветительные ракеты на
шарах-пилотах. Они взмывали вверх. Один из пары немецких самолетов,
пролетавших вчера над Шальдихой, сбит двумя зенитными снарядами. Летчик
спрыгнул на парашюте. Пилот второго немецкого самолета хотел расстрелять
своего товарища в воздухе, но был отогнан нашими зенитчиками, и этот
приземлившийся немец был взят в плен...
Передо мною пробитая каска на тонком пеньке, лодочка, причаленная к
бровке большой воронки от 250-килограммовой бомбы; красноармеец,
отталкивающий свой плот шестом от берега озера; другой -- на берегу удит
рыбу... По зеленой траве разбросаны куски железа, камня, кирпича, жестянки,
тряпки...
Как нелепо сочетание солнечной благости мира в природе -- и хаоса
войны, разрушения, вносимого в этот мир человеком!
* Путь через "коридор смерти" в сплошных воронках. Так с воздуха,
сквозь легкую облачность, выглядит участок железной и шоссейной дорог
Шлиссельбург -- Назия, единственной наземной связи Ленинграда с Большой
землей после прорыва блокады в 1943 г. По этой железной дороге, несмотря на
бешеные непрерывные обстрелы и бомбежку, проходило ежесуточно до 30 эшелонов
с подкреплениями, боеприпасами и продовольствием для Ленинграда.
Фото с самолета-корректировщика фашистского аса, полковника фон Эриха,
сбитого над водами Ладожского озера (опубликовано Э. Арениным в газете
"Вечерний Ленинград" 15 сентября 1965 г. ).
Пересекая Неву, гляжу на искрошенные стены гордой крепости Орешек, не
подпустившей к себе врага за все шестнадцать месяцев блокады. Морские
артиллеристы капитана Строилова, составлявшие легендарный гарнизон крепости,
теперь воюют уже не здесь.
На мосту почти возле каждой понтонной лодки дежурят красноармейцы и
кое-где командиры. Диспетчеры направляют поток машин попеременно то в одну,
то в другую сторону. На левом берегу Невы -- землянка КПП. Поперек щели у
входа сочится вода. Эта хорошая ключевая вода для питья прикрыта куском
фанеры.
Перед щелью стоит девушка-регулировщица. Пропуская машины, она четко
взмахивает желтым и красным флажками. Сапоги у девушки блестят. Сапожная
щетка лежит тут же, на бревнышке.
Шлиссельбург -- город, простреливаемый насквозь. Противник постоянно
держит под огнем перекресток шоссе и железной дороги, а особенно -- оба
моста.
-- Наверное, в городе еще есть корректировщики! -- проверив мои
документы, говорит пограничник на КПП. -- Немец зря не бьет -- бьет туда,
куда ему нужно.
Население Шлиссельбурга, то, что осталось после оккупации, полностью
переведено в другой район, но улицы полны новых людей, много женщин и даже
детей. Взводными колоннами, распевая песни, шагают девушки в военной форме,
с пилами, лопатами. Это части саперных, инженерных и железнодорожных войск.
Я еду вдоль Старо-Ладожского канала, сначала на грузовике с битым
кирпичом, потом в попутном автофургоне, направляющемся через Назию к деревне
Петровщине, -- мой путь пролегает в шестикилометровой полосе отвоеванной у
немцев земли между берегом Ладоги и Синявином. С Синявинских высот, откуда
бьет немецкая артиллерия, все это плоское пространство хорошо
просматривается простым глазом.
Под бровкой канала совсем недавно проведена железнодорожная линия. По
ней теперь в ночное время ходят поезда, обеспечивающие снабжение фронта и
Ленинграда. С неделю назад эта линия заменила собой непрерывно
обстреливаемую старую железную дорогу, которая пересекает Рабочие поселки No
1 и No 4. Новая дорога тоже обстреливается, но она все-таки километра на два
дальше от немцев. Железнодорожники прозвали этот путь от Шлиссельбурга до
Назии "коридором смерти".
Между железными дорогами проложена автомобильная. От рабочего поселка
No 1 она идет то по песчаному, как в Каракумах, грунту, то по настилу из
бревен, окаймленному топким болотом. Лунки от авиабомб полны черной воды.
Кое-где стлани раздваиваются, образуя разъезды. На них даже поставлены
скамьи со спинками, словно на даче. А с южной стороны вдоль всей дороги --
высокий жердевой забор с ветками, чтобы немцы не могли видеть движущийся
транспорт.
Там, где позволяет песчаная бровка, рядом с дорогой вырыты укрытия для
автомашин и землянки. Всюду работают красноармейцы, веселые, спокойные, --
живут они тут же в землянках, как дома. Мостят дорогу размельченным
кирпичом, привозимым на грузовиках из 5-го поселка и Шлиссельбурга.
Изредка кое-где могильные памятники -- деревянные острые Пирамидки с
красными звездами на вершинах.
Весь путь от Ленинграда до Петровщины потребовал меньше четырех с
половиной часов!
В редакции "Отважного воина"
В Петровщине, в избенке редакции армейской газеты "Отважный воин", я
встретился с Александром Прокофьевым, которому Приладожье -- край родной, и
с П. Никитичем. В этой избенке я сразу почувствовал себя легко и просто, как
дома...
Вечер
Александр Прокофьев лежит под шинелью, на кровати, устремив глаза в
потолок. Сочиняет стихи. Петр Никитич в другой комнате сидит без дела на
скамье. Больше нет никого. Тихо. Редактор -- майор Алексей Иванович
Прохватилов и его сподручные ушли копать котлованы. А я у окна рассматриваю
широкие дали, так "наизусть" знакомые по лету прошлого года. Хорошо видны
расположенные вокруг меня деревни -- Путилове, Горная Шальдиха, Назия;
направо -- серые воды Ладоги. Изредка доносится орудийный гул. Вечер еще
светел, небо пасмурно...
Я только что перелистал комплект "Отважного воина". Единственная как
будто газета, которая 12 января прямо сказала о предстоящем прорыве блокады!
В номере от 10 января напечатана моя запись -- "Ленинградскою ночью", а
в другом номере -- очерк "Пулеметы идут на фронт".
Вот входят сотрудники редакции, ведут разговор о последних известиях по
радио, о самоликвидации Коминтерна, о подвигах армейских разведчиков и
снайперов.
Снайпер злился на немецкого снайпера, которого никак не мог убить.
Заметил, что тот ночью уходит из своей ячейки. Прополз к его ячейке, заложил
мину, а на заборе против мины -- со своей стороны прицепил клочок белой
бумаги. Вернулся. Утром, когда немец залез в свою ячейку, выстрелил в
бумажку, сиречь -- в мину. Взорвал снайпера, и забор, и ячейку. Это
называется насыпать соли на хвост!
надежных стволов
24 мая. Вечер
Шалаш командира минометной батареи 320-го полка 11-й стрелковой
дивизии. Вокруг -- лесок на болоте, жиденькие, но веселые березки; кое-где
песчаные бугорки; кочки с ландышами, только еще расцветающими. После ночного
дождя -- весь день в солнечных лучах жужжат комары. Расположение батареи
обведено изгородью. Пять 120-миллиметровых минометов стоят в котлованах,
шестой, новый миномет привезут завтра. Шалашики батареи присыпаны песком,
там и здесь -- частокольцы из тоненьких березовых стволов, улочки в лесу,
все чинно, аккуратно. На легком срубе выложен песчаный квадрат, на нем --
модель местности с деревней: домики, речки из битого стекла, мостик,
телеграф с ниточками проводов, пушчонки из дерева и большая удочка с хлопком
ваты в воздухе. (Это -- "разрыв снаряда". ) Красивый и точный макет,
сделанный для занятий!
Полк, обороняя свой участок на переднем крае, в то же время
пополняется, формируется, учится, а в своем тылу строит рубежи и дороги.
В минометной батарее старшего лейтенанта Ф. П. Цивликова -- известный
всему фронту боевой расчет братьев Шумовых, ради которого я с А.
Прокофьевым, П. Никитичем и сотрудниками газеты "Отважный воин" сегодня
пришел сюда.
Ехали на грузовике из Петровщины по хорошей мощеной дороге, проложенной
там, где в прошлом году я бултыхался, засасываемый непролазною грязью. У
деревни Верхней Назии мы сошли с машины, двинулись дальше пешком. Верхняя
Назия -- несуществующая деревня, обозначена только двумя
надписями-указателями, при входе и выходе. Дорога, по которой здесь мы шли,
была когда-то улицей, об этом можно узнать по проступающим кое-где из земли
каменным плитам исчезнувшего тротуара.
Мы сели на пнях отдохнуть, осмотреться и по расположению пней поняли,
что здесь были аллеи высоких лип, таких же, как несколько оставшихся
прекрасных одиноких деревьев. Было здесь поместье -- богатый дом, усадьба,
парк, -- теперь ничего, вот только каменный добротный колодец; возле него
спит под плащ-палаткою между двух пней красноармеец, замаскировавшийся так,
чтобы никакое начальство его не увидело.
Даже кирпичей и камней от фундаментов не осталось во всей Верхней Назии
-- они взяты и развезены, пошли на строительство дорог и оборонительных
сооружений. Ямы, да кочки, да какой-то истлевающий, перегнивающий мусор,
сквозь который уже прорастают сочная трава да молоденькие деревья. Ни одного
дома! Увидеть деревню Верхнюю Назию можно только на карте!
Томясь от жары, скинув шинели, мы прошли к Нижней Назии, растянувшейся
вдоль канала. Эта деревня -- существует: между "паузами" пустырей в ней еще
есть дома. Шли по новой дороге, что тянется (параллельно со старой,
разбитой) по стланям бревен, по грубой мостовой, по дощатым "колеям",
настланным продольно для колес машины, на бревна. По этой дороге ползли
грузовики с камнем и толченым кирпичом -- развозящие на строительство
оборонительных сооружений последние остатки разрушенных деревень. Прокофьев
сочинял частушки, в которых подтрунивал над Никитичем, все дружно их
распевали, а Никитич терпеливо молчал. Пройдя по болоту, найдя в лесочке КП
11-й дивизии, посетив в одном из шалашей редактора дивизионной газеты
"Красное знамя", майора Савельева, с ним вместе отправились дальше, в другой
лесок, -- сюда на минометную батарею. И, пройдя всего километров пять, нашли
здесь минометчиков, занимавшихся у минометов -- они проходили трехчасовую
практику работы в противогазах. "Тяжело! -- сказал нам командир батареи. --
В такую жару!"
Услышав о приходе А. Прокофьева (его знают везде), во время обеда
пришел сюда командир полка, полковник Виноградов, умный, широко образованный
командир. После его ухода мы направились в шалаш братьев Шумовых, на весь
день занялись разговорами и записями...
И весь день, да и сейчас, вечером, -- гуденье самолетов, идут воздушные
бои, доносятся звуки бомбежек и орудийный гул -- огневые налеты, отдельные
залпы...
Днем братья Шумовы изготовляли миномет к бою, стреляли по немцам,
показывая нам обращение со своим оружием, рассказывали о себе, о прошлых
боях. В беседе участвовали командир батареи старший лейтенант Федор
Парамонович Цивликов -- краснолицый и черноглазый, с крючковатым носом,
энергичный мужчина небольшого роста, в заломленной набекрень фуражке, и оба
его заместителя -- старшие лейтенанты Д. К. Сергунин и И. В. Плаксин.
Перед вечером А. Прокофьев с сотрудниками газеты ушел -- ему хочется
поскорее в Кобону, где живут его родственники. Я остался вместе с П.
Никитичем, чтобы завтра пройти вдвоем в 1074-й стрелковый полк Арсеньева,
занимающий оборону на переднем крае.
Батарея 120-миллиметровых минометов Ф. П. Цивликова считается одной из
лучших в дивизии. Цивликов начинал войну под Сортавалой старшиною,
командиром взвода боепитания в дивизии А. Л. Бондарева, воевал потом под
Ленинградом и на Волховском фронте, под Погостьем. Командиром этой батареи
он был назначен в январе 1943 года, когда прежний отважный ее командир
Лимарчук, выйдя за боевые порядки пехоты, чтобы восстановить связь с ПНП,
был тяжело ранен осколком немецкой мины... Батарея с января прошлого года
постоянно участвовала в боях -- сначала под деревней Погостье, затем -- под
Макарьевской пустынью, под Дубовиками, Малиновкой, в сентябре прошлого года
возле Тортолово и, наконец, в решающих боях по прорыву блокады. В этих боях
она двигалась от Гайтолова к торфяникам 7-го поселка, к дороге Гонтова Липка
-- Синявино, у знаменитой Круглой Рощи и высоты "Огурец". Два месяца назад,
в марте, была переведена сюда, под Нижнюю Назию. Весь боевой путь батареи
пролегал в лесах и болотах Приладожья, в медленном, но упорном наступлении
54-й, 8-й и 2-й Ударной армий.
Из четырнадцати месяцев своего пребывания на фронте расчет братьев
Шумовых провел в тяжелых боях восемь месяцев и за это время не знал
отступлений -- все бои были наступательными.
Пятеро братьев
Удивительный это расчет, состоящий из пяти братьев! Командир его --
тридцатилетний Александр Шумов, старший сержант; наводчик -- Лука, ефрейтор,
старше его на четыре года; заряжающий -- Василий, тоже ефрейтор, на год
старше Александра; заместитель наводчика Авксентий, на год моложе, и
снаряжающий -- Иван, самый старший, 1905 года рождения, оба красноармейцы.
Все пятеро -- в один день одновременно, за бои по прорыву блокады --
награждены орденами: Александр -- орденом Отечественной войны 2-й степени, а
остальные -- Красной Звездой. Все они сибирские казаки, родом из Танна-Тувы,
там родились, там жили, оттуда вместе по доброй воле явились на фронт.
Из пяти братьев я познакомился сегодня с четырьмя, -- пятый, Авксентий
(сами братья зовут его: Аксений), болен желтухой и находится сейчас в
госпитале. Трое -- Василий, Лука и Иван -- подлинные великаны-богатыри,
ростом каждый в сто девяносто сантиметров; среднего роста только Александр,
но и он крепыш. Все они обладают огромной силищей. Руки Василия -- словно
медвежьи лапы. Раз грузовик расчета застрял в яме правым задним колесом.
Лука и Василий приподняли его, вытолкнули из ямы. А шофер, по неопытности,
дал задний ход. Чтобы колесо опять не попало в яму, братья поднатужились и,
пересилив мотор машины, не дали ей сдвинуться назад. Однажды, когда все
связисты выбыли из строя, Лука пополз исправить связь, разрывная пуля ранила
его в поясницу, но он даже не заметил, что ранен, пока товарищи не сказали
ему об этом. Другой раз Василий, работая пулеметчиком при отражении
контратаки, разгоряченный азартом, тоже не заметил было пули, которая,
пробив ему щеку, выскочила из его раскрытого в тот момент рта, не задев
зубов, -- он почувствовал ранение только тогда, когда ощутил во рту вкус
крови. Лука лишь на следующий день после боя согласился отправиться в
медсанбат, а Василий и вообще не захотел уйти от своего миномета.
Все они -- спокойные, уравновешенные, хладнокровные. Лица у всех --
открытые, ясные, добродушные, сосредоточенные. Все блондины или светлые
шатены. Между собой разговаривают тихо, размеренно, натомтаннатувинском
языке, который стал им родным с детства; в общении с окружающими --
переходят на русский язык. Они полны гордости за свою могучую семью, они
никогда не солгут, не слукавят, все делают дотошно, добросовестно, накрепко.
Тесно связаны братством, один без другого скучают, но очень
дисциплинированны, и если кто-либо из них получает отдельное поручение, то
выполняет его так же охотно и беспрекословно, как выполняют общее,
"семейное" дело, в котором каждый благодаря своей силе, росту и сноровке
работает за десятерых. Никто из них никогда в пререкания не вступает,
расстроенными, чем-либо недовольными их не видели, молчаливость их известна
всем, только Лука -- побойчее, любит поговорить, а Александр, более других
склонный к веселью иной раз даже пускается под гармонь в пляс.
Все, кроме Александра, малограмотны: живя в дальней тувинской глуши,
окончили они только по два класса начальной школы, лишь Александр -- четыре.
Александр у себя на родине с юности рыбачил да охотился в тайге На медведя,
волка, росомаху, рысь, сохатого оленя, козла, марала. Сдавая пушнину на
заготпункты, накопил денег, потом поселился в городе Кизыле, женился на
переплетчице типографии и сам в той же типографии стал рабочим. Такими же
охотниками были Иван и Авксентий. Василий работал грузчиком в госторге, а
затем колхозным плотником. Лука, начав свою трудовую жизнь работником у
богатого мужика ("за овечку шесть месяцев жил!"), стал позже колхозником...
Те из братьев, кто имели своих коней, по доброй воле отдали их в первые же
дни войны Красной Армии.
О своей жизни в Туве, о семьях своих братья рассказывают охотно, но и
слова из них не выжмешь, когда начнешь расспрашивать об их боевых подвигах
(которых ими совершено немало): скромны, хвастовства или хоть рисовку собой
-- не подметишь. Добросовестны, обо всем говорят просто, "как есть"...
Все братья женаты и многодетны -- детей у них общим счетом двадцать
четыре: у Луки -- десять, у Ивана -- шестеро, у Василия и Авксентия -- по
три, и только у "горожанина" Александра -- двое.
Семья у них на родине патриархальная, можно сказать, почти родовая.
Лука, Иван и Авксентий -- "Никитичи"; отец Василия -- Егор Фадеевич Шумов,
был партизаном, убит в гражданскую войну; отец Александра -- Терентий Шумов,
член партии с 1926 года, -- глубокий старик. Все пятеро считают главой семьи
и своим "единым" отцом (которого называют почтительнейше "они") Никиту
Фадеевича Шумова. Семидесятилетний Никита Фадеевич -- хлебопашец и скотовод,
сильный и здоровый поныне, строгий старец с огромной белой окладистой
бородой, ведет свой казацкий род чуть ли не от Ермака Тимофеевича и,
живя в Енисейской тайге, пользуется непререкаемой властью над сыновьями,
племянниками, внуками и правнуками своими...
Кроме пяти братьев-минометчиков на фронтах Отечественной войны воюют и
другие их братья: колхозный шофер Семен Никитич -- пулеметчик, позже радист,
уже дважды раненный на Ленинградском фронте; Максим Терентьевич -- тоже уже
дважды раненный, -- связной при штабе батальона на Калининском фронте;
Емельян -- пока в запасном полку; Петр Терентьевич -- неизвестно где
находящийся, потому что писем от него с фронта нет. Воюет и муж одной из
дочерей Луки, а три его самых старших брата отвоевались еще в годы первой
мировой войны: двое погибли, третий был контужен и ныне -- дома.
Все они, кроме этих трех самых старших братьев, отправились в армию
вместе, "одной колонной", и стоит сказать, как это произошло.
Жили они в своей таежной глуши, за сотни километров от железной дороги,
работали, слушали вести с войны по радио, почитывали газеты да обсуждали
далекие фронтовые дела, не радовавшие в ту пору их души. Думали частенько о
Ленинграде, в котором никто не бывал, но который был близок их сердцу:
родной их колхоз создавал ленинградец -- рабочий, близкий им всем человек.
От него наслышались они много о великом городе, с первых месяцев войны
окруженном немцами.
Первую мысль о том, чтобы им, всем братьям Шумовым, пойти на фронт да
гнать немцев от Ленинграда, подал Иван. Посоветовался с Семеном, и тот
горячо откликнулся -- пошел "агитировать" всех других братьев. И явились они
к отцу, Никите Фадеевичу.
Усадил их всех округ себя старик и сердито сказал: как это, мол, без
его приказу надумали? "Коли пришли за приказом, то вот он, таков: у нас в ту
войну два брата от немчуры погибли, Галафтифон (Галактион) и Андрон. Время
пришло такое, идите теперь, отвечайте за старших братовей, только семейства
устройте!"
Устроили Шумовы своих жен, детей и вместе с женами -- снова явились к
отцу, было это в зимний вечер января 1942 года. И вот как о том вечере
рассказывает Василий:
-- Барашка зарезали. Гуси жареные, поросеночек. Пивишка отец поставил,
браги ведерочка два выпили, -- сахар дешевый был, рубль килограмм.
Спиртик... Собирались в доме Луки. Утром -- Лука еще спал -- подъезжает отец
на санях, с красным флагом, кумач -- с метр. "Надо ехать!" У меня еще
оставалось с пол-литра, подал ему, сам выпил. Поехали в другой поселок на
сборный пункт, за семь километров. Отец впереди на своих санях с красным
флагом, за ним -- шесть саней, мы с женами и детворою постарше. Ехали, песню
пели:
С красным флагом приезжали, С полевых работ собрали...
По морозу, все дружно пели!
Оттуда двинулись мы в Балгазик -- районный центр. Не доезжая до
Балгазика с полкилометра, отец с саней слез, выстроил нас в две шеренги, сам
вперед флаг понес, мы за ним, а жены -- сзади на санях ехали. В Балгазике --
районное начальство встречает, подошел капитан, а отец ему с приветствием,
чин по чину:
"Вот, товарищ! Привел свою армию, отправлю на фронт, идут добровольно!"
И вышло нас население провожать. Мы все -- в одну машину. Продуктов
набрали с собой. Проехали на машине до Абакана, оттуда -- железной дорогой
до Красноярска. Здесь четырнадцать дней учились на минометчиков в запасном
полку. И собрались мы -- пятеро -- к полковнику, и полковник нам предлагает:
"Вот, мне как раз -- расчет! Ну давайте!"
А Семена с нами тут не было -- шофером работал он, позже нас в
Ленинград отправился.
Из Красноярска эшелоны с пополнением шли прямиком до Волховстроя.
-- Отсюда, -- рассказывает Василий, -- на Глажево, один эшелончик.
Прибыли восемнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года, а из
Глажева пехом в составе пополнения к Погостью, сразу в одиннадцатую
стрелковую дивизию, всех -- кто куда желает. Мы все в ряд выстраиваемся. И
нас -- в третью батарею отдельного минометного дивизиона, сразу -- расчетом.
Дали нам командиром старшего сержанта Кривоухова Анатолия Никитича...
Климат. Болото! Сразу плохо показалось. У Луки были болотные сапоги, пошел
пробовать, -- высоко!..
Когда я записывал этот рассказ, сидя возле миномета, в кругу братьев
Шумовых и их командиров, заместитель командира батареи по политчасти старший
лейтенант Плаксин перебил Василия:
Климат?.. А теперь им хорошо, ни жары, ни холода не чувствуют. Им что
похуже, то больше нравится, ничего не боятся -- ни снарядов, ни пуль!.. А ты
расскажи, в какой вы одежде приехали да что с собой привезли!
Одежда? В собственной! Полушубки, болотные -- повыше колен -- сапоги,
шапки-ушанки с хромовым верхом! А везли с собой всего на месяц -- мяса по
целому барану, всего прочего -- в таких же количествах!
Трое из них, -- добавляет Плаксин, -- вначале получали по распоряжению
командира дивизии полуторный паек, а теперь, когда получают обычный, им не
хватает еды.
То верно! -- усмехнулся Василий. -- Поддаемся болезням. Вот Александр
мечтает после войны первым делом полечиться: резвматизм!.. Хилость теперь у
нас!
Глянув на братьев при этих словах, я подумал, что и сейчас каждый из
них вдесятеро сильней и здоровее любого другого, -- но лица этих богатырей
действительно были бледными; обычного, строго и точно рассчитанного по
калориям армейского пайка им, великанам, конечно, мало!
Беда их, -- продолжает Плаксин, -- неграмотными приехали. Теперь сами
газеты читают. Беспартийными были -- теперь Александр и Василий члены
ВКП(б), остальные кандидаты!
Это -- после боев уже, когда заслужили, что нас узнали, какие мы. Тогда
заявления подали -- с октября прошлогоднего!.. А еще пуще беда наша, когда
приехали, -- в отношении наводки: что вправо, что влево, понятия не имели; и
еще: необстрелянные.
Как они воевали?
На вопрос: как же учились они воевать? -- Василий отвечает:
-- Сперва стали мы под "железкой", немцев там много лежало. Александра
да Ивана с супом послали -- доставить на передовую. Расскажи, Иван!
И Иван рассказывает:
-- Сперва страшно было! Смотрю -- снаряд разорвался. Другие падают, а
мы -- нет, стоим, смотрим. Только пошли -- шесть самолетов бросают бомбы.
Суп все ж доставили. Второй раз -- тоже, все пятеро суп, водку носили. Опять
под обстрелом. Авксентия снегом забросило, не ранило, только так -- рванет
оглушительно. Ну, мы решили: если ранят, то не бросим один другого... Вот и
слаженность у нас теперь в бою почему? В других расчетах каждый надеется,
что он сделает что полегче, а другим -- потрудней оставит. А нам что? Друг
на дружку надеемся, за нас -- никто! И нам отец говорил: "В куче, как веник,
будет всем лучше, а по одному -- наломают, всем хуже будет!" Так мы:
"Давайте, братья, сделаем!" И уж на совесть. Где если машина засядет -- "А
ну! Давай!.. " Надеяться на других не любим. Комсоставу кто землянки делает?
Шумовы! (А уж себе -- сделана!) А другие еще себе только делают!.. Связь
себе сами ладим!
Василий снова ведет рассказ. О том, как учил их всех Кривоухов, как
вначале вместе с другим боевым расчетом "вхолостую" команды принимали, а тот
-- стрелял; и о том, как Александр охотнее всех изучал миномет и всех тянул
за собой. Не стеснялись братья своего незнания, все "натурально"
расспрашивали: и как поставить правильный угол возвышения, и как управлять
дистанционным краном, и давать беглый огонь. Объясняет Василий, как
одновременно изучали они автомат, гранату, винтовку и пулемет. И как
научились заменять друг друга в любой обязанности; и еще повествует о том,
как первый раз закипела в них злость, когда под Погостьем, у Кондуи, в бою
за поляну "Сердце" (она имеет вид сердца) увидели наших раненых, сожженных
заживо фашистами...
-- Первый бой наш расчет повел пятого апреля, под Макарьевской
пустынью. Наша батарея стояла готовая на огневой позиции, впереди. Миномет
был уже стодвадцатка. Мы под огнем блиндаж делали. Снег растаял, мокро.
Александр навел, я было стал тут теряться, но ничего, сразу пять мин -- и
подавили станковый пулемет, -- он из лесочка, за километр бил... А уж в мае,
в Малиновке, когда немец (человек восемьсот) шел в наступление и пробил
брешь в соседней дивизии, нас бросили в эту брешь. С ходу мы развернулись,
сделали все как
надо и дали ему жару. Он опять в атаку пошел, силами до полка, мы
срубики сделали над минометами широкие, не так, как другие расчеты узкие
амбразурки делали, и открыли огонь! Всего три дня канитель была, мин пятьсот
бросили, подходяще. Принесут суп, не успеешь ложки хлебнуть -- по местам!
... Ночью они бомбили здорово, жаром охватывало, деревом накрыло, Ивана
отбросило, -- это была тополевая роща, тополи толстые. Мы все лежали за
лесиной, за корнями, срубчики -- пустяковые, укрыться некуда... А они
пикируют, с ревунами, -- вот крепко было!..
И от боя к бою шли неторопливые рассказы Василия, Ивана, Луки.
Александр больше помалкивал, а командир батареи и два его заместителя
уточняли: где именно, когда и при какой общей обстановке происходило то или
иное. И когда я поинтересовался секретами успеха Шумовых в этих боях, то
сказали мне братья, что главной причиной успеха была приобретенная ими
точность и скорострельность стрельбы. Когда расчет Шумовых делает
пристрелку, то по их миномету и другие расчеты батареи открывают огонь:
Шумовы не ошибаются.
-- Конечно, и сила тут!.. Когда, допустим, осечка, нужно силенку, чтоб
сгрести за казенник машинку и мину вытряхнуть, Александр с Лукой, а то и
один Лука сгребет! Для его ручищ пудовая мина -- что огурец. А осечки
бывают, особенно ежели чужие мины собираешь: ящики, бывает, несут, мины
повыкладывают, а мы тут как тут, собираем их, раз штук двести собрали.
Капсюль отсыреет -- осечку дает, или шляпка от патрона остается в стволе.
Миномет переворачиваешь, вытряхиваешь. Лука часто один вытряхивал, -- ну, у
него ж и рост!.. А все ж дело не только в силе: скорострельность необходима!
Значит -- внимательность. По уставу в минуту полагается выпустить десять
мин, практически другие расчеты дают семь-восемь. А у Василия
скорострельность достигает пятнадцати, а то и семнадцати мин. И бывали
случаи -- в январских боях по прорыву блокады, -- до восемнадцати мин
"висело в воздухе". Это значит: когда первая мина, достигнув цели,
взрывается, братья опускают в ствол миномета двадцатую, -- а восемнадцать
выпущенных летят одна за другой, приближаясь к цели. А когда затем разрывы
чередой следуют один за другим, получается впечатление,
будто Заработала "катюша". Каждые три секунды -- мина!
А точность работы расчета Шумовых характеризует хотя бы такой случай,
рассказанный мне старшим лейтенантом Плаксиным.
Недавно -- 18 апреля -- на минометную батарею пришел полковник,
заговорил о точности стрельбы, и командир батареи предложил ему самолично
убедиться в том, насколько точна стрельба расчета братьев Шумовых.
Впереди виднелся немецкий блиндаж, и полковник спросил: сколько мин
потребуется Шумовым, чтобы пристреляться к этому блиндажу, а затем перейти
на поражение?
Командир расчета, Александр Шумов, уверенно ответил:
-- Три! А четвертую, товарищ полковник, пустим на поражение!
Такая уверенность показалась полковнику бахвальством. Но командир
батареи Цивликов знал, что Шумовы его не подведут, и попросил разрешения
самому отправиться на передовой корректировочный пункт вместо всегдашнего
разведчика-наблюдателя старшего сержанта Фролова. Полковник разрешил
Цивликову быть корректировщиком-наблюдателем и приказал командовать старшему
лейтенанту Плаксину.
Весь расчет помнит команды этой стрельбы.
-- По блиндажу противника, -- скомандовал Плаксин, --
осколочно-фугасная мина, взрыватель замедленный: заряд 1, буссоль 1, 92,
прицел 5, 23 -- первому, одна мина, огонь!
По донесению корректировщика, мина легла точно на линии блиндажа, но
чуть-чуть левее, и он дал поправку:
Правее, 0, 55...
Огонь!
Вторая мина легла на той же линии, чуть правее. Третья мина пошла по
команде: "Левее... 0, 03... Огонь!"
-- Ясно! -- сказал Александр Шумов, услышав последнюю поправку: "левее
0, 05". -- Разрешите пойти на поражение?
Четвертая мина попала точно в блиндаж, полковник приказал дать еще
шесть штук беглым огнем, от блиндажа ничего не осталось, и на этом кончили
стрелять.
Другой раз столь же точным огнем Шумовы успели
накрыть вражеский грузовик с пехотой, который быстро пересекал открытую
поляну и вот-вот должен был скрыться в лесу. Сами Шумовы результатов своих
стрельб обычно не видят -- их глазами давно стал корректировщик Фролов.
Только раз, в торфяниках под Гонтовой Липкой, довелось им самим наблюдать
действие своих мин.
-- Как мина упадет, -- радостно рассказывает Василий, -- так где
клочки, где что летит -- хорошо видать. Они подбегают, и мины их начинают
крошить; которые сразу падают, которые обратно бегут, а мы по ним снова --
"Не уйдешь!" -- кричим. "Ну, братья, действительно попадаем!"
Были случаи, за день батарея выпускала больше тысячи мин, а однажды
выпустила две тысячи.
По подсчетам Фролова, который уже год не расстает ся с расчетом
Шумовых, на счету у братьев больше четырехсот немцев, одиннадцать пулеметов,
четырнадцать минометов (только уничтоженных, не считая подавленных), девять
дзотов, несколько автомашин с людьми и одна машина с боеприпасами. Эту
последнюю машину накрыли вечером. В ней был и ящик с осветительными
ракетами, и, когда ракеты стали рваться, освещая темные небеса разноцветным
фейерверком, вся батарея, да и весь полк любовались работой Шумовых...
Этот полк недавно, после жестоких боев под Синявином, состоял всего из
восемнадцати человек, -- теперь он снова укомплектован полностью. А в
расчете Шумовых за весь год потерь не было, если не считать тех ранений, о
которых я уже упоминал, да убитых лошадей, которым почему-то особенно не
везло.
-- Черт его знает, -- рассказывает Василий, -- как лошадь возьмем,
приведем на ОП, так прямое попадание в лошадь. А мы коней любим! Расскажи,
Иван, как своего жеребчика встретил!
-- В дивизии это было, -- усмехается Иван, -- в деревне Криваши, в
августе сорок второго. Вижу, майор верхом едет, и узнал я своего коня издали
-- тот самый, которого на Туве сдал. Вот случай, думаю! Подошел, и по тавру
удостоверился, и говорю: "Белик!" -- "Ты что?" -- глядит на меня майор. А я:
"Товарищ майор, разрешите обратиться! С лошадкой охота повидаться!" -- "Как
так?" -- "Я пожертвовал!" -- И похлопал я по шее
3П. Лукницкий
коня, и узнал он меня, баловник, и Думаю: "Поездил бы на тебе!" -- как
раз задание выполнял, километров десять пешком. "Вот бы сел на тебя!.. "
Бывают же, в самом деле, случайности!
Мне сказали, что Василий в боях под Синявином действовал и как
пулеметчик. Я расспросил его. Узнал, как он косил гитлеровцев с близкой
дистанции, лежа в торфяниках. Братья ему завидовали, и из их отрывистых
замечаний я понял, что каждому из них хотелось бы бить врагов не только из
миномета, издали, а схватиться с фашистами врукопашную, -- вот уж где они
понаслаждались бы своей физической силищей! А то ведь, не обращая никакого
внимания на огонь врага, воюют, как работают: спокойно, деловито,
невозмутимо.
Приучили себя к выдержке и хладнокровию, а у каждого, вопреки внешнему
суровому спокойствию, живет в крови русская удаль. "Эх, дотянулись бы вот
эти руки!" -- сдержанно произнес Лука и, подняв огромные свои кулаки,
погрозил ими в воздухе: "Во!"
... Весь день и весь вечер меня грызут комары, мириады их поют в
воздухе, спасения от них нет, и, пока я делал все эти записи, руки и лицо
опухли, и невольно я расцарапал их... [1]
[1] В дни войны поэма "Россия", за которую А. Прокофьеву была
присуждена Государственная премия, да тоненькая брошюра журналиста Кара,
изданная Политуправлением Ленинградского фронта, да мои корреспонденции,
опубликованные через ТАСС в десятках газет, разнесли славу о братьях Шумовых
по всей Советской стране. Самих братьев Шумовых мне никогда больше не
довелось увидеть, и об их дальнейшей судьбе я до недавнего времени ничего не
знал.
9 июля 1958 г. я прочел в "Комсомольской правде" заметку в четырнадцать
строк. Она начиналась словами: "В суровые годы Отечественной войны по всему
Ленинградскому фронту разнеслась слава о боевых делах отважных братьев
Шумовых... " Вторая половина заметки состояла из таких строк: "... Но не
всем братьям суждено было вернуться с поля брани, трое погибли смертью
героев".
С тех пор прошло много лет, но и сейчас ленинградцы с большой любовью
произносят имена братьев Шумовых. Их 120-миллиметровый миномет No 0199
установлен в Ленинградском артиллерийском музее. В Музее истории Ленинграда
намечено открыть специальный стенд, посвященный подвигам отважных братьев.
Шумовы награждены юбилейной медалью в честь 250-летия Ленинграда.
Два брата -- Александр и Лука -- трудятся сейчас на Фрунзенской фабрике
модельной обуви.
Цветет черемуха!
25 мая. 12 часов 30 минут дня
... Вчера вечером А. Прокофьев с журналистами газеты "Отважный воин"
ушел назад в Петровщину, а я с П. Никитичем остался ночевать на батарее, с
тем чтобы поутру направиться в 1074-й полк 314-й стрелковой дивизии к
известной всем на фронте Круглой Роще.
Командиры батареи с утра были заняты приемом пополнения. Цивликов ушел
на сутки километров за пять на тактические учения. Он повел с собой группу
бойцов, среди которых есть узбеки, татары, грузин и казах Адильжан --
старший сержант, отличный, храбрый и исполнительный, в армии он -- с 1939
года.
Мой путь с Никитичем лежал мимо Бугровского маяка. Мы вышли с батареи в
одиннадцать часов утра, шли четыре километра по дороге, переправились на
плоту через канал, пошли вдоль берега Ладоги между двумя каналами,
осчастливленные чудесной природой -- пением птиц, запахом черемухи... Она в
цвету, деревья белеют!
Через час пришли сюда, и вот сижу на каменной глыбине, пишу, а Никитич
фотографирует меня и развалины маяка. В солнечном небе -- самолет. В эту
минуту он пикирует, и его обстреливают наши зенитки. Глыбиной прикрыт вход в
блиндаж, у подножия маяка. В блиндаже мы застали лейтенанта и красноармейца.
Лейтенант, разбуженный нами, сразу куда-то ушел, а красноармеец, разложив
костер, стал варить суп в ведре перед блиндажом. Чуть подальше, у маяка, --
группа саперов 320-го стрелкового полка, ходят с осторожностью: все
минировано. Я с Никитичем ходил здесь, однако ж, без провожатых. Все облазил
и осмотрел, сделал несколько фотографий.
Природа торжественна и величава. Зеленая листва, освещенная жарким
солнцем, ярка; в голубых небесах медленно наплывают с севера белые кучевые
облачка; гладь озера бестрепетна, тиха. В природе -- благостный мир, а
вокруг меня -- хаос опустошения: снесенные дома, обломки маячной башни,
воронки от бомб, снарядов и мин, кирпичный лом -- крупные кирпичные глыбы,
вырванные из башни. От нее осталось только основание. Два зуба -- остатки
круглых стен -- высятся до четвер-
того этажа, внутри со стороны озера, по куче развалин тянется
деревянная лестничка и там, наверху, стоит красный маячный фонарь, --
видимо, по ночам он действует.
Рядом с маяком -- руины кирпичной казармы. По словам Никитича, здесь
был отличный дом отдыха водников. В двухстах -- трехстах метрах от маяка
видны проволочные заграждения и немецкие дзоты. Здесь, до прорыва блокады,
стояли немцы. За озером видна Шлиссельбургская крепость, отчетливо видны оба
берега -- и ленинградский и кобонский.
Вот лейтенант вернулся, с ним три пожилых бойца. Окинув жестом руки
наши траншеи и дзоты, обводящие маяк со стороны озера, лейтенант спрашивает:
Где мины, знаете?
Не знаем! -- отвечает старший из трех бойцов.
-- Напоретесь! Тут мин до хрена! Я сейчас дал задание, чтоб, пока не
стемнеет, до пота работать!
Лейтенант стоит, размышляет, как объяснить им, где мины.
По каналу немец нет-нет да и стреляет. Вчера попал в самый канал. Вчера
же в 4-м поселке снарядом убито семнадцать красноармейцев... Доносятся звуки
разрывов, немецкая артиллерия бьет то справа, то слева. Ночью авиация
налетела на Шлиссельбург, были сброшены осветительные ракеты на
шарах-пилотах. Они взмывали вверх. Один из пары немецких самолетов,
пролетавших вчера над Шальдихой, сбит двумя зенитными снарядами. Летчик
спрыгнул на парашюте. Пилот второго немецкого самолета хотел расстрелять
своего товарища в воздухе, но был отогнан нашими зенитчиками, и этот
приземлившийся немец был взят в плен...
Передо мною пробитая каска на тонком пеньке, лодочка, причаленная к
бровке большой воронки от 250-килограммовой бомбы; красноармеец,
отталкивающий свой плот шестом от берега озера; другой -- на берегу удит
рыбу... По зеленой траве разбросаны куски железа, камня, кирпича, жестянки,
тряпки...
Как нелепо сочетание солнечной благости мира в природе -- и хаоса
войны, разрушения, вносимого в этот мир человеком!
 Командир стрелкового полка
Н. Г. Арсеньев (справа) (Снимок сделан в июле 1944 г. )
Пришедших к нему корреспондентов Арсеньев у порога своего блиндажа
встретил приветливо, повел к себе, угощал. У него высокий лоб, зачесанные
назад коричневые мягкие волосы. Темно-голубые озорные его глаза светятся
шаловливой, мальчишескою улыбчивостью. В лице -- нервная усталость, никак
Арсеньевны не выказываемая, но мною уловимая. От носа мимо углов губ к
подбородку тянутся две старящие Арсеньева складки, но они же изобличают и
его волю. Он щедро пользуется -- иногда даже с ухарством, с балаганством --
огромным запасом прибауток, едких стишков, соленых выражений. Но это --
внешняя манера держаться: Арсеньев умеет быстро переключаться на серьезный,
деловой разговор -- сразу становится сосредоточенным, выдержанным. Мне
понравилось, что Арсеньев не любит стандартных, заезженных фраз. Подмечает
их в речи собеседника, поддевает его, вызывая порой смех окружающих. Кипучая
и заражающая веселость создают вокруг него атмосферу энергии, хорошее
настроение. Он, безусловно, умен...
Таково первое впечатление, произведенное на меня Арсеньевым, с которым
я провел весь день.
Ночь на 26 мая
Проверяя по телефону положение в батальонах, ротах, на полковых
батареях, принимая донесения и отдавая приказания, Арсеньев рассказывал мне
свою биографию, я подробно записывал, и в мою запись внедрялись такие фразы:
"Корова" чесанула один залп". Или: "Если кухне нельзя подъехать, надо чтоб в
термосах подносили третьему батальону!.. Ну и что же! Пусть за два-три
километра!" Или: "Я уже тебе говорил: надо огневую систему на стыках
усилить, -- плотность огня. С тебя спрашивать буду! Доложишь!"...
Биография Арсеньева несложна. Он из крепкой рабочей питерской семьи.
Родился в 1906 году. Его отец был "чернорабочим" -- кочегаром на заводе
"Новый Лесснер", умер двадцати трех лет. Мать, Мария Сергеевна, ткачиха
фабрики "Работница", умерла в 1941 году. Брат
Алексей был токарем на заводе "Двигатель", второй брат, Павел, --
фрезеровщиком на заводе имени Свердлова. Сам Николай Георгиевич, начав свою
рабочую жизнь мальчиком-посыльным на том же заводе "Новый Лесснер" (ныне
завод имени Карла Маркса), окончил Политехнический институт, стал
инженером-металлургом. Он работал над сплавами на заводе "Красный выборжец",
был секретарем ячейки комсомола, членом Выборгского райкома. Вступив в
партию, вскоре стал секретарем партийной организации испытательной станции
завода и объединенного с нею силового цеха. С курсов пропагандистов его
призвали в армию...
Обладая чувством юмора, Арсеньев иронически рассказывал, как в юности
любил волочиться за девушками, порой хулиганил, однажды за хулиганство был
на время исключен из комсомола.
Первый раз женился он неудачно, но вторая жена оказалась хорошим
другом, помогла остепениться -- "чудный человек, чудесный товарищ!" Он любит
свою жену и особенно любит детей -- дочку и сына. Живут они сейчас в
Петропавловске. Показывая мне письма, в которых дочка называет его
"папуленька", Арсеньев становится трогательно-грустным, как все фронтовики,
не ведающие, доведется ли им когда-нибудь увидеть своих жен и детей ("Я
безумно люблю детей!").
За строптивую насмешливость и неуважительность Арсеньева недолюбливала
теща, и, говорит он, "такое положение было до финской войны; после финской
войны (они думали, что я убит, -- я был комиссаром лыжного батальона,
пятьдесят суток в тылу у финнов, вернулся с орденом Красного Знамени) теща
помирилась со мной, перестала считать меня "литовским босяком"...
Возвращаясь из финских тылов после многих боев, Арсеньев с группой
лыжников триста метров полз под снегом при пятидесятиградусном морозе --
наст сверху был прочен, а снег так глубок, что лыжники пробирались в нем,
как кроты, незамеченными.
-- На шубнике моем, когда вышли, оказалось около ста двадцати дырок,
осколочных и пулевых, -- смеется Арсеньев. -- 30 марта я приехал в
Ленинград, в отпуск, и пришел домой, на Невский, 135. Звоню у дверей. Жена,
Анна Михайловна, не открывает. "Кого вам нужно?" Я было подумал, что бросила
меня, не хочет пускать, говорю: "То есть как, кого? Ну, мне нужно тут одну
гражданку!" -- "Что с мужем? Что?" (Она думала, я погиб. ) "Нет, -- отвечаю,
-- мне нужно одну гражданку, в качестве мужа прислан!" Тут дочка по голосу
узнала меня да как закричит: "Папуленька!" Я опухший был, дистрофик. Жена
увидела меня в коридоре, так и села!..
Арсеньев с детства увлекался литературой, музыкой, был в литкружке
"Кузница", писал стихи. Любил также волейбол, городки и, как болельщик
футбола, не пропускал ни одного матча. Читал очень много и тут, на фронте,
читает "Батыя", Драйзера, перечитывает "Войну и мир", изучает Суворова и
военную литературу.
Мы сегодня вспоминали любимых им с детства Жюля Верна и Джека Лондона,
и он наизусть цитировал мне сказки Андерсена.
Боевая готовность
26 мая. 3 часа 40 минут утра. Блиндаж КП
Час назад, проговорив с Арсеньевым за полночь, мы легли на одной наре
спать. Но в 3 часа ночи раздался писк аппарата, Арсеньеву сообщили:
"Противник в 4. 00 собирается кое-что предпринять!"
Арсеньев немедленно вызвал к проводу комбатов, приказал поднять все
подразделения полка, приказал начальнику артиллерии Гребешечникову привести
в боевую готовность артиллерию, предупредил резервы, проверил связь.
Заместитель командира полка доложил, что противник начнет артподготовку с
новых позиций. Арсеньев объявил:
-- Будить всех!.. Будить замполита!
Замполит капитан Донских заспался, вставал неохотно, но затем начал
действовать. Я с Арсеньевым, Никитич и адъютант Арсеньева, лейтенант Борис
Карт, в шинелях, при оружии вышли из блиндажа КП и перешли в блиндаж
наблюдательного пункта, где у стереотрубы находился командир батареи
120-миллиметровых минометов, старший лейтенант Федор Лозбин. Этот блиндаж
минометчиков Арсеньев использует и как свой командирский наблюдательный
пункт.
Общее напряжение ожидания передалось и мне: смотрим на часы, сейчас
около четырех утра, вот-вот обрушится на нас артподготовка, Начнется
немецкое наступление. Арсеньев, внешне спокойный, но -- подмечаю --
нервничая, проверяет по телефону готовность полка к отпору. Вокруг
абсолютная тишина. Молчат и наши и немецкие пушки, минометы, пулеметы. Ни
один винтовочный выстрел не нарушает эту особенную, хрупкую, словно
стеклянную тишину. Мы не разговариваем. Лозбин и Арсеньев по очереди глядят
в стереотрубу. Но в этот предрассветный час что-либо разглядеть трудно!
Мне все же хочется спать -- пройдя километров двадцать, я потом в полку
весь день работал, не спал ни минуты.
4 часа
Все тихо. Арсеньев, прижав к уху телефонную трубку, прислушивается.
Глядит в амбразуру на передний край. Потом берет какие-то протянутые ему
Лозбиным письма, усмехается, кивает мне:
-- Любовные! От Виктории и от Вали!..
Читает их.
Смотрю в стереотрубу. Над полем, над немецким расположением клочьями
белесый туман. Какой дикий хаос разрушения повсюду!
5 часов 25 минут
Солнце! На немецких позициях все та же странная тишина. Нет обычного
движения, все замерло. Арсеньев заснул было сидя за столиком, а теперь лег и
похрапывает. Я подробно рассмотрел немецкий передний край в стереотрубу.
Блиндажи -- по ту сторону Черной речки. На гребне перед ней -- наши разбитые
танки, дзоты, блиндажи. Дальше за Черной речкой, в изувеченном лесу возле
Круглой Рощи, видны разрушенные немецкие блиндажи, землянки!
Только что начали стрелять наши орудия -- разрывы видны в лесу. В ответ
несколько выстрелов немецких дальнобойных -- снаряды перелетели через нас.
Прошли два немецких истребителя, и опять все тихо. Весь хаос переднего края
залит утренним солнцем.
Хочется спать. Здесь, в блиндаже, так тесно, что прилечь нельзя.
Арсеньева разбудили: вызвали к аппарату. Он сообщил, что все тихо пока,
лег и опять захрапел, но сразу же проснулся и теперь, сидя за столом,
работает над картой.
9 часов 30 минут утра
КП полка. Немцы наступления не начали. На наблюдательном пункте я делал
записи о Черной речке, потом вместе с Арсеньевым и другими вернулся на КП и
спал два часа. Все тихо, подчеркнуто, непонятно, угрожающе тихо, -- нависшая
тишина! День, обычный день, начался. В блиндаже -- чистка сапог, бритье,
мытье, жарятся на завтрак свежая рыба и оладьи, на столе -- чай с клюквой...
Разговор о награждении медалями ("Надо написать приказ!"), о мерах по
укреплению рубежей и системы огня, о рекогносцировке; о солдатах -- узбеках
и казахах ("Они воюют хорошо, если им дан командир, говорящий на их
языке")...
Ячейки, ниши и амбразуры
26 мая. 10 часов утра. КП полка.
В блиндаж вызван полковой агитатор, старший лейтенант Даниил
Варфоломеевич Лях. Он будет сопровождать меня и Никитича в обходе переднего
края, куда мы сейчас отправляемся. Он украинец, родом из Черниговской
области, 1905 года рождения, член партии с 1942 года. Представлен к ордену
Красной Звезды.
Обход начнем с КП второго батальона. Этот командный пункт находится в
блиндаже, врытом в берег Черной речки. Я разглядывал его в стереотрубу с НП
Федора Лозбина...
КП второго батальона. Блиндаж на переднем крае
Пришли сюда по траншее. Командир батальона -- старший лейтенант
Мухаметдинов Мухамед-Сали Сафиевич, казанский татарин; черный, худощавый,
живые лукавые глаза. Участвовал в отражении атаки 10 мая.
Течение Черной речки часто изменяют огромные воронки, разрушающие ее
берега. Вода вливается в такую воронку кружась, наполняет ее и переливается
в следующую, все дальше отклоняясь от своего старого русла. Траншея
переднего края, обрамляющая берег, -- единственная защита от немецких
снарядов и пуль. Эта первая линия окопов проходит зигзагами, и в каждом углу
зигзага построен блиндаж. В его амбразуру на немцев глядят вороненый глазок
пулемета и пара человеческих глаз. Пулеметчики, снайперы, наблюдатели здесь
спят по очереди, урывками, и амбразуры повернуты так, что вся местность
впереди может быть в любую минуту накрыта перекрестным огнем. Каждый боец в
траншее знает, что в нужную эту минуту, на то же самое пространство впереди
и на всю глубину вражеской обороны лягут тысячи снарядов и мин, посланных
сзади нашими артиллеристами по первому вызову огня.
Боевое охранение, ячейка с амбразурой
Ниша НП с винтовками и ручным пулеметом. Два бойца спят, третий
наблюдает в бинокль. В траншею врыты цинки. Перед бруствером лежат трупы
немцев, они разлагаются, и ветерок доносит отвратительный запах. Один из
этих немцев полусидит, опершись подбородком о пень, кожа с лица слезла,
пустыми глазницами он смотрит прямо в амбразуру. До него не больше двух с
половиной метров. Другой лежит на спине, живот и грудь вздулись, но
впечатление, будто он отдыхает. Наши бойцы, насколько удается, забрасывают
трупы землей, но снаряды и мины, разрывающиеся в этой зоне, вышвыривают их
по частям и целиком.
Здесь был жестокий гранатный бой, когда немцы подобрались к пятой роте
по лощине. Эта лощина уходит в глубь немецких позиций, до них -- восемьдесят
метров. Наши отбивались с четырех часов ночи до одиннадцати утра, немцев в
траншею не пустили, но гранаты с длинными ручками они сюда добрасывали, били
сюда и минометами, и пулеметами, и автоматами, поддерживала их и артиллерия.
Пост No 24
Чтобы прийти в конец траншеи на этот пост, нужно было перебежать,
пригнувшись, по открытому, ничем не защищенному мостику через разлив Черной
речки ("протока" создана сомкнувшимися воронками). По мостику бьют немцы,
бьют плохо, потому что мы все, перебежав поодиночке, невредимы. Свист пуль,
а подальше -- хлюпанье мин в болоте; все время стреляют две немецкие пушки,
они где-то близко, но снаряды перелетают через траншею, рвутся дальше.
Сижу в нашей снайперской ячейке, гляжу в амбразуру. В ста метрах видны
немецкие заграждения, еще ближе -- в восьмидесяти -- группы немцев за
торфяными укрытиями. Их снайперы часто целятся и сюда, в щель амбразуры, --
нужно остерегаться.
В бою 10 мая из этой траншеи работал ротным 50миллиметровым минометом
командир пятой роты, младший лейтенант Николай Тимофеев, вторым минометом --
младший лейтенант Ипатов. А сквозь амбразуры вел пулеметный огонь командир
взвода. Из-за его спины бросал гранаты больше всех отличившийся в бою
младший лейтенант Щипцов. В момент атаки здесь было мало бойцов, основной
удар приняли на себя подоспевшие командиры...
Пулеметная точка No17
Берег Черной речки -- болотная, превращенная в крошево прогалина, где
не выроешь траншею даже в полроста. Единственное укрытие от немцев --
плетень из сухих ветвей, изглоданных пулями и осколками мин. Плетень не
защита от пуль, но за ним можно пробежать, пригнувшись и увязая по колено в
болоте. Если ты ловок и поворотлив, враг не заметит тебя. Вот так вчетвером
-- со связным и лейтенантом Ляхом -- сюда и перебежали, слыша над своими
спинами свист пуль. Ощущение неприятное, будто ты заяц. Было страшно, но
перебегал я со смехом: очень уж неуклюже хлюпали, да с прытью!
Точка No 17 второй пулеметной роты обложена торфяными кирпичами. Вода.
Люди живут здесь лежа, не просыхая.
Пулеметчик Коренев Александр Андреевич, небольшого роста, неказист,
лицо немытое, весь в болотной жиже.
-- Я уже пять раз раненный!
Служил в Ленинграде счетоводом, кассиром. В бою 10 мая бил из
станкового пулемета, израсходовал шесть лент и сам набивал, потому что
остался один. Двое других, оставшихся в живых, -- младший лейтенант Иван
Щербина и боец Лукьянов -- стояли за станковыми пулеметами на соседних
точках. Втроем израсходовали лент двадцать; положили, отразив три атаки,
больше восьмидесяти гитлеровцев. Гранат здесь не применяли. Записываю
подробно всю обстановку боя. Вместе с Кореневым и Щербиной (он высокого
роста, рябоватый, жмурится; каска и шинель в болотной трухе) черчу схему.
Рассказ Коренева дополняет подсевший к нам командир четвертой роты лейтенант
Скрипко -- сероглазый шатен с мягким лицом, над которым -- чуб. У Скрипко на
гимнастерке две желтые нашивки ранений.
Снайперская ячейка
Двигаясь дальше вдоль переднего края, пришел к снайперской ячейке
комсомолки Любы Бойцовой. Ниша в траншее. Девушка в каске, гимнастерке, с
погонами, грубое, рябое, круглое лицо. Разговаривает со мной тут же, в своей
нише-ячейке, не отрывая глаз от наставленного оптического прицела винтовки,
не оборачиваясь. Родилась в 1922 году в Аятском районе, Ленинградской
области, жила в Ленинграде, работала на станции Паша, на заводе, и оттуда --
в армию, с начала войны, добровольно.
-- Раньше была в медсанбате 243-й стрелковой дивизии, ходила на
передовую, перевязывала. Меня -- в медсанбат, а у меня мечта была -- совсем
на передовую удрать. Вот мечта и осуществилась. Сорок пять дней была на
армейских курсах снайперов и теперь -- сюда. Я в соседнем полку, в 1076-м, а
сюда только на охоту хожу, сегодня второй раз на охоте...
Рассказывает, что сегодня убила немца, он связь тянул. Это второй на
счету, а первого убила позавчера, 24 мая.
Пока говорю с Любой, рвутся и рвутся мины -- все позади траншеи.
КП второго батальона
Возвращались вдоль переднего края -- вдоль плетня, по мосту-стланям, и
-- никакого укрытия, пока не вошли в траншею. Бегом, согнувшись, по колено в
воде.
Говорю с командиром пятой роты младшим лейтенантом Николаем Ильичом
Тимофеевым. Чуб, пилотка, глаза зеленоватые, серьезный, немногоречивый,
рассказывает небрежно. На левой стороне груди -- орден Александра Невского.
Он -- кандидат партии, из комсомольцев, в прошлом учитель. На фронте
год, начал в боях под Синявином. Орден -- за бой 10 мая. Сначала бил сам из
ротного миномета, потом, встав на бруствер вместе с командиром пулеметной
роты Скрипниченко, выбросил больше ста гранат. Отбил три атаки и не был
ранен...
Пока я разговаривал с ним, сообщение по телефону: на пулеметную точку
No 17, откуда я сейчас пришел, -- минометный налет. Пулеметчик Коренев (с
которым я только что разговаривал) тяжело ранен; из двоих бойцов (они
уходили обедать, когда я был на точке) один ранен, второй "уснул". На
здешнем языке "уснул" -- убит...
5 часов дня. КП полка
Мы пришли сюда с хорошим "урожаем": схемы, много записей -- биографии,
обстановка, история последних боевых действий.
Вечер
Отмывшись, пообедав, продолжал здесь, на КП, мои беседы. Записал
рассказы старшего лейтенанта Лысенко (заместителя командира первой,
штрафной, роты по строевой части) и снайпера ефрейтора Поваренко У этого
снайпера на счету 173 фашиста (из них 115 во время финской войны). Своему
искусству он обучил шестнадцать бойцов на Карельском фронте, а сейчас имеет
одиннадцать учеников.
Федор Поваренко, в пилотке набекрень, -- большеносый, ростом высок и
очень спокоен. О своей снайперской "охоте" говорит, как о будничном
ежедневном деле.
А Лысенко толково рассказал о действиях своей роты в бою 10 мая. Рота
отличилась, сражалась храбро, многие награждены орденами. Сам Лысенко --
орденом Красной Звезды.
Все больше подробностей узнаю я об этом бое, но правильное
представление о нем получу, только когда поговорю с Арсеньевым и с другими
старшими офицерами полка.
Рассказ о Петрозаводске
27 мая. Утро. КП полка
Всю ночь до половины седьмого утра я беседовал с Арсеньевым. О чем
только не говорили!
Арсеньев мыслит широко, разговаривать с ним приятно и поучительно.
Особенно интересен для меня был рассказ о Петрозаводске, который был занят
противником в ночь на 1 октября 1941 года. В эту ночь по специальному
заданию Арсеньев с группой бойцов взорвал все объекты города, какие могли
быть использованы врагом. Арсеньев, прорвавшийся 2 октября со всей группой к
нашим войскам, был за эту операцию награжден орденом Красного Знамени. Вот
главное из того, что рассказал Арсеньев.
"... При отходе мы по приказу командования сжигали и уничтожали все
имеющие военное значение объекты. Строя оборону после тяжелых июльских боев,
батальон получил приказ Военного совета армии прибыть в Петрозаводск. В
батальоне из тысячи четырехсот человек к этому времени оставалось тысяча сто
человек. Погрузились на станции Лахден-Похья и 2 августа прибыли на станцию
Эйсоэло, что за Петрозаводском. В районе Сям-озера, Вагод-озера,
Шугод-озера, Крошн-озера, Под-озера под руководством батальона у нас
работало двенадцать тысяч человек гражданского населения, создали очень
крепкую оборону, а в районе Вагод-озера и до самого Петрозаводска мы
одновременно строили и воевали.
Когда двадцать пятого сентября сорок первого года стал вопрос о том,
что придется сдавать Петрозаводск, меня вызвали начальник инженерного отдела
Седьмой армии полковник Матвиенко и комиссар отдела полковой комиссар
Миронов. Сообщили, что Военный совет Седьмой армии, по решению партии и
правительства, возлагает на меня большую и ответственную задачу взорвать
важнейшие объекты города Петрозаводска. В мое распоряжение предоставляется
семьдесят бойцов с командирами.
Я попросил разрешения приступить немедленно к подготовке объектов для
их уничтожения. Двадцать седьмого сентября я лично объехал все эти объекты с
командиром роты лейтенантом Симоновым, произвел расчеты: сколько потребуется
взрывчатых веществ, чтобы взорвать важнейшие механизмы и отделы.
Уничтожению подлежали: шесть электростанций, городской водопровод,
фидерная и аккумуляторная станции, отдельные цеха Онежского завода, тюрьма,
главный почтамт, ликеро-водочный завод, типография Анохина, опытная фабрика,
холодильник, десять мостов, все три бани и многое другое... Мы сожгли
пристань, гостиницу, Кировский мост, плотину... Произвести же полное
разрушение я не мог, так как имел всего семь тонн восемьсот килограммов
взрывчатых веществ. Поэтому взрывал только важнейшие станки и машины, все
только самое главное.
Когда я заложил все взрывчатые вещества, то тридцать пять человек своей
группы с инструментом отправил из города, считая, что с остальными я
справлюсь и если погибну, то погибнет нас меньше.
В двадцать ноль-ноль тридцатого сентября через Кировский мост прошли
остатки нашей артиллерии, по направлению к Соломенное, часть же пехоты сто
двадцатого стрелкового полка еще была на окраине города, вела бой. В
двадцать два тридцать от вокзала прошла последняя группа заграждения --
войск пограничников. В двадцать три часа десять минут за Петрозаводском
шоссе (в направлении Кондопога -- Пряжа) было перерезано финнами и немцами.
Мне пришлось изменить маршрут отхода, и в двадцать три тридцать я поехал на
"пикапе" и со мной младший политрук, ныне гвардии старший лейтенант Купряхин
-- секретарь комсомольского бюро батальона, -- предупредить старших других
групп о том, что изменяется маршрут отхода.
В пути у Первомайского моста я был обстрелян двумя десятками
автоматчиков. Шофер был ранен, я перехватил руль (управляю хорошо),
затормозил у канавы, потушил свет. Ночь была темная, "пикап" у меня был
заминирован. Я открыл дверь, сказал шепотом Купряхину, чтобы он взял
раненого шофера и с ним отполз по канаве. А сам зажег зажигательную трубку,
бикфордов шнур (шестьдесят килограммов взрывчатки было расставлено кругом.
в машине). Выскочил и пополз по канаве. Автоматчики продолжали
стрелять. Они решили атаковать "пикап". Когда они бросились к "пикапу", он
взорвался и все они были разнесены. Мы перевязали шофера, он мог идти, дошли
до первой группы наших хлопцев, я предупредил их о пути отхода и направился
предупредить другие группы. В два часа ноль минут первого октября через
Кировский мост прошли последние подразделения пехоты, а в два ноль-ноль к
мосту подошли три финских танка. Они вели огонь, но зайти на мост боялись,
чувствуя, что он заминирован. Прождав еще минут сорок, я дал команду
взорвать весь мост, а затем пустил красную ракету. Это было сигналом к
началу уничтожения последних объектов. В Петрозаводске уже были
немецко-финские войска.
С утра и весь день мы взрывали и жгли дома Петрозаводска, бросая
бутылки КС, пробирались ползком канавами, через дворы домов, осторожно,
мелкими группами. К ночи пробрались за электростанцию, к озеру, у переправы
Соломенное. Первые прошедшие с командиром Симоновым группы построили плоты,
на которых мы ночью, пользуясь темнотой, перебрались на другую сторону
бухты, где встретились с группой гидророты, во главе с ее командиром,
лейтенантом Штрайх (бывшим командиром саперного батальона). Здесь пришлось
лавировать между войсками финнов.
Второго октября в четырнадцать часов переправились в районе Пески,
через губу. Возглавив этот отряд, состоявший из ста двенадцати человек, я
повел его по азимуту на станцию Шуя. Проделав километров восемнадцать
зигзагами, а всего -- петляя болотами и озерами -- километров семьдесят,
вышли мы на станцию Шуя.
Ночью с третьего на четвертое октября я появился там. Мои хлопцы и орлы
перед тем горевали обо мне; они до этого спорили: выйдет или не выйдет их
комиссар? Считали погибшим.
Командование армии было уже в Кондопоге. Я приехал, доложил Матвиенко о
том, что задание выполнено. Они посылали разведку проверять, и установлено
было, что из трех оставленных групп только моя все выполнила. За это,
учитывая предыдущее участие в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР
я был награжден орденом Красного Знамени и опять приступил к сооружению
блокгаузов, дзотов и прочего. Через некоторое
время мы были направлены в Алеховщину, куда переехал штаб Седьмой
армии, и расположились в деревне Пойкимо. Затем восстанавливали железную
дорогу на Тихвин, ибо немцы уже угрожали Тихвину. А дальше -- я был в
боях... "
На КП полка
27 мая. 2 часа 20 минут дня
В полку -- офицерское собрание. Набились в блиндаж так, что трудно
пошевелиться. Арсеньев открывает собрание потоком вопросов, каждый из
которых начинается словом "почему?". Приводит примеры.
Почему нет выправки и люди ходят небритыми? Почему вчера только один
командир третьего батальона доложил о приведении своего батальона в боевую
готовность, а остальные комбаты не доложили? Почему от уколов, которые
производят медицинские офицеры, в других полках нет заболеваемости, а у нас
до двадцати случаев? Почему нет контроля за выполнением своих приказаний?
Почему мы в свободное время не обсуждаем, все ли сделано для отражения
противника? Противник готовится к газовой войне, его солдаты прошли
газоокуривание, фильтры меняют, а мы не занимаемся этим?
И что нужно сделать, чтобы все было совсем поиному?
Разгорелась горячая дискуссия.
Арсеньев заявляет о специальной службе:
-- Многое недоделано. Много ненужной болтовни. Противник, подслушивая,
узнает наш замысел. Сегодня ночью бойцы четвертой роты на расстоянии
полусотни метров от обороны застрелили немецкого слухача.
Арсеньев об этом знает от командира разведки, который был там. Но
официально из роты ему не доложили.
-- А вы уверены, что этого слухача убили? Командир пулеметной роты
докладывает Арсеньеву,
что слухач убит.
-- А я могу не верить вам. Вы сделали попытку его вытащить? Может быть,
ушел? И вы такому важному случаю не придаете значения!
Помначштаба Жигарев горячится:
-- У нас КП командира роты -- у самого завала, там,
в пяти метрах, и рация и телефон. Дверей нет, и палаткой не завешено.
Орут так, что на двести метров слышно!
Арсеньев отдает приказание о маскировке шума, затем в крайне суровом
тоне продолжает:
-- Завтра будем судить судом чести командира связи. Завтра утром. Надо
кончать с беспечностью! А если б противник просочился сюда? Это угрожало бы
нескольким дивизиям. А это значит -- возникла бы угроза Ленинграду, который
мы защищаем. Где же достоинство и честь командира? Итак, заканчиваю, времени
у нас мало.
Первое: привести в порядок оружие. Второе: закончить рекогносцировку в
направлении вероятного контрудара. Третье: созданные подвижные
противотанковые группы должны заниматься по шестнадцать часов в сутки.
Научиться бегать, окапываться, научиться вести борьбу с танками и с десантом
противника. Четвертое: научить бойца не бояться танка. Пятое: создать
штурмующую роту...
И наконец, поднять дисциплину! Продумайте, как это сделать, чтоб это не
комедией было, чтоб не появиться вдруг перед подчиненным этаким зверем:
дескать, меня накрутили, и я буду накручивать. Это большая, кропотливая, а
главное -- систематическая работа... Все! По боевым местам, товарищи!..
... Выслушав командира полка, офицеры молча, теснясь, выходят из
блиндажа. Каждый отправляется в свое подразделение.
8 часов вечера
Немцы ведут обстрел. Снаряды свистят над головой и рвутся неподалеку в
тылу. В блиндаж зашел баянист Туманов, и сразу -- веселая песня, Арсеньев
поет: "Эх, я ль виноват, что тебя, черноокую... "
Старых русских песен Арсеньев почти не знает, а знает только новые,
советские да джазовые. Поет их одну за другой. Снаряды рвутся поблизости,
керосиновая лампочка на столе блиндажа при каждом разрыве мигает -- вот уже
шесть раз... семь... восемь... Туманов поет и играет: "Прощай, любимый
город, уходим завтра в море... "
Затем поет Арсеньев, сидя рядом с Тумановым, который играет на своем
баяне "Тучи над городом встали... ".
Над нами опять летят самолеты. Телефонный звонок. Арсеньеву
докладывают:
-- Восемь самолетов. По направлению к Шлиссельбургу.
Арсеньев справляется о зенитчиках, слышна стрельба. Кладет трубку и
обращается ко мне:
-- А вы не слышали новый "Гоп со смыком"? Сочинена Тумановым и
политработником Батыревым!
Туманов озорно улыбается и поет песню про Гитлера, с такими крепкими
выражениями, какие на бумаге не передашь.
Входит связной. Приносит газету "Отважный воин" с заголовком "240 лет
Ленинграду". Это -- сегодня! Став сразу серьезными, принимаемся за чтение.
Арсеньев получил пачку писем. Туманов, прочтя газету, тихонько заиграл
что-то меланхолическое.
9 часов вечера
Противник бьет по переднему краю тяжелыми. Блиндаж содрогается. Явился
старший лейтенант, докладывает о результатах рекогносцировки, подает на
утверждение свой личный план на завтра.
Писк зуммера. Слышу донесение:
Багаж присылаем, шестьдесят пять килограммов!
А вы его накормили, этот багаж? -- спрашивает Арсеньев. -- Слушай,
семьсот девяносто четвертый! Сколько там карандашей пошлете?
В полк все прибывают пополнения и боеприпасы.
По сравнению с прошлым годом насыщенность здешнего участка фронта
войсками огромная. Да и немцев здесь насчитывается не меньше шестнадцати
дивизий!
10 часов вечера
Стараюсь хоть коротко записать эпизоды, которыми полк может гордиться:
о боях под Тихвином, под Киришами, о попытках штурмовать Свирь-III, о герое
этих боев -- сапере красноармейце Гончаре, погибшем недавно, при ликвидации
"языка" -- выступа Круглой Рощи (Указ о присвоении ему звания Героя пришел
уже после его смерти). Или вот, например, истории трехсоткилометрового
пешего перехода полка в район Апраксина городка и -- в другой раз -- того
прорыва полком обороны противника между Гайтоловом и Гонтовой Липкой,
который дал возможность многим бойцам и командирам 2-й Ударной армии выйти
из окружения...
Арсеньев рассказывает мне о бое 10 мая. Разговор прерван телефонным
звонком. Докладывают из тыла полка: "катюша" ахнула по немцам, в ответ --
двадцать немецких снарядов по тылам полка. Исполняющего обязанности
начальника штаба майора Гордина тяжело ранило, писарь Калистратов убит, еще
человек десять ранено и убито.
Арсеньев выругался, звонит капитану Сычу (помощнику командира полка по
материальному обеспечению):
-- Сыч? Как дела? Плохо? Ты принял меры для рассредоточения? Надо
немедленно закопаться... Медработники оказали помощь? Доложи!
Оборачивается ко мне, продолжает свой рассказ о Круглой Роще. Звонок:
-- Шесть раненых, два убитых, включая Гордина и писаря Калистратова.
Да, Гордин умер.
11 часов вечера
Я с Арсеньевым сейчас выходил из блиндажа в траншею. Внезапно три
выстрела "коровы". Арсеньев рванул меня за рукав:
-- Держите сюда!
Мы кинулись под накат. Разрывы пришлись совсем близко, нас обдало
землей и воздушной волной.
-- Это новая "корова"! -- отряхиваясь, объяснил Арсеньев. -- От
Гонтовой Липки, откуда не била! Значит, подвез! Возможно, сегодня начнет!
Это "начнет" -- о наступлении, которого все напряженно ждут. Оно,
вероятно, поднимет нас ночью, часа в три-четыре, либо днем -- между четырьмя
и пятью. Третьи сутки все у нас готово к немедленному отпору.
12 часов ночи
Над нами гудят самолеты. Где-то близко идет ожесточенная бомбежка,
разрывы часты -- один за другим. Бьют зенитки. Артиллерийский обстрел идет
круглосуточный.
Мне понятно, почему Арсеньев проводит ночи в разговорах со мной: нервы
у него напряжены от непрестанного ожидания, и, хоть полк в полной боевой
готовности, Арсеньев боится, заснув, пропустить какой-либо ему одному
понятный признак начала немецкого наступления. Поэтому он все время начеку,
все время прислушивается.
28 мая. 9 утра. КП полка
Погода сегодня пасмурная. Проснулся в 7. 30 от канонады: утро началось
сплошными -- беглым огнем -- налетами немецкой артиллерии, длившимися минут
сорок. Били главным образом по Круглой Роще, несколько 105миллиметровых
разорвались неподалеку. Арсеньев проснулся, стал сонным голосом названивать,
выясняя причины. Оказалось, стреляли сначала наши, а немцы озлились.
Являлся следователь -- майор. Разговор о Бондаренко -- молодом
командире, который, впервые попав на фронт, из тыла и сразу -- в бой, легко
ранен, напугался и по выходе из госпиталя, вернувшись на передовую, подранил
себя гранатой. Ему отняли ступню. Лечиться он будет с полгода. Расстреливать
его или нет? Командир дивизии считает, что не надо, учитывая чистосердечное,
несмотря на недостаточность улик, признание. Арсеньев считает так же. Этот
факт самострельства -- очень редкий теперь случай.
Арсеньев побрился, умылся. Ординарец вычистил ему сапоги, пришил чистый
подворотничок, и после завтрака Арсеньев ушел.
10 часов утра
После ухода Арсеньева я беседовал с замполитом командира полка,
капитаном Николаем Павловичем Донских. Он -- высокий, красивый, стройный
парень, с продолговатым лицом, голубыми глазами. По общему свидетельству, он
честен и храбр. Но я с первого дня знакомства убедился в том, что он строит
свою речь только из сплошных штампов, за которыми собственных мыслей не
обнаружить.
Подвиг погибшего в бою замполита первой стрелковой роты Донских
характеризует так:
-- В атаку ходил несколько раз, выбрасывал лозунги: "Освободить город
Ленина!"
Или вот, например, вчера на офицерском собрании, когда Арсеньев
объяснил, как должны заниматься противотанковые группы, Донских вставил
(единственную за все собрание!) реплику:
-- Чтоб делали это под лозунгом: "Быть готовым!" Когда я спрашивал
Донских, чем именно отличился в
бою 10 мая заместитель командира по политчасти второй пулеметной роты
лейтенант Печников, слава о личном подвиге которого ходит не только в полку,
но и по всей армии, Донских "разъяснил" мне:
-- А как же не подвиг? Он давал лозунг: "Отстоим отвоеванное!" А еще в
начале боя написал пулеметчикам Кореневу и Лукьянову записочку: "Держитесь
крепко, разобьем фашистскую гадину!"
В действительности Печников в разгаре немецкой артподготовки в открытую
обошел всех бойцов и командиров на своем участке, расставил пулеметы, личным
бесстрашием предупредил возможность возникновения у кого-либо колебания или
растерянности, весело и дружески ободрял всех. Он воодушевил бойцов, сам
взявшись за пулемет, -- косил немцев с первого момента их атаки (когда
артподготовка еще продолжалась), пока не был убит снарядом.
И про кого бы я Донских ни спрашивал, он объяснял мне, какие кто "давал
лозунги"... Все подтверждают, что Донских в боях и самоотвержен, и
бесстрашен, но -- какое неумение предметно и ясно мыслить!
Хорошо, что политработой в полку руководит фактически сам Арсеньев!
За клочок земли на болоте!
28 мая. День. КП полка
Рассматривая немецкий передний край в стереотрубу с НП минометчиков, я
хорошо вижу мертвые, оголенные деревья знаменитой Круглой Рощи. Она --
правее позиций полка Арсеньева. Находясь теперь в наших руках, Круглая Роща
клином выдается в расположение немецких позиций. Ее обороняют соседние
подразделения. Только маленький "язычок" этой рощи остается пока нейтральной
зоной.
За Круглую Рощу велись бои кровопролитные и жестокие. Не раз и не два
после удачных атак казалось уже, что этот клочок болота остался за нами, что
враг навсегда лишился рощи, позволявшей ему простреливать весь наш передний
край фланкирующим огнем.
Но фашисты подбрасывали новые силы, свежие роты шли по увязшим в болоте
трупам немецких солдат, и клочок этого болота опять переходил к противнику.
В Круглой Роще фашисты создали надежные опорные пункты, а на нейтральном
"язычке" с одного края выросли два мощных немецких дзота, с другого --
укрепленный торфяными кирпичами плетень, за которым и днем и ночью
бодрствовали наши бойцы.
До описываемых событий, к январю 1943 года, стык 8-й и 2-й Ударной
армий волховчан, обращенных фронтом к западу, приходился как раз против
Круглой Рощи. В эти дни волховчане вместе с ленинградцами готовились к
прорыву блокады. Круглая Роща мешала наступлению волховчан на Рабочий
поселок No 7 и далее на высоты Синявина, где располагались главные силы
немцев, разъединяющие наши Волховский и Ленинградский фронты. В Круглой Роще
и в лесах юго-западнее ее основательно укрепилась немецкая группировка.
Решено было значительными силами сделать глубокий обход рощи с севера
перед Рабочим поселком No 7, выйти в тыл немецкой группировке и, двигаясь
оттуда навстречу полку Арсеньева и другим полкам волховских дивизий,
сплющить и раздавить врага в роще, как давят щипцами каленый орешек.
11 января 1943 года два полка 327-й стрелковой дивизий начали эту
операцию. Двигаясь вдоль северной опушки Круглой Рощи по занесенным снегами
торфяникам, 1102-й полк вышел на железную дорогу, что тянется севернее
Рабочего поселка No 7. Иначе говоря, зашел глубоко в тыл к немцам. Отсюда
повернул к югу, в обход рощи. 12 января занимавший ее фашистский полк,
оставив сильные заслоны в дзотах, побежал к югу и к юго-востоку. Развивая
успех, части 327-й стрелковой дивизии преследовали его.
В это же время два батальона 1074-го полка Арсеньева получили приказ
выступить с линии фронта, занять и прочистить рощу и закрепить юго-западную
ее опушку за 327-й дивизией.
Батальоны с восточной стороны вошли в рощу и двинулись навстречу нашим
полкам, преодолевавшим заслоны немцев с северной и западной сторон.
Тогда гитлеровское командование бросило с единственной еще доступной
для немцев стороны -- с юго-запада -- свои резервы. Передовой их отряд,
более двухсот автоматчиков, вклинился в рощу и оказался в тылу у тех двух
батальонов Арсеньева, что ушли вперед. Арсеньев решил немедленно отрезать
этих автоматчиков от спешивших за ними резервных частей и кинул в бой на
юго-западный "язычок" рощи роту своих автоматчиков.
Получился "блинчатый пирог": в середине рощи немцы, а дальше
концентрические круги -- наши части, затем остатки располагавшихся здесь
немецких подразделений, затем сдавливающие их полки 327-й стрелковой
дивизии. Главные силы немцев контратаковали один из этих полков -- 1100-й --
со стороны Рабочего поселка No 7 и Синявина. Положение полка становилось тем
труднее, чем дольше продолжалась очистка Круглой Рощи от противника.
Рота наших автоматчиков и второй батальон 1074-го полка сумели отрезать
немецких автоматчиков от резервов. Разрозненные группы противника, вместе с
приспевшими к ним на помощь автоматчиками, оказались окруженными. Арсеньев
предложил им сдаться, но получил отказ и тогда кинул свои подразделения в
рукопашный бой.
В этом бою было перебито больше ста восьмидесяти немцев, а тридцать
пять взято в плен. Арсеньев отослал их в штаб дивизии. Двигаясь к центру
рощи с трех сторон, сжимая немцев, батальоны Арсеньева захватили около
двадцати блиндажей и дзотов, взяли в центре рощи важный опорный пункт и,
повернув захваченные немецкие пушки и пулеметы на немцев, вдвое усилили мощь
своего огня. Немцы разбились на мелкие группы, и каждая пыталась
контратаковать нас там, где была застигнута. Зная, что главные силы
гитлеровцев, действующие от поселка No 7 и Синявина, грозят смять 1100-й
полк 327-й дивизии, и остерегаясь прорыва вражеских резервов с юго-запада
(со стороны шоссе Синявино -- Гонтовая Липка), Арсеньев прикрыл юго-западную
сторону рощи тринадцатью своими и приданными орудиями, бил ими прямой
наводкой. Одновременно, выделив из других
своих батальонов две роты, он послал их на подмогу 1100-му полку.
Группы немцев пытались вырваться из рощи, контратакуя то там, то здесь.
Арсеньев решил не допустить прорыва. Увидев, что опасность прорыва возникла
на участке, где дралась его вторая рота, он, легко раненный в грудь
осколком, пробежал с двумя офицерами по открытой местности к этой роте.
Немцы вели огонь двумя станковыми пулеметами из большого дзота. За ним
располагались семь других поменьше. Они молчали. Все вместе эти дзоты
составляли один из трех сильнейших опорных пунктов противника в Круглой
Роще. Вторая рота залегла в снегу перед большим дзотом.
Арсеньев спросил бойцов, нет ли у них противотанкового ружья, чтобы
стрелять по дзоту. Ружья не оказалось. Осмотревшись, Арсеньев увидел в
стороне брошенную немцами 75-миллиметровую пушку и снаряды к ней. Взяв пять
бойцов, он подполз к этой пушке, под огнем перекатил ее через траншею и
установил метрах в шестидесяти от главного немецкого дзота. Семью снарядами
он разбил дзот. Из него выскочили два немца (позже там было найдено
тринадцать трупов). Арсеньев развернул пушку, дал несколько выстрелов по
двум другим дзотам и по землянке и поспешил обратно, на "язычок" к третьей
роте, потому что там два дзота и траншея опять оказались в руках немцев и
надо было организовать атаку.
Во всем, что происходило внутри Круглой Рощи, издали трудно было
разобраться. Командование 314-й стрелковой дивизии, по информации 327-й
дивизии, даже заподозрило было Арсеньева в том, что он ведет бой со своими.
Ночью после тщательной подготовки Арсеньев вместе с Донских повел
третью роту в атаку. С гранатами ворвались в траншею, убили и ранили около
полусотни немцев, захватили оба дзота, два блиндажа, две пушки, четыре
радиостанции.
Все это время полки 327-й дивизии вели тяжелейший бой с главными силами
противника, пытавшимися прорваться к захваченной нами, но еще не очищенной
полностью Круглой Роще.
Наутро следующего дня, продолжая внутри рощи бои с фашистами, засевшими
в последних уцелевших дзотах, Арсеньев повел одну из своих групп в атаку,
был ранен в
I
руку навылет и по приказу полковника Федина (заместителя командира
дивизии по политчасти) отправлен в медсанбат.
В этот день Круглая Роща была полностью очищена от гитлеровцев, позиции
окончательно закреплены полками 327-й дивизии и 1074-м полком Арсеньева.
Выполнив свою задачу, эти части помогли наступлению других дивизий
Ленинградского и Волховского фронтов. Решающие наступательные бои
завершились 18 января встречей двух фронтов, иначе говоря -- прорывом
блокады Ленинграда.
С тех пор, как я уже сказал, только маленький "язычок" Круглой Рощи, на
котором нельзя закрепиться, все еще остается перед нашими позициями ничейной
землей, одинаково простреливаемой и нами и немцами.
Две недели назад
28 мая. День. КП полка
В начале марта после боев за Круглую Рощу 1074-й стрелковый полк
Арсеньева получил приказ занять новый рубеж -- полтора километра по фронту
между позициями 1076-го и 1078-го полков. Здесь оказались только хаотические
остатки прежних оборонительных сооружений, не сохранилось ни блиндажей, ни
окопов, ни даже стрелковых ячеек.
Бойцы и командиры энергично взялись за оборудование участка обороны.
Артиллеристы, минометчики и снайперы своим огнем заставили немцев прятаться,
и под таким прикрытием началась работа. Надо было организовать систему огня,
связи, наладить взаимодействие с артиллерией и с соседями. За восемь --
десять дней была создана оборона глубиной в два километра. Слева, где почва
не так болотиста, позиции удалось укрепить надежными сооружениями. Этот
участок протяженностью в восемьсот пятьдесят метров Арсеньев по приказу в
конце апреля передал своему соседу -- 1076-му стрелковому полку, а себе
оставил шестьсот пятьдесят метров по фронту, но трудно вообразить более
гиблое болото, чем оставшийся у полка участок!
С первого дня изучая поведение гитлеровцев против нового, занятого
полком рубежа, Арсеньев сделал вывод,
что противник именно на этом участке готовит наступление. Немцы по
многим признакам особенно заботились о том, чтобы обезопасить себя от
проникновения наших разведчиков, которые могли бы добыть у них "языка", --
значит, им было исключительно важно сохранить все затеваемое в тайне. Наши
снайперы, однако, не раз замечали, что у перебегающих по ходам сообщения
немецких солдат имеются ранцы. Несомненно -- на передний край прибывают
пополнения.
Десять дней подряд противник производил авиаразведку нашего переднего
края, тщательно просматривал и фотографировал наши оборонительные позиции на
глубину в шесть -- восемь километров.
Дважды за этот период времени противник пытался произвести ночной поиск
с целью взять у нас контрольного пленного. Обе попытки немцам не удались:
группы их разведчиков были перебиты, оружие захвачено.
Семь дней немцы обрабатывали наш передний край тяжелой артиллерией
калибра 207, 210 и 305 миллиметров. Затем началась пристрелка вероятных
путей подхода наших резервов...
За трое суток до попытки наступления враг прекратил освещение местности
ракетами, и стало ясно: передвигая по ночам свои войска, он опасался
обнаружить это передвижение светом своих же ракет. Наконец, он вовсе
перестал обстреливать нас, конечно же потому, что, концентрируя свои силы,
не хотел навлечь на них ответный огонь, стремился не дать нам засечь его
новые огневые точки...
За сутки до немецкого удара Арсеньев, начальник штаба Чемоданов и
другие опытные офицеры по ряду признаков определили даже час, намеченный
немцами для наступления.
Нужно ли говорить о том, что все у нас было готово к решительному
отражению удара? Наблюдение было зорким и непрестанным, система огня и
возможность его мгновенного вызова -- многократно проверены. Весь передний
край крепко минирован, телефонная связь дублирована отлично
отрегулированными рациями.
Немецкого удара можно было ожидать либо часа в четыре дня -- время,
удобное для противника, чтобы успеть закрепиться, -- либо перед самым
рассветом, если враг обладал уверенностью, что успеет развить успех. Поэтому
с четырех часов дня и ночью до начала рассвета люди почти не спали --
отсыпались днем.
И когда наконец, приняв во внимание еще ряд признаков, Арсеньев сказал:
"Сегодня, часа в три ночи, противник попытается начать наступление!", никто
не сомневался, что это будет именно так. В ту ночь не спал ни один солдат.
Не спал, конечно, и сам Арсеньев: писал письма своим ленинградским друзьям.
В три часа тридцать минут утра 10 мая противник дал первый залп
артподготовки. Арсеньев отличил его от обычной стрельбы. Снаряды вражеской
артиллерии накрыли наш передний край -- всю двухкилометровую полосу обороны,
в том числе и КП полка. Арсеньев, находившийся на КП, сразу же дал вызов
всей своей артиллерии. Батареи противника, все его огневые точки, пути
подхода пехоты, танков были заранее пристреляны. Артиллерия полка ответила
на второй немецкий залп. При третьем залпе Арсеньев позвонил командиру
дивизии и доложил, что противник начал артподготовку. В ответ на четвертый
немецкий залп на врага обрушилось шесть наших артиллерийских полков. Пятым
немецким залпом телефонная связь везде была порвана, и Арсеньев перешел на
радиосвязь, которой всегда уделял чрезвычайное внимание, считая ее
единственным надежным средством управления. Все десять последующих часов боя
радиосвязь работала столь надежно, что ни одно подразделение ни на минуту не
оставалось без управления.
Со своего наблюдательного пункта Арсеньев в стереотрубу видел все поле
боя -- и неисчислимое множество разрывов, вздымающихся на каждом метре
пространства, и цепи немецкой пехоты, брошенной в атаку еще до окончания
артподготовки (пехота падала перед нашими блиндажами, погружалась в болото),
и выступавшие из дымовой завесы немецкие резервы, которые, не успев кинуться
в атаку, таяли под нашим огнем...
Через двадцать минут наша артиллерия пересилила вражескую. Многие
батареи противника взлетели на воздух, немецкая артподготовка была смята,
вражеские снаряды ложились вразброд, куда ни попало, их становилось все
меньше, и в стереотрубу было видно, что наши траншеи целы, что наши пулеметы
и ротные минометы ведут огонь по-прежнему, что ряды наших воинов почти не
редеют.
4 П. Лукницкий
Каждая рота непрестанно информировала Арсеньева о положении дел на
своем участке. Было ясно: противник бросил в бой силы, значительно
превосходящие наши. Но волны немецких атак разбивались о наш передний край
одна за другой. Разбивались -- и не откатывались: живых немцев не
оставалось. Через полчаса Арсеньев с адъютантом Картом перешел на свой
передовой наблюдательный пункт, откуда лучше были видны боевые порядки и
наступающая пехота противника. Управление артиллерийским огнем Арсеньев взял
в свои руки.
На сороковой минуте боя немцы перенесли артогонь на глубину нашей
обороны, стараясь отсечь наши резервы.
На правом фланге, где оборонялась пятая рота, взвилась красная ракета.
Арсеньев, внимательно наблюдая, увидел: на участке, выдающемся клином
вперед, немцы ворвались в дзот и в землянку наших автоматчиков. Он сразу
понял, что положение здесь, на стыке с 1078-м полком, создалось угрожающее.
Позже выяснилось, что обстановка была такова: прямым попаданием снаряда
шестеро из двенадцати автоматчиков были убиты. С двух сторон клина на
позицию, которую автоматчики обороняли, сразу ворвались по старым ходам
сообщения немцы. Оставшиеся в живых автоматчики во главе с лейтенантом
Романовым оказались под перекрестным огнем, расстреляли диски, израсходовали
гранаты и погибли все, кроме случайно уцелевшего Романова. После боя было
насчитано более пятидесяти трупов перебитых ими врагов. Но в тот критический
момент немцам удалось затащить в дзот и в землянку свои минометы и пулеметы.
Вражеское командование, стремясь развить успех, бросило сюда свежий батальон
пехоты.
Точная своевременная информация с низов, в частности командира пятой
роты Николая Тимофеева, дала возможность Арсеньеву немедленно принять
правильное решение. На бросившийся в атаку батальон гитлеровцев Арсеньев
вызвал огонь PC, и через одну минуту "катюши" с предельной точностью накрыли
весь этот батальон. Одновременно левее на передний край противника
спикировали четыре наших самолета, присланных соседней армией Мерецкова,
которому просьба о них была передана за двадцать минут до этого. Самолеты
сбросили бомбы на другой батальон гитлеровцев, поднявшийся было в атаку.
Когда пламя и дым после налета "катюш" рассеялись, оказалось, что
вражеского батальона нет -- он исчез с лица земли. А там, куда сбросили свой
груз наши самолеты, немногие уцелевшие гитлеровцы со стонами переползали
через трупы своих соратников.
Однако на клинообразном участке пятой роты, куда ворвались немцы, все
еще продолжался гранатный бой. Командир роты Тимофеев, в этот трудный момент
потеряв двух минометчиков, сумел заменить их собой -- сам выпустил из
ротного миномета сорок мин. Слева на помощь к сражающимся гранатами бойцам
пятой роты устремились бойцы первой (штрафной) роты, возглавленные
заместителем командира по политчасти Беловым. Командир первой роты Яковлев с
другой группой бойцов подобрался к захваченной противником землянке и разбил
гранатами минометы и пулеметы, которые немцы успели установить там. А справа
бойцы и командиры соседнего, 1078-го полка выбили немцев из занятого ими
дзота.
Успеху первой роты и левофланговой группы бойцов 1078-го полка
способствовали батареи 76-миллиметровых пушек капитана Медынина, пулеметчики
командира четвертой роты Скрипко и минометчики Лозбина. Открыв огонь по
немецким передовым позициям, они воспретили противнику подбросить новые
подкрепления. Когда дзот и землянка были отбиты и весь клин снова оказался в
наших руках, Арсеньев со своего ПНП видел, как последние десятков шесть
немцев, хромающих и окровавленных, бежали по лощине.
Критический момент миновал.
Бой длился десять часов. После седьмой отраженной нами атаки немцы уже
не показывались ни на одном участке поля боя. Огонь вражеской артиллерии
затих совсем. Нашей артиллерией за время боя было выпущено восемнадцать
тысяч пятьсот снарядов. В воронках, рытвинах, лощинах, на искрошенных пнях,
вдоль всего переднего края лежало больше семисот вражеских трупов. Сколько
их утонуло в болоте и сколько было в глубине вражеской обороны, мы не знаем.
Выползая за бруствер, наши бойцы стаскивали в свои траншеи трофейное оружие,
боеприпасы и документы.
Когда у нас в подразделениях была проведена перекличка, оказалось, что
за десять часов жестокого боя полк потерял двадцать семь убитыми, тридцать
пять ранеными -- всего шестьдесят два человека. Двадцать восемь из них,
занятые перед боем укреплением блиндажей, были застигнуты во время работы
огнем артподготовки.
Потери оказались столь малыми потому, что спокойствие и уверенность в
своих силах не покидали воинов в бою; действуя самоотверженно и храбро, они,
однако, понапрасну не подставляли себя под удар, умело пользовались
укрытиями. Никто не дрогнул, никто не побежал. Характерно: вторая и третья
линии окопов полка были изрядно разрушены артподготовкой, а первая линия
траншей оказалась почти не поврежденной -- снаряды перелетали через нее. То
ли немцы стреляли не точно, то ли старались отсечь возможные наши
подкрепления, рассчитывая, что с малочисленными защитниками первой линии
траншей справится их атакующая пехота. И, конечно, прежде всего опасались
накрыть эту изготовившуюся к атаке свою пехоту. Большую роль сыграли и
дружная взаимопомощь стрелковых подразделений, и отличное взаимодействие
артиллерии и пехоты. Но самое главное, застать нас врасплох своим ударом
немцам не удалось, а наш мгновенный и решительный контрудар оказался
действительно внезапным и неожиданным для врага. Результаты боя были оценены
командованием как отличные. Николай Георгиевич Арсеньев награжден орденом
Отечественной войны I степени. Пятьдесят шесть бойцов и офицеров -- орденами
и медалями,
В ночь после боя весь полк под защитой сильного артиллерийского и
минометного огня восстанавливал свои оборонительные позиции. В последующие
десять дней полк не только восстановил их, но и значительно улучшил.
Противник, однако, не оставил намерения прорвать линию нашей обороны на
этом важнейшем участке. Напряжение, в котором полк живет все дни, что я
нахожусь здесь, свидетельствует о том. Арсеньев полагает, что теперь
установить заранее день и час новой попытки врага нанести удар труднее.
Наученные горьким для них опытом, немцы стараются путать признаки начала
своего наступления.
Полк готов встретить удар в любой день, в любой час.
Перед расставаньем
28 мая. 3 часа дня. КП полка
Мы с Никитичем решили посмотреть еще раз на окружающую местность.
Шагали по каким-то обрывкам, лоскутьям металлического мусора. Я, не заметив,
встал на мину и, созерцая немецкие позиции, стоял на ней, пока Никитич не
обратил моего внимания, на чем я стою! Поскольку мина не взорвалась,
отнестись к этому можно было с юмором.
29 мая. 9 часов 45 минут утра. КП полка
Вчера днем получен приказ: перевести полк на новое, еще более опасное и
ответственное место -- правее, к опушке рощи. Свой участок обороны --
передать левому соседу. Арсеньев сам обошел новый рубеж. За эту ночь туда
перешел третий батальон. Удачно -- без потерь, потому что, собрав
командиров, Арсеньев коротко, быстро, ясно и точно дал все необходимые
приказания каждому. Говоря о боеприпасах, оружии, материалах для
строительства, Арсеньев рассуждал как хороший хозяин:
-- Свои снаряды сосед оставляет нам, а мы ему -- свои. Но наиболее
ценные мы тоже заберем с собой...
И с улыбкой заговорщика, обращаясь к своему начарту:
-- Ты ему объясни, ну ты же отлично умеешь уговаривать и хитрить, ты же
ловкач: им тащить это нет смысла, они здесь ближе к складам, достанут!
Вечером -- неожиданный для бойцов отдых: повзводно ходили в 1078-й полк
смотреть кинофильм "Секретарь райкома". За ночь третий батальон удачно, без
потерь занял назначенный ему рубеж.
Работа моя в общем сделана, сегодня покину полк.
... На столе -- стакан воды с давленой клюквой. Керосиновая лампа
прикрыта газетой, чтобы свет не бил в лицо Арсеньеву. Он спит после
хлопотливой ночи. На других нарах посапывает, подложив под голову кулак,
адъютант Карт.
Вчера Арсеньев долго пребывал в соседней "комнатке", обучая своего
ординарца Берту Савинову "морзянке". Черноглазая, белозубая, широколицая,
краснощекая, красивая девчонка, Берта до войны училась на токаря в
ремесленном училище. Было ей шестнадцать лет, когда в 1942 году, заявив, что
ей восемнадцать, она пошла в армию добровольно, сандружинницей. Потом была
палатной сестрой, затем решила поступить на курсы зенитчиков, но там -- в
тылу -- ей показалось скучно, и она убежала в свою санроту, на фронт, за что
была посажена на тринадцать дней на гауптвахту и оттуда за новый
дисциплинарный проступок угодила в штрафную роту на два месяца. После боя,
10 мая, пожалев ее молодую жизнь, Арсеньев взял ее к себе ординарцем. Берте
здесь не нравится: "Хочу снайпером или кем-нибудь, но быть там, на
передовой, там хорошо: или уж бей, или тебя -- все равно!" Хмурится, не
признает никаких своих обязанностей и дисциплины.
Вчера рядом с блиндажом разорвалась какая-то штуковина -- красным
озером полыхнуло в коридор. Так и не поняли мы: снаряд не снаряд, мина не
мина, фугас, что ли, какой-либо старый?
Вместо того чтобы испугаться, Берта с веселым смехом рванулась к выходу
из блиндажа -- полюбопытствовать. Так же, не ведая страха, как неискушенный
зверек, она вела себя, когда тяжелый, 150-миллиметровый снаряд разорвался
недалеко от нас, на пустом болоте. Такой же она была и в бою 10 мая: во
время артподготовки, находясь в штрафной роте на переднем крае, не сидела,
как все бойцы в укрытиях, а носилась по траншее с восторгом и смехом, явно
развлекаясь всем происходившим. Вокруг нее ранило и убило нескольких бойцов,
ее не задело; она перевязывала раненых с той же наивной детской веселостью.
И потом ходила за два километра в санроту за бинтами, по открытому полю, под
продолжавшимся артиллерийско-минометным огнем.
Когда первый раз увидела разрывы снарядов и бойцы вокруг попадали в
грязь и кричали ей "ложись!", она огрызнулась: "Как же я лягу! Тут же
грязно!" Осталась стоять, и это ей "сошло" с рук. Она очень довольна, что
месяц была в штрафной роте, чуть ли не полна гордости: "Я даже в штрафной
роте была!" -- "А что ж тут хорошего?" -- "А как же! Иначе ничего бы и не
увидела!"
Арсеньев снисходителен к ней. Она для него лишь девчонка. У нее хорошая
улыбка, черные волосы, настоящая узбекская тюбетейка, ворот гимнастерки
расстегнут,
погоны тут явно ни при чем! Плотная, здоровая, наивная девушка!.. [1]
Арсеньев проснулся от писка зуммера, -- поговорил по телефону о
подсобном хозяйстве полка. Где-то в тылу, у Назии, это хозяйство ведут
женщины и несколько бойцов трофейной команды. Обрабатывают двадцать два
гектара: картофель, капуста, морковь, лук. А на Ладоге рыбак вылавливает для
полка здоровенных лещей. Получив сообщение, что поймано тридцать девять
килограммов лещей, Арсеньев приказывает распределить эту рыбу между бойцами
передовых рот.
Время от времени, с короткими частыми шипами, будто вздыхая, работает
наш "иван долбай": PC летят в воздухе, оставляя огненные следы, и
ослепительным каскадом разрывов рассыпаются на немецких позициях. После
этого немцы начинают яриться -- сыплют сюда тяжелыми.
Я выходил смотреть...
Вчера какая-то наша "машинка" неподалеку заработала так часто и таким
низким незнакомым голосом, что никто не мог определить, что же это за штука
-- явно автоматическая. Не "катюша", не "иван долбай", не зенитная пушка, --
видимо, нечто новое, впервые здесь введенное в действие[2].
"Иван долбай" дал несколько серий по пятнадцать -- двадцать ударов.
Бойцы повыскакивали из блиндажей взволнованные: "По нашим бьет! По переднему
краю!"
-- Ну, сейчас немец даст сюда! -- заметил Арсеньев. Справился по
телефону: -- Как разрывы легли?
Получил ответ:
-- Хорошо! Немного близко, но хорошо.
PC рвались по самой кромке немецкого переднего края, очерчивая ее.
Отсюда же казалось, будто реактивные снаряды легли на наши траншеи.
В блиндаже крысы. Бегают и пищат над матерчатым подстилом, за бумагой,
набитой на стены. Возятся, царапаются, шуршат, сыплют песок. А в ходах
сообщения они нагло, стайками встают по краям, не боясь людей. Если подумать
о том, отчего расплодились и разжирели они здесь, на этой, знавшей столько
кровопролитнейших боев местности... но об этом лучше не думать!
[1] 4 февраля 1944 г. под Нарвой Берта Савинова была убита при том же
разрыве снаряда, каким тяжело ранило Арсеньева.
[2] Это были, по-видимому, введенные на Волховском фронте в 1942 г.
тяжелые установки 30-миллиметровых минометов, стрелявшие с собираемых на
земле рам. Они назывались М-30, одна мина весила 90 кг, один залп дивизиона
таких "эрэсов" состоял из 126 мин.
День сегодня холодный, пасмурный. А спать было жарко и душно. Топилась
печурка, воздуха в блиндаже мало. Но спал я крепко, хоть и вдвоем на наре, и
не раздеваясь, сняв только сапоги...
11 часов 30 минут утра
Пришел капитан Сыч, а с ним капитан Давиденко, вчера назначенный
начальником штаба. Обсуждают: куда поставить тылы полка? Совершенно некуда:
всякое годное место набито частями, а если уйти далеко в тыл, к Назии, --
трудно будет со снабжением. Разговор о какой-то просеке. Но она засечена
немцами и обстреливается. "Я не хочу, -- говорит Арсеньев, -- вашим семьям
рассылать "похоронки". Там из тылов может получиться пшик!"
Сыч изучает карту. Между разговорами и обсуждениями Арсеньев умылся,
оделся. Сейчас сидит аккуратный, бритый, блестя своими орденами.
Пришла мне и Никитичу пора прощаться с ним. Пойдем вместе с Сычом к
тылам полка, а там Сыч обещает нам выдать верховых лошадей.
Завтра из Ленинграда отправлю в ТАСС, в Москву, три маленькие
корреспонденции о братьях Шумовых и о полке Арсеньева. "Прощай, любимый
город!" -- напевает Арсеньев, разглядывая схему нового расположения полка.
Третьи сутки он почти ничего не ест ("Не хочу!") и держится только
силой воли. Как ни тщательно скрывает он свое состояние, я понимаю --
нервничает: когда же начнут немцы и все ли он предусмотрел, чтобы сразу дать
им отпор?
Жизнью своей и жизнями тысяч людей своего полка, своей дивизии, своей
армии отвечает Арсеньев за благополучие на этом ничтожном клочке болота. Он
знает, что судьба Ленинграда зависит и от него.
Какое неотступное, полнодумное, чувство ответствен ности!
Командир стрелкового полка
Н. Г. Арсеньев (справа) (Снимок сделан в июле 1944 г. )
Пришедших к нему корреспондентов Арсеньев у порога своего блиндажа
встретил приветливо, повел к себе, угощал. У него высокий лоб, зачесанные
назад коричневые мягкие волосы. Темно-голубые озорные его глаза светятся
шаловливой, мальчишескою улыбчивостью. В лице -- нервная усталость, никак
Арсеньевны не выказываемая, но мною уловимая. От носа мимо углов губ к
подбородку тянутся две старящие Арсеньева складки, но они же изобличают и
его волю. Он щедро пользуется -- иногда даже с ухарством, с балаганством --
огромным запасом прибауток, едких стишков, соленых выражений. Но это --
внешняя манера держаться: Арсеньев умеет быстро переключаться на серьезный,
деловой разговор -- сразу становится сосредоточенным, выдержанным. Мне
понравилось, что Арсеньев не любит стандартных, заезженных фраз. Подмечает
их в речи собеседника, поддевает его, вызывая порой смех окружающих. Кипучая
и заражающая веселость создают вокруг него атмосферу энергии, хорошее
настроение. Он, безусловно, умен...
Таково первое впечатление, произведенное на меня Арсеньевым, с которым
я провел весь день.
Ночь на 26 мая
Проверяя по телефону положение в батальонах, ротах, на полковых
батареях, принимая донесения и отдавая приказания, Арсеньев рассказывал мне
свою биографию, я подробно записывал, и в мою запись внедрялись такие фразы:
"Корова" чесанула один залп". Или: "Если кухне нельзя подъехать, надо чтоб в
термосах подносили третьему батальону!.. Ну и что же! Пусть за два-три
километра!" Или: "Я уже тебе говорил: надо огневую систему на стыках
усилить, -- плотность огня. С тебя спрашивать буду! Доложишь!"...
Биография Арсеньева несложна. Он из крепкой рабочей питерской семьи.
Родился в 1906 году. Его отец был "чернорабочим" -- кочегаром на заводе
"Новый Лесснер", умер двадцати трех лет. Мать, Мария Сергеевна, ткачиха
фабрики "Работница", умерла в 1941 году. Брат
Алексей был токарем на заводе "Двигатель", второй брат, Павел, --
фрезеровщиком на заводе имени Свердлова. Сам Николай Георгиевич, начав свою
рабочую жизнь мальчиком-посыльным на том же заводе "Новый Лесснер" (ныне
завод имени Карла Маркса), окончил Политехнический институт, стал
инженером-металлургом. Он работал над сплавами на заводе "Красный выборжец",
был секретарем ячейки комсомола, членом Выборгского райкома. Вступив в
партию, вскоре стал секретарем партийной организации испытательной станции
завода и объединенного с нею силового цеха. С курсов пропагандистов его
призвали в армию...
Обладая чувством юмора, Арсеньев иронически рассказывал, как в юности
любил волочиться за девушками, порой хулиганил, однажды за хулиганство был
на время исключен из комсомола.
Первый раз женился он неудачно, но вторая жена оказалась хорошим
другом, помогла остепениться -- "чудный человек, чудесный товарищ!" Он любит
свою жену и особенно любит детей -- дочку и сына. Живут они сейчас в
Петропавловске. Показывая мне письма, в которых дочка называет его
"папуленька", Арсеньев становится трогательно-грустным, как все фронтовики,
не ведающие, доведется ли им когда-нибудь увидеть своих жен и детей ("Я
безумно люблю детей!").
За строптивую насмешливость и неуважительность Арсеньева недолюбливала
теща, и, говорит он, "такое положение было до финской войны; после финской
войны (они думали, что я убит, -- я был комиссаром лыжного батальона,
пятьдесят суток в тылу у финнов, вернулся с орденом Красного Знамени) теща
помирилась со мной, перестала считать меня "литовским босяком"...
Возвращаясь из финских тылов после многих боев, Арсеньев с группой
лыжников триста метров полз под снегом при пятидесятиградусном морозе --
наст сверху был прочен, а снег так глубок, что лыжники пробирались в нем,
как кроты, незамеченными.
-- На шубнике моем, когда вышли, оказалось около ста двадцати дырок,
осколочных и пулевых, -- смеется Арсеньев. -- 30 марта я приехал в
Ленинград, в отпуск, и пришел домой, на Невский, 135. Звоню у дверей. Жена,
Анна Михайловна, не открывает. "Кого вам нужно?" Я было подумал, что бросила
меня, не хочет пускать, говорю: "То есть как, кого? Ну, мне нужно тут одну
гражданку!" -- "Что с мужем? Что?" (Она думала, я погиб. ) "Нет, -- отвечаю,
-- мне нужно одну гражданку, в качестве мужа прислан!" Тут дочка по голосу
узнала меня да как закричит: "Папуленька!" Я опухший был, дистрофик. Жена
увидела меня в коридоре, так и села!..
Арсеньев с детства увлекался литературой, музыкой, был в литкружке
"Кузница", писал стихи. Любил также волейбол, городки и, как болельщик
футбола, не пропускал ни одного матча. Читал очень много и тут, на фронте,
читает "Батыя", Драйзера, перечитывает "Войну и мир", изучает Суворова и
военную литературу.
Мы сегодня вспоминали любимых им с детства Жюля Верна и Джека Лондона,
и он наизусть цитировал мне сказки Андерсена.
Боевая готовность
26 мая. 3 часа 40 минут утра. Блиндаж КП
Час назад, проговорив с Арсеньевым за полночь, мы легли на одной наре
спать. Но в 3 часа ночи раздался писк аппарата, Арсеньеву сообщили:
"Противник в 4. 00 собирается кое-что предпринять!"
Арсеньев немедленно вызвал к проводу комбатов, приказал поднять все
подразделения полка, приказал начальнику артиллерии Гребешечникову привести
в боевую готовность артиллерию, предупредил резервы, проверил связь.
Заместитель командира полка доложил, что противник начнет артподготовку с
новых позиций. Арсеньев объявил:
-- Будить всех!.. Будить замполита!
Замполит капитан Донских заспался, вставал неохотно, но затем начал
действовать. Я с Арсеньевым, Никитич и адъютант Арсеньева, лейтенант Борис
Карт, в шинелях, при оружии вышли из блиндажа КП и перешли в блиндаж
наблюдательного пункта, где у стереотрубы находился командир батареи
120-миллиметровых минометов, старший лейтенант Федор Лозбин. Этот блиндаж
минометчиков Арсеньев использует и как свой командирский наблюдательный
пункт.
Общее напряжение ожидания передалось и мне: смотрим на часы, сейчас
около четырех утра, вот-вот обрушится на нас артподготовка, Начнется
немецкое наступление. Арсеньев, внешне спокойный, но -- подмечаю --
нервничая, проверяет по телефону готовность полка к отпору. Вокруг
абсолютная тишина. Молчат и наши и немецкие пушки, минометы, пулеметы. Ни
один винтовочный выстрел не нарушает эту особенную, хрупкую, словно
стеклянную тишину. Мы не разговариваем. Лозбин и Арсеньев по очереди глядят
в стереотрубу. Но в этот предрассветный час что-либо разглядеть трудно!
Мне все же хочется спать -- пройдя километров двадцать, я потом в полку
весь день работал, не спал ни минуты.
4 часа
Все тихо. Арсеньев, прижав к уху телефонную трубку, прислушивается.
Глядит в амбразуру на передний край. Потом берет какие-то протянутые ему
Лозбиным письма, усмехается, кивает мне:
-- Любовные! От Виктории и от Вали!..
Читает их.
Смотрю в стереотрубу. Над полем, над немецким расположением клочьями
белесый туман. Какой дикий хаос разрушения повсюду!
5 часов 25 минут
Солнце! На немецких позициях все та же странная тишина. Нет обычного
движения, все замерло. Арсеньев заснул было сидя за столиком, а теперь лег и
похрапывает. Я подробно рассмотрел немецкий передний край в стереотрубу.
Блиндажи -- по ту сторону Черной речки. На гребне перед ней -- наши разбитые
танки, дзоты, блиндажи. Дальше за Черной речкой, в изувеченном лесу возле
Круглой Рощи, видны разрушенные немецкие блиндажи, землянки!
Только что начали стрелять наши орудия -- разрывы видны в лесу. В ответ
несколько выстрелов немецких дальнобойных -- снаряды перелетели через нас.
Прошли два немецких истребителя, и опять все тихо. Весь хаос переднего края
залит утренним солнцем.
Хочется спать. Здесь, в блиндаже, так тесно, что прилечь нельзя.
Арсеньева разбудили: вызвали к аппарату. Он сообщил, что все тихо пока,
лег и опять захрапел, но сразу же проснулся и теперь, сидя за столом,
работает над картой.
9 часов 30 минут утра
КП полка. Немцы наступления не начали. На наблюдательном пункте я делал
записи о Черной речке, потом вместе с Арсеньевым и другими вернулся на КП и
спал два часа. Все тихо, подчеркнуто, непонятно, угрожающе тихо, -- нависшая
тишина! День, обычный день, начался. В блиндаже -- чистка сапог, бритье,
мытье, жарятся на завтрак свежая рыба и оладьи, на столе -- чай с клюквой...
Разговор о награждении медалями ("Надо написать приказ!"), о мерах по
укреплению рубежей и системы огня, о рекогносцировке; о солдатах -- узбеках
и казахах ("Они воюют хорошо, если им дан командир, говорящий на их
языке")...
Ячейки, ниши и амбразуры
26 мая. 10 часов утра. КП полка.
В блиндаж вызван полковой агитатор, старший лейтенант Даниил
Варфоломеевич Лях. Он будет сопровождать меня и Никитича в обходе переднего
края, куда мы сейчас отправляемся. Он украинец, родом из Черниговской
области, 1905 года рождения, член партии с 1942 года. Представлен к ордену
Красной Звезды.
Обход начнем с КП второго батальона. Этот командный пункт находится в
блиндаже, врытом в берег Черной речки. Я разглядывал его в стереотрубу с НП
Федора Лозбина...
КП второго батальона. Блиндаж на переднем крае
Пришли сюда по траншее. Командир батальона -- старший лейтенант
Мухаметдинов Мухамед-Сали Сафиевич, казанский татарин; черный, худощавый,
живые лукавые глаза. Участвовал в отражении атаки 10 мая.
Течение Черной речки часто изменяют огромные воронки, разрушающие ее
берега. Вода вливается в такую воронку кружась, наполняет ее и переливается
в следующую, все дальше отклоняясь от своего старого русла. Траншея
переднего края, обрамляющая берег, -- единственная защита от немецких
снарядов и пуль. Эта первая линия окопов проходит зигзагами, и в каждом углу
зигзага построен блиндаж. В его амбразуру на немцев глядят вороненый глазок
пулемета и пара человеческих глаз. Пулеметчики, снайперы, наблюдатели здесь
спят по очереди, урывками, и амбразуры повернуты так, что вся местность
впереди может быть в любую минуту накрыта перекрестным огнем. Каждый боец в
траншее знает, что в нужную эту минуту, на то же самое пространство впереди
и на всю глубину вражеской обороны лягут тысячи снарядов и мин, посланных
сзади нашими артиллеристами по первому вызову огня.
Боевое охранение, ячейка с амбразурой
Ниша НП с винтовками и ручным пулеметом. Два бойца спят, третий
наблюдает в бинокль. В траншею врыты цинки. Перед бруствером лежат трупы
немцев, они разлагаются, и ветерок доносит отвратительный запах. Один из
этих немцев полусидит, опершись подбородком о пень, кожа с лица слезла,
пустыми глазницами он смотрит прямо в амбразуру. До него не больше двух с
половиной метров. Другой лежит на спине, живот и грудь вздулись, но
впечатление, будто он отдыхает. Наши бойцы, насколько удается, забрасывают
трупы землей, но снаряды и мины, разрывающиеся в этой зоне, вышвыривают их
по частям и целиком.
Здесь был жестокий гранатный бой, когда немцы подобрались к пятой роте
по лощине. Эта лощина уходит в глубь немецких позиций, до них -- восемьдесят
метров. Наши отбивались с четырех часов ночи до одиннадцати утра, немцев в
траншею не пустили, но гранаты с длинными ручками они сюда добрасывали, били
сюда и минометами, и пулеметами, и автоматами, поддерживала их и артиллерия.
Пост No 24
Чтобы прийти в конец траншеи на этот пост, нужно было перебежать,
пригнувшись, по открытому, ничем не защищенному мостику через разлив Черной
речки ("протока" создана сомкнувшимися воронками). По мостику бьют немцы,
бьют плохо, потому что мы все, перебежав поодиночке, невредимы. Свист пуль,
а подальше -- хлюпанье мин в болоте; все время стреляют две немецкие пушки,
они где-то близко, но снаряды перелетают через траншею, рвутся дальше.
Сижу в нашей снайперской ячейке, гляжу в амбразуру. В ста метрах видны
немецкие заграждения, еще ближе -- в восьмидесяти -- группы немцев за
торфяными укрытиями. Их снайперы часто целятся и сюда, в щель амбразуры, --
нужно остерегаться.
В бою 10 мая из этой траншеи работал ротным 50миллиметровым минометом
командир пятой роты, младший лейтенант Николай Тимофеев, вторым минометом --
младший лейтенант Ипатов. А сквозь амбразуры вел пулеметный огонь командир
взвода. Из-за его спины бросал гранаты больше всех отличившийся в бою
младший лейтенант Щипцов. В момент атаки здесь было мало бойцов, основной
удар приняли на себя подоспевшие командиры...
Пулеметная точка No17
Берег Черной речки -- болотная, превращенная в крошево прогалина, где
не выроешь траншею даже в полроста. Единственное укрытие от немцев --
плетень из сухих ветвей, изглоданных пулями и осколками мин. Плетень не
защита от пуль, но за ним можно пробежать, пригнувшись и увязая по колено в
болоте. Если ты ловок и поворотлив, враг не заметит тебя. Вот так вчетвером
-- со связным и лейтенантом Ляхом -- сюда и перебежали, слыша над своими
спинами свист пуль. Ощущение неприятное, будто ты заяц. Было страшно, но
перебегал я со смехом: очень уж неуклюже хлюпали, да с прытью!
Точка No 17 второй пулеметной роты обложена торфяными кирпичами. Вода.
Люди живут здесь лежа, не просыхая.
Пулеметчик Коренев Александр Андреевич, небольшого роста, неказист,
лицо немытое, весь в болотной жиже.
-- Я уже пять раз раненный!
Служил в Ленинграде счетоводом, кассиром. В бою 10 мая бил из
станкового пулемета, израсходовал шесть лент и сам набивал, потому что
остался один. Двое других, оставшихся в живых, -- младший лейтенант Иван
Щербина и боец Лукьянов -- стояли за станковыми пулеметами на соседних
точках. Втроем израсходовали лент двадцать; положили, отразив три атаки,
больше восьмидесяти гитлеровцев. Гранат здесь не применяли. Записываю
подробно всю обстановку боя. Вместе с Кореневым и Щербиной (он высокого
роста, рябоватый, жмурится; каска и шинель в болотной трухе) черчу схему.
Рассказ Коренева дополняет подсевший к нам командир четвертой роты лейтенант
Скрипко -- сероглазый шатен с мягким лицом, над которым -- чуб. У Скрипко на
гимнастерке две желтые нашивки ранений.
Снайперская ячейка
Двигаясь дальше вдоль переднего края, пришел к снайперской ячейке
комсомолки Любы Бойцовой. Ниша в траншее. Девушка в каске, гимнастерке, с
погонами, грубое, рябое, круглое лицо. Разговаривает со мной тут же, в своей
нише-ячейке, не отрывая глаз от наставленного оптического прицела винтовки,
не оборачиваясь. Родилась в 1922 году в Аятском районе, Ленинградской
области, жила в Ленинграде, работала на станции Паша, на заводе, и оттуда --
в армию, с начала войны, добровольно.
-- Раньше была в медсанбате 243-й стрелковой дивизии, ходила на
передовую, перевязывала. Меня -- в медсанбат, а у меня мечта была -- совсем
на передовую удрать. Вот мечта и осуществилась. Сорок пять дней была на
армейских курсах снайперов и теперь -- сюда. Я в соседнем полку, в 1076-м, а
сюда только на охоту хожу, сегодня второй раз на охоте...
Рассказывает, что сегодня убила немца, он связь тянул. Это второй на
счету, а первого убила позавчера, 24 мая.
Пока говорю с Любой, рвутся и рвутся мины -- все позади траншеи.
КП второго батальона
Возвращались вдоль переднего края -- вдоль плетня, по мосту-стланям, и
-- никакого укрытия, пока не вошли в траншею. Бегом, согнувшись, по колено в
воде.
Говорю с командиром пятой роты младшим лейтенантом Николаем Ильичом
Тимофеевым. Чуб, пилотка, глаза зеленоватые, серьезный, немногоречивый,
рассказывает небрежно. На левой стороне груди -- орден Александра Невского.
Он -- кандидат партии, из комсомольцев, в прошлом учитель. На фронте
год, начал в боях под Синявином. Орден -- за бой 10 мая. Сначала бил сам из
ротного миномета, потом, встав на бруствер вместе с командиром пулеметной
роты Скрипниченко, выбросил больше ста гранат. Отбил три атаки и не был
ранен...
Пока я разговаривал с ним, сообщение по телефону: на пулеметную точку
No 17, откуда я сейчас пришел, -- минометный налет. Пулеметчик Коренев (с
которым я только что разговаривал) тяжело ранен; из двоих бойцов (они
уходили обедать, когда я был на точке) один ранен, второй "уснул". На
здешнем языке "уснул" -- убит...
5 часов дня. КП полка
Мы пришли сюда с хорошим "урожаем": схемы, много записей -- биографии,
обстановка, история последних боевых действий.
Вечер
Отмывшись, пообедав, продолжал здесь, на КП, мои беседы. Записал
рассказы старшего лейтенанта Лысенко (заместителя командира первой,
штрафной, роты по строевой части) и снайпера ефрейтора Поваренко У этого
снайпера на счету 173 фашиста (из них 115 во время финской войны). Своему
искусству он обучил шестнадцать бойцов на Карельском фронте, а сейчас имеет
одиннадцать учеников.
Федор Поваренко, в пилотке набекрень, -- большеносый, ростом высок и
очень спокоен. О своей снайперской "охоте" говорит, как о будничном
ежедневном деле.
А Лысенко толково рассказал о действиях своей роты в бою 10 мая. Рота
отличилась, сражалась храбро, многие награждены орденами. Сам Лысенко --
орденом Красной Звезды.
Все больше подробностей узнаю я об этом бое, но правильное
представление о нем получу, только когда поговорю с Арсеньевым и с другими
старшими офицерами полка.
Рассказ о Петрозаводске
27 мая. Утро. КП полка
Всю ночь до половины седьмого утра я беседовал с Арсеньевым. О чем
только не говорили!
Арсеньев мыслит широко, разговаривать с ним приятно и поучительно.
Особенно интересен для меня был рассказ о Петрозаводске, который был занят
противником в ночь на 1 октября 1941 года. В эту ночь по специальному
заданию Арсеньев с группой бойцов взорвал все объекты города, какие могли
быть использованы врагом. Арсеньев, прорвавшийся 2 октября со всей группой к
нашим войскам, был за эту операцию награжден орденом Красного Знамени. Вот
главное из того, что рассказал Арсеньев.
"... При отходе мы по приказу командования сжигали и уничтожали все
имеющие военное значение объекты. Строя оборону после тяжелых июльских боев,
батальон получил приказ Военного совета армии прибыть в Петрозаводск. В
батальоне из тысячи четырехсот человек к этому времени оставалось тысяча сто
человек. Погрузились на станции Лахден-Похья и 2 августа прибыли на станцию
Эйсоэло, что за Петрозаводском. В районе Сям-озера, Вагод-озера,
Шугод-озера, Крошн-озера, Под-озера под руководством батальона у нас
работало двенадцать тысяч человек гражданского населения, создали очень
крепкую оборону, а в районе Вагод-озера и до самого Петрозаводска мы
одновременно строили и воевали.
Когда двадцать пятого сентября сорок первого года стал вопрос о том,
что придется сдавать Петрозаводск, меня вызвали начальник инженерного отдела
Седьмой армии полковник Матвиенко и комиссар отдела полковой комиссар
Миронов. Сообщили, что Военный совет Седьмой армии, по решению партии и
правительства, возлагает на меня большую и ответственную задачу взорвать
важнейшие объекты города Петрозаводска. В мое распоряжение предоставляется
семьдесят бойцов с командирами.
Я попросил разрешения приступить немедленно к подготовке объектов для
их уничтожения. Двадцать седьмого сентября я лично объехал все эти объекты с
командиром роты лейтенантом Симоновым, произвел расчеты: сколько потребуется
взрывчатых веществ, чтобы взорвать важнейшие механизмы и отделы.
Уничтожению подлежали: шесть электростанций, городской водопровод,
фидерная и аккумуляторная станции, отдельные цеха Онежского завода, тюрьма,
главный почтамт, ликеро-водочный завод, типография Анохина, опытная фабрика,
холодильник, десять мостов, все три бани и многое другое... Мы сожгли
пристань, гостиницу, Кировский мост, плотину... Произвести же полное
разрушение я не мог, так как имел всего семь тонн восемьсот килограммов
взрывчатых веществ. Поэтому взрывал только важнейшие станки и машины, все
только самое главное.
Когда я заложил все взрывчатые вещества, то тридцать пять человек своей
группы с инструментом отправил из города, считая, что с остальными я
справлюсь и если погибну, то погибнет нас меньше.
В двадцать ноль-ноль тридцатого сентября через Кировский мост прошли
остатки нашей артиллерии, по направлению к Соломенное, часть же пехоты сто
двадцатого стрелкового полка еще была на окраине города, вела бой. В
двадцать два тридцать от вокзала прошла последняя группа заграждения --
войск пограничников. В двадцать три часа десять минут за Петрозаводском
шоссе (в направлении Кондопога -- Пряжа) было перерезано финнами и немцами.
Мне пришлось изменить маршрут отхода, и в двадцать три тридцать я поехал на
"пикапе" и со мной младший политрук, ныне гвардии старший лейтенант Купряхин
-- секретарь комсомольского бюро батальона, -- предупредить старших других
групп о том, что изменяется маршрут отхода.
В пути у Первомайского моста я был обстрелян двумя десятками
автоматчиков. Шофер был ранен, я перехватил руль (управляю хорошо),
затормозил у канавы, потушил свет. Ночь была темная, "пикап" у меня был
заминирован. Я открыл дверь, сказал шепотом Купряхину, чтобы он взял
раненого шофера и с ним отполз по канаве. А сам зажег зажигательную трубку,
бикфордов шнур (шестьдесят килограммов взрывчатки было расставлено кругом.
в машине). Выскочил и пополз по канаве. Автоматчики продолжали
стрелять. Они решили атаковать "пикап". Когда они бросились к "пикапу", он
взорвался и все они были разнесены. Мы перевязали шофера, он мог идти, дошли
до первой группы наших хлопцев, я предупредил их о пути отхода и направился
предупредить другие группы. В два часа ноль минут первого октября через
Кировский мост прошли последние подразделения пехоты, а в два ноль-ноль к
мосту подошли три финских танка. Они вели огонь, но зайти на мост боялись,
чувствуя, что он заминирован. Прождав еще минут сорок, я дал команду
взорвать весь мост, а затем пустил красную ракету. Это было сигналом к
началу уничтожения последних объектов. В Петрозаводске уже были
немецко-финские войска.
С утра и весь день мы взрывали и жгли дома Петрозаводска, бросая
бутылки КС, пробирались ползком канавами, через дворы домов, осторожно,
мелкими группами. К ночи пробрались за электростанцию, к озеру, у переправы
Соломенное. Первые прошедшие с командиром Симоновым группы построили плоты,
на которых мы ночью, пользуясь темнотой, перебрались на другую сторону
бухты, где встретились с группой гидророты, во главе с ее командиром,
лейтенантом Штрайх (бывшим командиром саперного батальона). Здесь пришлось
лавировать между войсками финнов.
Второго октября в четырнадцать часов переправились в районе Пески,
через губу. Возглавив этот отряд, состоявший из ста двенадцати человек, я
повел его по азимуту на станцию Шуя. Проделав километров восемнадцать
зигзагами, а всего -- петляя болотами и озерами -- километров семьдесят,
вышли мы на станцию Шуя.
Ночью с третьего на четвертое октября я появился там. Мои хлопцы и орлы
перед тем горевали обо мне; они до этого спорили: выйдет или не выйдет их
комиссар? Считали погибшим.
Командование армии было уже в Кондопоге. Я приехал, доложил Матвиенко о
том, что задание выполнено. Они посылали разведку проверять, и установлено
было, что из трех оставленных групп только моя все выполнила. За это,
учитывая предыдущее участие в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР
я был награжден орденом Красного Знамени и опять приступил к сооружению
блокгаузов, дзотов и прочего. Через некоторое
время мы были направлены в Алеховщину, куда переехал штаб Седьмой
армии, и расположились в деревне Пойкимо. Затем восстанавливали железную
дорогу на Тихвин, ибо немцы уже угрожали Тихвину. А дальше -- я был в
боях... "
На КП полка
27 мая. 2 часа 20 минут дня
В полку -- офицерское собрание. Набились в блиндаж так, что трудно
пошевелиться. Арсеньев открывает собрание потоком вопросов, каждый из
которых начинается словом "почему?". Приводит примеры.
Почему нет выправки и люди ходят небритыми? Почему вчера только один
командир третьего батальона доложил о приведении своего батальона в боевую
готовность, а остальные комбаты не доложили? Почему от уколов, которые
производят медицинские офицеры, в других полках нет заболеваемости, а у нас
до двадцати случаев? Почему нет контроля за выполнением своих приказаний?
Почему мы в свободное время не обсуждаем, все ли сделано для отражения
противника? Противник готовится к газовой войне, его солдаты прошли
газоокуривание, фильтры меняют, а мы не занимаемся этим?
И что нужно сделать, чтобы все было совсем поиному?
Разгорелась горячая дискуссия.
Арсеньев заявляет о специальной службе:
-- Многое недоделано. Много ненужной болтовни. Противник, подслушивая,
узнает наш замысел. Сегодня ночью бойцы четвертой роты на расстоянии
полусотни метров от обороны застрелили немецкого слухача.
Арсеньев об этом знает от командира разведки, который был там. Но
официально из роты ему не доложили.
-- А вы уверены, что этого слухача убили? Командир пулеметной роты
докладывает Арсеньеву,
что слухач убит.
-- А я могу не верить вам. Вы сделали попытку его вытащить? Может быть,
ушел? И вы такому важному случаю не придаете значения!
Помначштаба Жигарев горячится:
-- У нас КП командира роты -- у самого завала, там,
в пяти метрах, и рация и телефон. Дверей нет, и палаткой не завешено.
Орут так, что на двести метров слышно!
Арсеньев отдает приказание о маскировке шума, затем в крайне суровом
тоне продолжает:
-- Завтра будем судить судом чести командира связи. Завтра утром. Надо
кончать с беспечностью! А если б противник просочился сюда? Это угрожало бы
нескольким дивизиям. А это значит -- возникла бы угроза Ленинграду, который
мы защищаем. Где же достоинство и честь командира? Итак, заканчиваю, времени
у нас мало.
Первое: привести в порядок оружие. Второе: закончить рекогносцировку в
направлении вероятного контрудара. Третье: созданные подвижные
противотанковые группы должны заниматься по шестнадцать часов в сутки.
Научиться бегать, окапываться, научиться вести борьбу с танками и с десантом
противника. Четвертое: научить бойца не бояться танка. Пятое: создать
штурмующую роту...
И наконец, поднять дисциплину! Продумайте, как это сделать, чтоб это не
комедией было, чтоб не появиться вдруг перед подчиненным этаким зверем:
дескать, меня накрутили, и я буду накручивать. Это большая, кропотливая, а
главное -- систематическая работа... Все! По боевым местам, товарищи!..
... Выслушав командира полка, офицеры молча, теснясь, выходят из
блиндажа. Каждый отправляется в свое подразделение.
8 часов вечера
Немцы ведут обстрел. Снаряды свистят над головой и рвутся неподалеку в
тылу. В блиндаж зашел баянист Туманов, и сразу -- веселая песня, Арсеньев
поет: "Эх, я ль виноват, что тебя, черноокую... "
Старых русских песен Арсеньев почти не знает, а знает только новые,
советские да джазовые. Поет их одну за другой. Снаряды рвутся поблизости,
керосиновая лампочка на столе блиндажа при каждом разрыве мигает -- вот уже
шесть раз... семь... восемь... Туманов поет и играет: "Прощай, любимый
город, уходим завтра в море... "
Затем поет Арсеньев, сидя рядом с Тумановым, который играет на своем
баяне "Тучи над городом встали... ".
Над нами опять летят самолеты. Телефонный звонок. Арсеньеву
докладывают:
-- Восемь самолетов. По направлению к Шлиссельбургу.
Арсеньев справляется о зенитчиках, слышна стрельба. Кладет трубку и
обращается ко мне:
-- А вы не слышали новый "Гоп со смыком"? Сочинена Тумановым и
политработником Батыревым!
Туманов озорно улыбается и поет песню про Гитлера, с такими крепкими
выражениями, какие на бумаге не передашь.
Входит связной. Приносит газету "Отважный воин" с заголовком "240 лет
Ленинграду". Это -- сегодня! Став сразу серьезными, принимаемся за чтение.
Арсеньев получил пачку писем. Туманов, прочтя газету, тихонько заиграл
что-то меланхолическое.
9 часов вечера
Противник бьет по переднему краю тяжелыми. Блиндаж содрогается. Явился
старший лейтенант, докладывает о результатах рекогносцировки, подает на
утверждение свой личный план на завтра.
Писк зуммера. Слышу донесение:
Багаж присылаем, шестьдесят пять килограммов!
А вы его накормили, этот багаж? -- спрашивает Арсеньев. -- Слушай,
семьсот девяносто четвертый! Сколько там карандашей пошлете?
В полк все прибывают пополнения и боеприпасы.
По сравнению с прошлым годом насыщенность здешнего участка фронта
войсками огромная. Да и немцев здесь насчитывается не меньше шестнадцати
дивизий!
10 часов вечера
Стараюсь хоть коротко записать эпизоды, которыми полк может гордиться:
о боях под Тихвином, под Киришами, о попытках штурмовать Свирь-III, о герое
этих боев -- сапере красноармейце Гончаре, погибшем недавно, при ликвидации
"языка" -- выступа Круглой Рощи (Указ о присвоении ему звания Героя пришел
уже после его смерти). Или вот, например, истории трехсоткилометрового
пешего перехода полка в район Апраксина городка и -- в другой раз -- того
прорыва полком обороны противника между Гайтоловом и Гонтовой Липкой,
который дал возможность многим бойцам и командирам 2-й Ударной армии выйти
из окружения...
Арсеньев рассказывает мне о бое 10 мая. Разговор прерван телефонным
звонком. Докладывают из тыла полка: "катюша" ахнула по немцам, в ответ --
двадцать немецких снарядов по тылам полка. Исполняющего обязанности
начальника штаба майора Гордина тяжело ранило, писарь Калистратов убит, еще
человек десять ранено и убито.
Арсеньев выругался, звонит капитану Сычу (помощнику командира полка по
материальному обеспечению):
-- Сыч? Как дела? Плохо? Ты принял меры для рассредоточения? Надо
немедленно закопаться... Медработники оказали помощь? Доложи!
Оборачивается ко мне, продолжает свой рассказ о Круглой Роще. Звонок:
-- Шесть раненых, два убитых, включая Гордина и писаря Калистратова.
Да, Гордин умер.
11 часов вечера
Я с Арсеньевым сейчас выходил из блиндажа в траншею. Внезапно три
выстрела "коровы". Арсеньев рванул меня за рукав:
-- Держите сюда!
Мы кинулись под накат. Разрывы пришлись совсем близко, нас обдало
землей и воздушной волной.
-- Это новая "корова"! -- отряхиваясь, объяснил Арсеньев. -- От
Гонтовой Липки, откуда не била! Значит, подвез! Возможно, сегодня начнет!
Это "начнет" -- о наступлении, которого все напряженно ждут. Оно,
вероятно, поднимет нас ночью, часа в три-четыре, либо днем -- между четырьмя
и пятью. Третьи сутки все у нас готово к немедленному отпору.
12 часов ночи
Над нами гудят самолеты. Где-то близко идет ожесточенная бомбежка,
разрывы часты -- один за другим. Бьют зенитки. Артиллерийский обстрел идет
круглосуточный.
Мне понятно, почему Арсеньев проводит ночи в разговорах со мной: нервы
у него напряжены от непрестанного ожидания, и, хоть полк в полной боевой
готовности, Арсеньев боится, заснув, пропустить какой-либо ему одному
понятный признак начала немецкого наступления. Поэтому он все время начеку,
все время прислушивается.
28 мая. 9 утра. КП полка
Погода сегодня пасмурная. Проснулся в 7. 30 от канонады: утро началось
сплошными -- беглым огнем -- налетами немецкой артиллерии, длившимися минут
сорок. Били главным образом по Круглой Роще, несколько 105миллиметровых
разорвались неподалеку. Арсеньев проснулся, стал сонным голосом названивать,
выясняя причины. Оказалось, стреляли сначала наши, а немцы озлились.
Являлся следователь -- майор. Разговор о Бондаренко -- молодом
командире, который, впервые попав на фронт, из тыла и сразу -- в бой, легко
ранен, напугался и по выходе из госпиталя, вернувшись на передовую, подранил
себя гранатой. Ему отняли ступню. Лечиться он будет с полгода. Расстреливать
его или нет? Командир дивизии считает, что не надо, учитывая чистосердечное,
несмотря на недостаточность улик, признание. Арсеньев считает так же. Этот
факт самострельства -- очень редкий теперь случай.
Арсеньев побрился, умылся. Ординарец вычистил ему сапоги, пришил чистый
подворотничок, и после завтрака Арсеньев ушел.
10 часов утра
После ухода Арсеньева я беседовал с замполитом командира полка,
капитаном Николаем Павловичем Донских. Он -- высокий, красивый, стройный
парень, с продолговатым лицом, голубыми глазами. По общему свидетельству, он
честен и храбр. Но я с первого дня знакомства убедился в том, что он строит
свою речь только из сплошных штампов, за которыми собственных мыслей не
обнаружить.
Подвиг погибшего в бою замполита первой стрелковой роты Донских
характеризует так:
-- В атаку ходил несколько раз, выбрасывал лозунги: "Освободить город
Ленина!"
Или вот, например, вчера на офицерском собрании, когда Арсеньев
объяснил, как должны заниматься противотанковые группы, Донских вставил
(единственную за все собрание!) реплику:
-- Чтоб делали это под лозунгом: "Быть готовым!" Когда я спрашивал
Донских, чем именно отличился в
бою 10 мая заместитель командира по политчасти второй пулеметной роты
лейтенант Печников, слава о личном подвиге которого ходит не только в полку,
но и по всей армии, Донских "разъяснил" мне:
-- А как же не подвиг? Он давал лозунг: "Отстоим отвоеванное!" А еще в
начале боя написал пулеметчикам Кореневу и Лукьянову записочку: "Держитесь
крепко, разобьем фашистскую гадину!"
В действительности Печников в разгаре немецкой артподготовки в открытую
обошел всех бойцов и командиров на своем участке, расставил пулеметы, личным
бесстрашием предупредил возможность возникновения у кого-либо колебания или
растерянности, весело и дружески ободрял всех. Он воодушевил бойцов, сам
взявшись за пулемет, -- косил немцев с первого момента их атаки (когда
артподготовка еще продолжалась), пока не был убит снарядом.
И про кого бы я Донских ни спрашивал, он объяснял мне, какие кто "давал
лозунги"... Все подтверждают, что Донских в боях и самоотвержен, и
бесстрашен, но -- какое неумение предметно и ясно мыслить!
Хорошо, что политработой в полку руководит фактически сам Арсеньев!
За клочок земли на болоте!
28 мая. День. КП полка
Рассматривая немецкий передний край в стереотрубу с НП минометчиков, я
хорошо вижу мертвые, оголенные деревья знаменитой Круглой Рощи. Она --
правее позиций полка Арсеньева. Находясь теперь в наших руках, Круглая Роща
клином выдается в расположение немецких позиций. Ее обороняют соседние
подразделения. Только маленький "язычок" этой рощи остается пока нейтральной
зоной.
За Круглую Рощу велись бои кровопролитные и жестокие. Не раз и не два
после удачных атак казалось уже, что этот клочок болота остался за нами, что
враг навсегда лишился рощи, позволявшей ему простреливать весь наш передний
край фланкирующим огнем.
Но фашисты подбрасывали новые силы, свежие роты шли по увязшим в болоте
трупам немецких солдат, и клочок этого болота опять переходил к противнику.
В Круглой Роще фашисты создали надежные опорные пункты, а на нейтральном
"язычке" с одного края выросли два мощных немецких дзота, с другого --
укрепленный торфяными кирпичами плетень, за которым и днем и ночью
бодрствовали наши бойцы.
До описываемых событий, к январю 1943 года, стык 8-й и 2-й Ударной
армий волховчан, обращенных фронтом к западу, приходился как раз против
Круглой Рощи. В эти дни волховчане вместе с ленинградцами готовились к
прорыву блокады. Круглая Роща мешала наступлению волховчан на Рабочий
поселок No 7 и далее на высоты Синявина, где располагались главные силы
немцев, разъединяющие наши Волховский и Ленинградский фронты. В Круглой Роще
и в лесах юго-западнее ее основательно укрепилась немецкая группировка.
Решено было значительными силами сделать глубокий обход рощи с севера
перед Рабочим поселком No 7, выйти в тыл немецкой группировке и, двигаясь
оттуда навстречу полку Арсеньева и другим полкам волховских дивизий,
сплющить и раздавить врага в роще, как давят щипцами каленый орешек.
11 января 1943 года два полка 327-й стрелковой дивизий начали эту
операцию. Двигаясь вдоль северной опушки Круглой Рощи по занесенным снегами
торфяникам, 1102-й полк вышел на железную дорогу, что тянется севернее
Рабочего поселка No 7. Иначе говоря, зашел глубоко в тыл к немцам. Отсюда
повернул к югу, в обход рощи. 12 января занимавший ее фашистский полк,
оставив сильные заслоны в дзотах, побежал к югу и к юго-востоку. Развивая
успех, части 327-й стрелковой дивизии преследовали его.
В это же время два батальона 1074-го полка Арсеньева получили приказ
выступить с линии фронта, занять и прочистить рощу и закрепить юго-западную
ее опушку за 327-й дивизией.
Батальоны с восточной стороны вошли в рощу и двинулись навстречу нашим
полкам, преодолевавшим заслоны немцев с северной и западной сторон.
Тогда гитлеровское командование бросило с единственной еще доступной
для немцев стороны -- с юго-запада -- свои резервы. Передовой их отряд,
более двухсот автоматчиков, вклинился в рощу и оказался в тылу у тех двух
батальонов Арсеньева, что ушли вперед. Арсеньев решил немедленно отрезать
этих автоматчиков от спешивших за ними резервных частей и кинул в бой на
юго-западный "язычок" рощи роту своих автоматчиков.
Получился "блинчатый пирог": в середине рощи немцы, а дальше
концентрические круги -- наши части, затем остатки располагавшихся здесь
немецких подразделений, затем сдавливающие их полки 327-й стрелковой
дивизии. Главные силы немцев контратаковали один из этих полков -- 1100-й --
со стороны Рабочего поселка No 7 и Синявина. Положение полка становилось тем
труднее, чем дольше продолжалась очистка Круглой Рощи от противника.
Рота наших автоматчиков и второй батальон 1074-го полка сумели отрезать
немецких автоматчиков от резервов. Разрозненные группы противника, вместе с
приспевшими к ним на помощь автоматчиками, оказались окруженными. Арсеньев
предложил им сдаться, но получил отказ и тогда кинул свои подразделения в
рукопашный бой.
В этом бою было перебито больше ста восьмидесяти немцев, а тридцать
пять взято в плен. Арсеньев отослал их в штаб дивизии. Двигаясь к центру
рощи с трех сторон, сжимая немцев, батальоны Арсеньева захватили около
двадцати блиндажей и дзотов, взяли в центре рощи важный опорный пункт и,
повернув захваченные немецкие пушки и пулеметы на немцев, вдвое усилили мощь
своего огня. Немцы разбились на мелкие группы, и каждая пыталась
контратаковать нас там, где была застигнута. Зная, что главные силы
гитлеровцев, действующие от поселка No 7 и Синявина, грозят смять 1100-й
полк 327-й дивизии, и остерегаясь прорыва вражеских резервов с юго-запада
(со стороны шоссе Синявино -- Гонтовая Липка), Арсеньев прикрыл юго-западную
сторону рощи тринадцатью своими и приданными орудиями, бил ими прямой
наводкой. Одновременно, выделив из других
своих батальонов две роты, он послал их на подмогу 1100-му полку.
Группы немцев пытались вырваться из рощи, контратакуя то там, то здесь.
Арсеньев решил не допустить прорыва. Увидев, что опасность прорыва возникла
на участке, где дралась его вторая рота, он, легко раненный в грудь
осколком, пробежал с двумя офицерами по открытой местности к этой роте.
Немцы вели огонь двумя станковыми пулеметами из большого дзота. За ним
располагались семь других поменьше. Они молчали. Все вместе эти дзоты
составляли один из трех сильнейших опорных пунктов противника в Круглой
Роще. Вторая рота залегла в снегу перед большим дзотом.
Арсеньев спросил бойцов, нет ли у них противотанкового ружья, чтобы
стрелять по дзоту. Ружья не оказалось. Осмотревшись, Арсеньев увидел в
стороне брошенную немцами 75-миллиметровую пушку и снаряды к ней. Взяв пять
бойцов, он подполз к этой пушке, под огнем перекатил ее через траншею и
установил метрах в шестидесяти от главного немецкого дзота. Семью снарядами
он разбил дзот. Из него выскочили два немца (позже там было найдено
тринадцать трупов). Арсеньев развернул пушку, дал несколько выстрелов по
двум другим дзотам и по землянке и поспешил обратно, на "язычок" к третьей
роте, потому что там два дзота и траншея опять оказались в руках немцев и
надо было организовать атаку.
Во всем, что происходило внутри Круглой Рощи, издали трудно было
разобраться. Командование 314-й стрелковой дивизии, по информации 327-й
дивизии, даже заподозрило было Арсеньева в том, что он ведет бой со своими.
Ночью после тщательной подготовки Арсеньев вместе с Донских повел
третью роту в атаку. С гранатами ворвались в траншею, убили и ранили около
полусотни немцев, захватили оба дзота, два блиндажа, две пушки, четыре
радиостанции.
Все это время полки 327-й дивизии вели тяжелейший бой с главными силами
противника, пытавшимися прорваться к захваченной нами, но еще не очищенной
полностью Круглой Роще.
Наутро следующего дня, продолжая внутри рощи бои с фашистами, засевшими
в последних уцелевших дзотах, Арсеньев повел одну из своих групп в атаку,
был ранен в
I
руку навылет и по приказу полковника Федина (заместителя командира
дивизии по политчасти) отправлен в медсанбат.
В этот день Круглая Роща была полностью очищена от гитлеровцев, позиции
окончательно закреплены полками 327-й дивизии и 1074-м полком Арсеньева.
Выполнив свою задачу, эти части помогли наступлению других дивизий
Ленинградского и Волховского фронтов. Решающие наступательные бои
завершились 18 января встречей двух фронтов, иначе говоря -- прорывом
блокады Ленинграда.
С тех пор, как я уже сказал, только маленький "язычок" Круглой Рощи, на
котором нельзя закрепиться, все еще остается перед нашими позициями ничейной
землей, одинаково простреливаемой и нами и немцами.
Две недели назад
28 мая. День. КП полка
В начале марта после боев за Круглую Рощу 1074-й стрелковый полк
Арсеньева получил приказ занять новый рубеж -- полтора километра по фронту
между позициями 1076-го и 1078-го полков. Здесь оказались только хаотические
остатки прежних оборонительных сооружений, не сохранилось ни блиндажей, ни
окопов, ни даже стрелковых ячеек.
Бойцы и командиры энергично взялись за оборудование участка обороны.
Артиллеристы, минометчики и снайперы своим огнем заставили немцев прятаться,
и под таким прикрытием началась работа. Надо было организовать систему огня,
связи, наладить взаимодействие с артиллерией и с соседями. За восемь --
десять дней была создана оборона глубиной в два километра. Слева, где почва
не так болотиста, позиции удалось укрепить надежными сооружениями. Этот
участок протяженностью в восемьсот пятьдесят метров Арсеньев по приказу в
конце апреля передал своему соседу -- 1076-му стрелковому полку, а себе
оставил шестьсот пятьдесят метров по фронту, но трудно вообразить более
гиблое болото, чем оставшийся у полка участок!
С первого дня изучая поведение гитлеровцев против нового, занятого
полком рубежа, Арсеньев сделал вывод,
что противник именно на этом участке готовит наступление. Немцы по
многим признакам особенно заботились о том, чтобы обезопасить себя от
проникновения наших разведчиков, которые могли бы добыть у них "языка", --
значит, им было исключительно важно сохранить все затеваемое в тайне. Наши
снайперы, однако, не раз замечали, что у перебегающих по ходам сообщения
немецких солдат имеются ранцы. Несомненно -- на передний край прибывают
пополнения.
Десять дней подряд противник производил авиаразведку нашего переднего
края, тщательно просматривал и фотографировал наши оборонительные позиции на
глубину в шесть -- восемь километров.
Дважды за этот период времени противник пытался произвести ночной поиск
с целью взять у нас контрольного пленного. Обе попытки немцам не удались:
группы их разведчиков были перебиты, оружие захвачено.
Семь дней немцы обрабатывали наш передний край тяжелой артиллерией
калибра 207, 210 и 305 миллиметров. Затем началась пристрелка вероятных
путей подхода наших резервов...
За трое суток до попытки наступления враг прекратил освещение местности
ракетами, и стало ясно: передвигая по ночам свои войска, он опасался
обнаружить это передвижение светом своих же ракет. Наконец, он вовсе
перестал обстреливать нас, конечно же потому, что, концентрируя свои силы,
не хотел навлечь на них ответный огонь, стремился не дать нам засечь его
новые огневые точки...
За сутки до немецкого удара Арсеньев, начальник штаба Чемоданов и
другие опытные офицеры по ряду признаков определили даже час, намеченный
немцами для наступления.
Нужно ли говорить о том, что все у нас было готово к решительному
отражению удара? Наблюдение было зорким и непрестанным, система огня и
возможность его мгновенного вызова -- многократно проверены. Весь передний
край крепко минирован, телефонная связь дублирована отлично
отрегулированными рациями.
Немецкого удара можно было ожидать либо часа в четыре дня -- время,
удобное для противника, чтобы успеть закрепиться, -- либо перед самым
рассветом, если враг обладал уверенностью, что успеет развить успех. Поэтому
с четырех часов дня и ночью до начала рассвета люди почти не спали --
отсыпались днем.
И когда наконец, приняв во внимание еще ряд признаков, Арсеньев сказал:
"Сегодня, часа в три ночи, противник попытается начать наступление!", никто
не сомневался, что это будет именно так. В ту ночь не спал ни один солдат.
Не спал, конечно, и сам Арсеньев: писал письма своим ленинградским друзьям.
В три часа тридцать минут утра 10 мая противник дал первый залп
артподготовки. Арсеньев отличил его от обычной стрельбы. Снаряды вражеской
артиллерии накрыли наш передний край -- всю двухкилометровую полосу обороны,
в том числе и КП полка. Арсеньев, находившийся на КП, сразу же дал вызов
всей своей артиллерии. Батареи противника, все его огневые точки, пути
подхода пехоты, танков были заранее пристреляны. Артиллерия полка ответила
на второй немецкий залп. При третьем залпе Арсеньев позвонил командиру
дивизии и доложил, что противник начал артподготовку. В ответ на четвертый
немецкий залп на врага обрушилось шесть наших артиллерийских полков. Пятым
немецким залпом телефонная связь везде была порвана, и Арсеньев перешел на
радиосвязь, которой всегда уделял чрезвычайное внимание, считая ее
единственным надежным средством управления. Все десять последующих часов боя
радиосвязь работала столь надежно, что ни одно подразделение ни на минуту не
оставалось без управления.
Со своего наблюдательного пункта Арсеньев в стереотрубу видел все поле
боя -- и неисчислимое множество разрывов, вздымающихся на каждом метре
пространства, и цепи немецкой пехоты, брошенной в атаку еще до окончания
артподготовки (пехота падала перед нашими блиндажами, погружалась в болото),
и выступавшие из дымовой завесы немецкие резервы, которые, не успев кинуться
в атаку, таяли под нашим огнем...
Через двадцать минут наша артиллерия пересилила вражескую. Многие
батареи противника взлетели на воздух, немецкая артподготовка была смята,
вражеские снаряды ложились вразброд, куда ни попало, их становилось все
меньше, и в стереотрубу было видно, что наши траншеи целы, что наши пулеметы
и ротные минометы ведут огонь по-прежнему, что ряды наших воинов почти не
редеют.
4 П. Лукницкий
Каждая рота непрестанно информировала Арсеньева о положении дел на
своем участке. Было ясно: противник бросил в бой силы, значительно
превосходящие наши. Но волны немецких атак разбивались о наш передний край
одна за другой. Разбивались -- и не откатывались: живых немцев не
оставалось. Через полчаса Арсеньев с адъютантом Картом перешел на свой
передовой наблюдательный пункт, откуда лучше были видны боевые порядки и
наступающая пехота противника. Управление артиллерийским огнем Арсеньев взял
в свои руки.
На сороковой минуте боя немцы перенесли артогонь на глубину нашей
обороны, стараясь отсечь наши резервы.
На правом фланге, где оборонялась пятая рота, взвилась красная ракета.
Арсеньев, внимательно наблюдая, увидел: на участке, выдающемся клином
вперед, немцы ворвались в дзот и в землянку наших автоматчиков. Он сразу
понял, что положение здесь, на стыке с 1078-м полком, создалось угрожающее.
Позже выяснилось, что обстановка была такова: прямым попаданием снаряда
шестеро из двенадцати автоматчиков были убиты. С двух сторон клина на
позицию, которую автоматчики обороняли, сразу ворвались по старым ходам
сообщения немцы. Оставшиеся в живых автоматчики во главе с лейтенантом
Романовым оказались под перекрестным огнем, расстреляли диски, израсходовали
гранаты и погибли все, кроме случайно уцелевшего Романова. После боя было
насчитано более пятидесяти трупов перебитых ими врагов. Но в тот критический
момент немцам удалось затащить в дзот и в землянку свои минометы и пулеметы.
Вражеское командование, стремясь развить успех, бросило сюда свежий батальон
пехоты.
Точная своевременная информация с низов, в частности командира пятой
роты Николая Тимофеева, дала возможность Арсеньеву немедленно принять
правильное решение. На бросившийся в атаку батальон гитлеровцев Арсеньев
вызвал огонь PC, и через одну минуту "катюши" с предельной точностью накрыли
весь этот батальон. Одновременно левее на передний край противника
спикировали четыре наших самолета, присланных соседней армией Мерецкова,
которому просьба о них была передана за двадцать минут до этого. Самолеты
сбросили бомбы на другой батальон гитлеровцев, поднявшийся было в атаку.
Когда пламя и дым после налета "катюш" рассеялись, оказалось, что
вражеского батальона нет -- он исчез с лица земли. А там, куда сбросили свой
груз наши самолеты, немногие уцелевшие гитлеровцы со стонами переползали
через трупы своих соратников.
Однако на клинообразном участке пятой роты, куда ворвались немцы, все
еще продолжался гранатный бой. Командир роты Тимофеев, в этот трудный момент
потеряв двух минометчиков, сумел заменить их собой -- сам выпустил из
ротного миномета сорок мин. Слева на помощь к сражающимся гранатами бойцам
пятой роты устремились бойцы первой (штрафной) роты, возглавленные
заместителем командира по политчасти Беловым. Командир первой роты Яковлев с
другой группой бойцов подобрался к захваченной противником землянке и разбил
гранатами минометы и пулеметы, которые немцы успели установить там. А справа
бойцы и командиры соседнего, 1078-го полка выбили немцев из занятого ими
дзота.
Успеху первой роты и левофланговой группы бойцов 1078-го полка
способствовали батареи 76-миллиметровых пушек капитана Медынина, пулеметчики
командира четвертой роты Скрипко и минометчики Лозбина. Открыв огонь по
немецким передовым позициям, они воспретили противнику подбросить новые
подкрепления. Когда дзот и землянка были отбиты и весь клин снова оказался в
наших руках, Арсеньев со своего ПНП видел, как последние десятков шесть
немцев, хромающих и окровавленных, бежали по лощине.
Критический момент миновал.
Бой длился десять часов. После седьмой отраженной нами атаки немцы уже
не показывались ни на одном участке поля боя. Огонь вражеской артиллерии
затих совсем. Нашей артиллерией за время боя было выпущено восемнадцать
тысяч пятьсот снарядов. В воронках, рытвинах, лощинах, на искрошенных пнях,
вдоль всего переднего края лежало больше семисот вражеских трупов. Сколько
их утонуло в болоте и сколько было в глубине вражеской обороны, мы не знаем.
Выползая за бруствер, наши бойцы стаскивали в свои траншеи трофейное оружие,
боеприпасы и документы.
Когда у нас в подразделениях была проведена перекличка, оказалось, что
за десять часов жестокого боя полк потерял двадцать семь убитыми, тридцать
пять ранеными -- всего шестьдесят два человека. Двадцать восемь из них,
занятые перед боем укреплением блиндажей, были застигнуты во время работы
огнем артподготовки.
Потери оказались столь малыми потому, что спокойствие и уверенность в
своих силах не покидали воинов в бою; действуя самоотверженно и храбро, они,
однако, понапрасну не подставляли себя под удар, умело пользовались
укрытиями. Никто не дрогнул, никто не побежал. Характерно: вторая и третья
линии окопов полка были изрядно разрушены артподготовкой, а первая линия
траншей оказалась почти не поврежденной -- снаряды перелетали через нее. То
ли немцы стреляли не точно, то ли старались отсечь возможные наши
подкрепления, рассчитывая, что с малочисленными защитниками первой линии
траншей справится их атакующая пехота. И, конечно, прежде всего опасались
накрыть эту изготовившуюся к атаке свою пехоту. Большую роль сыграли и
дружная взаимопомощь стрелковых подразделений, и отличное взаимодействие
артиллерии и пехоты. Но самое главное, застать нас врасплох своим ударом
немцам не удалось, а наш мгновенный и решительный контрудар оказался
действительно внезапным и неожиданным для врага. Результаты боя были оценены
командованием как отличные. Николай Георгиевич Арсеньев награжден орденом
Отечественной войны I степени. Пятьдесят шесть бойцов и офицеров -- орденами
и медалями,
В ночь после боя весь полк под защитой сильного артиллерийского и
минометного огня восстанавливал свои оборонительные позиции. В последующие
десять дней полк не только восстановил их, но и значительно улучшил.
Противник, однако, не оставил намерения прорвать линию нашей обороны на
этом важнейшем участке. Напряжение, в котором полк живет все дни, что я
нахожусь здесь, свидетельствует о том. Арсеньев полагает, что теперь
установить заранее день и час новой попытки врага нанести удар труднее.
Наученные горьким для них опытом, немцы стараются путать признаки начала
своего наступления.
Полк готов встретить удар в любой день, в любой час.
Перед расставаньем
28 мая. 3 часа дня. КП полка
Мы с Никитичем решили посмотреть еще раз на окружающую местность.
Шагали по каким-то обрывкам, лоскутьям металлического мусора. Я, не заметив,
встал на мину и, созерцая немецкие позиции, стоял на ней, пока Никитич не
обратил моего внимания, на чем я стою! Поскольку мина не взорвалась,
отнестись к этому можно было с юмором.
29 мая. 9 часов 45 минут утра. КП полка
Вчера днем получен приказ: перевести полк на новое, еще более опасное и
ответственное место -- правее, к опушке рощи. Свой участок обороны --
передать левому соседу. Арсеньев сам обошел новый рубеж. За эту ночь туда
перешел третий батальон. Удачно -- без потерь, потому что, собрав
командиров, Арсеньев коротко, быстро, ясно и точно дал все необходимые
приказания каждому. Говоря о боеприпасах, оружии, материалах для
строительства, Арсеньев рассуждал как хороший хозяин:
-- Свои снаряды сосед оставляет нам, а мы ему -- свои. Но наиболее
ценные мы тоже заберем с собой...
И с улыбкой заговорщика, обращаясь к своему начарту:
-- Ты ему объясни, ну ты же отлично умеешь уговаривать и хитрить, ты же
ловкач: им тащить это нет смысла, они здесь ближе к складам, достанут!
Вечером -- неожиданный для бойцов отдых: повзводно ходили в 1078-й полк
смотреть кинофильм "Секретарь райкома". За ночь третий батальон удачно, без
потерь занял назначенный ему рубеж.
Работа моя в общем сделана, сегодня покину полк.
... На столе -- стакан воды с давленой клюквой. Керосиновая лампа
прикрыта газетой, чтобы свет не бил в лицо Арсеньеву. Он спит после
хлопотливой ночи. На других нарах посапывает, подложив под голову кулак,
адъютант Карт.
Вчера Арсеньев долго пребывал в соседней "комнатке", обучая своего
ординарца Берту Савинову "морзянке". Черноглазая, белозубая, широколицая,
краснощекая, красивая девчонка, Берта до войны училась на токаря в
ремесленном училище. Было ей шестнадцать лет, когда в 1942 году, заявив, что
ей восемнадцать, она пошла в армию добровольно, сандружинницей. Потом была
палатной сестрой, затем решила поступить на курсы зенитчиков, но там -- в
тылу -- ей показалось скучно, и она убежала в свою санроту, на фронт, за что
была посажена на тринадцать дней на гауптвахту и оттуда за новый
дисциплинарный проступок угодила в штрафную роту на два месяца. После боя,
10 мая, пожалев ее молодую жизнь, Арсеньев взял ее к себе ординарцем. Берте
здесь не нравится: "Хочу снайпером или кем-нибудь, но быть там, на
передовой, там хорошо: или уж бей, или тебя -- все равно!" Хмурится, не
признает никаких своих обязанностей и дисциплины.
Вчера рядом с блиндажом разорвалась какая-то штуковина -- красным
озером полыхнуло в коридор. Так и не поняли мы: снаряд не снаряд, мина не
мина, фугас, что ли, какой-либо старый?
Вместо того чтобы испугаться, Берта с веселым смехом рванулась к выходу
из блиндажа -- полюбопытствовать. Так же, не ведая страха, как неискушенный
зверек, она вела себя, когда тяжелый, 150-миллиметровый снаряд разорвался
недалеко от нас, на пустом болоте. Такой же она была и в бою 10 мая: во
время артподготовки, находясь в штрафной роте на переднем крае, не сидела,
как все бойцы в укрытиях, а носилась по траншее с восторгом и смехом, явно
развлекаясь всем происходившим. Вокруг нее ранило и убило нескольких бойцов,
ее не задело; она перевязывала раненых с той же наивной детской веселостью.
И потом ходила за два километра в санроту за бинтами, по открытому полю, под
продолжавшимся артиллерийско-минометным огнем.
Когда первый раз увидела разрывы снарядов и бойцы вокруг попадали в
грязь и кричали ей "ложись!", она огрызнулась: "Как же я лягу! Тут же
грязно!" Осталась стоять, и это ей "сошло" с рук. Она очень довольна, что
месяц была в штрафной роте, чуть ли не полна гордости: "Я даже в штрафной
роте была!" -- "А что ж тут хорошего?" -- "А как же! Иначе ничего бы и не
увидела!"
Арсеньев снисходителен к ней. Она для него лишь девчонка. У нее хорошая
улыбка, черные волосы, настоящая узбекская тюбетейка, ворот гимнастерки
расстегнут,
погоны тут явно ни при чем! Плотная, здоровая, наивная девушка!.. [1]
Арсеньев проснулся от писка зуммера, -- поговорил по телефону о
подсобном хозяйстве полка. Где-то в тылу, у Назии, это хозяйство ведут
женщины и несколько бойцов трофейной команды. Обрабатывают двадцать два
гектара: картофель, капуста, морковь, лук. А на Ладоге рыбак вылавливает для
полка здоровенных лещей. Получив сообщение, что поймано тридцать девять
килограммов лещей, Арсеньев приказывает распределить эту рыбу между бойцами
передовых рот.
Время от времени, с короткими частыми шипами, будто вздыхая, работает
наш "иван долбай": PC летят в воздухе, оставляя огненные следы, и
ослепительным каскадом разрывов рассыпаются на немецких позициях. После
этого немцы начинают яриться -- сыплют сюда тяжелыми.
Я выходил смотреть...
Вчера какая-то наша "машинка" неподалеку заработала так часто и таким
низким незнакомым голосом, что никто не мог определить, что же это за штука
-- явно автоматическая. Не "катюша", не "иван долбай", не зенитная пушка, --
видимо, нечто новое, впервые здесь введенное в действие[2].
"Иван долбай" дал несколько серий по пятнадцать -- двадцать ударов.
Бойцы повыскакивали из блиндажей взволнованные: "По нашим бьет! По переднему
краю!"
-- Ну, сейчас немец даст сюда! -- заметил Арсеньев. Справился по
телефону: -- Как разрывы легли?
Получил ответ:
-- Хорошо! Немного близко, но хорошо.
PC рвались по самой кромке немецкого переднего края, очерчивая ее.
Отсюда же казалось, будто реактивные снаряды легли на наши траншеи.
В блиндаже крысы. Бегают и пищат над матерчатым подстилом, за бумагой,
набитой на стены. Возятся, царапаются, шуршат, сыплют песок. А в ходах
сообщения они нагло, стайками встают по краям, не боясь людей. Если подумать
о том, отчего расплодились и разжирели они здесь, на этой, знавшей столько
кровопролитнейших боев местности... но об этом лучше не думать!
[1] 4 февраля 1944 г. под Нарвой Берта Савинова была убита при том же
разрыве снаряда, каким тяжело ранило Арсеньева.
[2] Это были, по-видимому, введенные на Волховском фронте в 1942 г.
тяжелые установки 30-миллиметровых минометов, стрелявшие с собираемых на
земле рам. Они назывались М-30, одна мина весила 90 кг, один залп дивизиона
таких "эрэсов" состоял из 126 мин.
День сегодня холодный, пасмурный. А спать было жарко и душно. Топилась
печурка, воздуха в блиндаже мало. Но спал я крепко, хоть и вдвоем на наре, и
не раздеваясь, сняв только сапоги...
11 часов 30 минут утра
Пришел капитан Сыч, а с ним капитан Давиденко, вчера назначенный
начальником штаба. Обсуждают: куда поставить тылы полка? Совершенно некуда:
всякое годное место набито частями, а если уйти далеко в тыл, к Назии, --
трудно будет со снабжением. Разговор о какой-то просеке. Но она засечена
немцами и обстреливается. "Я не хочу, -- говорит Арсеньев, -- вашим семьям
рассылать "похоронки". Там из тылов может получиться пшик!"
Сыч изучает карту. Между разговорами и обсуждениями Арсеньев умылся,
оделся. Сейчас сидит аккуратный, бритый, блестя своими орденами.
Пришла мне и Никитичу пора прощаться с ним. Пойдем вместе с Сычом к
тылам полка, а там Сыч обещает нам выдать верховых лошадей.
Завтра из Ленинграда отправлю в ТАСС, в Москву, три маленькие
корреспонденции о братьях Шумовых и о полке Арсеньева. "Прощай, любимый
город!" -- напевает Арсеньев, разглядывая схему нового расположения полка.
Третьи сутки он почти ничего не ест ("Не хочу!") и держится только
силой воли. Как ни тщательно скрывает он свое состояние, я понимаю --
нервничает: когда же начнут немцы и все ли он предусмотрел, чтобы сразу дать
им отпор?
Жизнью своей и жизнями тысяч людей своего полка, своей дивизии, своей
армии отвечает Арсеньев за благополучие на этом ничтожном клочке болота. Он
знает, что судьба Ленинграда зависит и от него.
Какое неотступное, полнодумное, чувство ответствен ности!
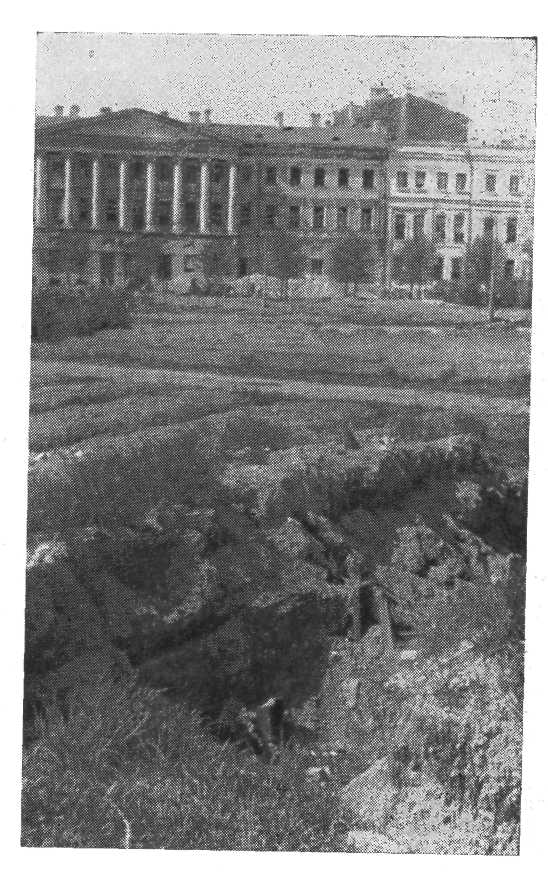 Ленинград, Марсово поле. 1943 г.
Размышляю о ленинградских писателях. Как бы мы лично ни относились один
к другому, всех нас связывает общая судьба -- ленинградцев, она развивает и
укрепляет в нас дух товарищества и взаимопомощи. Все мы живем, не зная
своего завтрашнего дня и даже ближайшего чaca. Все привыкли к этому и
считаем это для себя нормальным бытом. Почти все мы оторваны от родных и
близких и, конечно, тоскуем о семьях. И нас, писателей, здесь так мало.
Работа наша -- нужна, нервы у всех укреплены волей, каждый тихий день
воспринимается нами как подарок, а "шумные" дни давно уже никого из нac, как
и вообще никого из ленинградцев, не будоражат. Мы связали себя с
Ленинградом, своей любовью к нему, и будем с ним до конца, до победы, что ни
пришлось бы нам пережить на пути к ней.
... Вот со двора кричат, велят замаскировать окна. И одно за другим они
затемняются, и я тоже опустил синюю бумагу на все четыре окна квартиры...
24 июня. День. Летний сад
Тихо. Только где-то за облаками гудит самолет. Да издалека доносятся
отдельные залпы орудий. После ожесточенного обстрела города, который длился
все утро, сейчас опять спокойствие.
Зеленая травка с газонов Летнего сада переплеснулась на большую аллею,
лишь посередине аллеи -- серый, гладкий песок. Так мирно в Летнем саду,
запущенном, но тем более не городском в эти дни, что душа отдыхает. Я заехал
сюда на велосипеде и сижу на скамейке в одиночестве, на жарком, бьющем
сквозь листву солнце. Я не был здесь ни разу за два года войны. Только на
днях Летний сад открыли для посетителей. Но в нем и нет почти никого, --
несколько женщин на скамеечках, одинокие, читают книги. Их мужья, наверное,
на фронте, или у них уже нет мужей? Вдоль Фонтанки полоса сада отгорожена
колючею проволокой, там, за проволокой, вижу краснофлотцев. Один обедает за
трехногим столиком, другие загорают, лежа на траве. Стоит палатка.
Весь сад -- в аккуратно разделанных грядках, зелень овощей уже
проросла, свежа. Белый круглый павильон
забит только что скошенным ароматным сеном. Домик Петра закрыт,
заколочен.
В пруду купается детвора. Вдоль Марсова поля, наполняя сад шумом,
изредка проходят трамваи, беспрестанно мчатся грузовики.
А на Неве -- сквозь решетку ограды видны военные корабли -- в сетях,
замаскированные, ощеренные в небо зенитками. В саду зениток нет, только
заросшие травой щели укрытия, везде, среди огородных грядок... Здесь, в
саду, отдохновенно и хорошо.
Час назад был я на телеграфе, отправил материал в ТАСС, телеграмму в
Ярославль, моим, и другую -- в Ташкент, А. Ахматовой: "От всей души
поздравляю с награждением Вас медалью "За оборону Ленинграда"...
Мой час
26 июня. Квартира на канале Грибоедова, 9
Удивительные дела происходят на свете! Я сижу за моим старым знакомцем
-- круглым столом, покрытым белоснежною скатертью, под яркой электрической
лампочкой, в желтой комнате "надстройки" -- комнате столь идеально чистой,
будто она прибрана руками любящей женщины. Тикает зеленый будильник, в
данную минуту он показывает без двенадцати час. Я пью крепкий чай из той,
памятной мне, с розовыми цветочками, чашки. Я только что поднял синий бокал
вина за самого близкого мне человека, за здоровье отца, сказав свой тост
вслух. Передо мною бутылка вина "Акстафи", Азсовхозтреста, только что
открытая. Я откусываю кусочек белой галеты, взяв ее не с какого-нибудь
газетного, лежащего на столе клочка, а из большой, памятной мне пиалы.
Сижу за столом, обнажен до пояса, и мне тепло, привольно, нет
необходимости быть в полной форме, при пистолете, как сидел вечерами до сих
пор в ДКА. Курю "Беломорканал" и только что вволю наелся пшеничной каши,
которую сварил сам на электрической плитке, поставив ее на мой старинный
бамбуковый столик, -- и часть несъеденной каши даже осталась на утро.
Желтую, чисто вымытую стену украшает сюзане. А в соседней комнате, на тахте,
приготовлена постель -- белейшие простыни, пуховая подушка...
Я так отвык от этого, так это необычно, что в душе моей праздник.
Отдыхать приходится редко, и праздничных дней у меня совсем не бывает, а
так, чтоб на душе был праздник, -- этого давно уже я не ощущал. А сейчас --
ощущаю. У меня есть дом (два года у меня его не было!), и сейчас я дома, сам
с собою, один, но, кажется, я почти осязаю незримое присутствие близкого мне
человека! За окнами, на которые опущены синие маскировочные бумажные
занавеси, -- канал, ночь, белая ночь -- и тишина, абсолютная тишина, какая у
нас тоже бывает редко.
Конечно, если разобраться глубже -- есть многое, что "не то"... Тишина
-- обманчива, и в любую минуту может нарушиться. Квартира эта -- не та, а
другая, еще не обжитая мною, предоставленная мне взамен моей, разбитой
тяжелым снарядом. Только сегодня, провозившись, протрудившись до крайней
усталости, до таких болей в боку, что и сейчас встать из-за стола трудно, я
обрел это новое жилье, перетащив сюда всю уцелевшую простреленную осколками
мебель и пока все самые необходимые вещи... В третьей комнате -- склад
чужих, запечатанных комиссией вещей. Водопровод ни в ванной, ни в кухне не
действует. А главное, самое главное: я один, как все эти два года -- один,
мне так надоело быть одному!
Мне чудится голос: "Конечно, ты мечтатель и фантазер! Конечно, это
только какой-то необычный час в твоей жизни, в котором войны будто и нет!"
Но этот час -- "мой", я так хочу быть убежденным сию минуту, что в этой
комнате я не один, что не я сам, своими руками (вместе с работавшей за
продукты питания старой дворничихой) добился сегодня чистоты, опрятности,
порядка в доме... Конечно, открыть бутылку вина я могу не каждый день, может
быть, только раз в несколько месяцев, а сварить кашу -- только из того,
привезенного мною из Ярославля килограмма концентратов. Но вот пью в данную
минуту белое вино и опять поднимаю тост за отца!
Иногда бывает все равно: иллюзия или действительность! Хорошо, что
даром воображения я могу доводить мои иллюзии до степени реальности! Нужен
лишь добрый, хороший, убедительный повод. Такой повод сегодня -- первый за
полтора года вечер в моей квартире!
Я знаю, -- завтра этого ощущения, того, как я воспринимаю сейчас этот
мой первый вечер в новой квартире, не станет. Наша обычная, фронтовая,
суровая, не оставляющая ни минуты на отдых и на мирное состояние духа жизнь
вновь возьмет свои права. Повернется магический ключик, которым, как в
детской сказке, жизнь вдруг претворяется в волшебство, -- повернется,
щелкнет и вернет меня в будни.
Пусть!.. Наши солдатские будни -- суровы, но мы вправе ими гордиться:
они наши, неповторимые, ленинградские!..
Обстановка в городе
2 июля. Канал Грибоедова
Звук возникает, набухает, лопается -- короткий раскат. Все это -- не
больше секунды. За ним -- другой, третий. Таковы звуки обстрела города,
который идет сейчас. Промежутки между звуками -- полминуты, минута...
Последнее время несколько дней подряд была полная тишина, и вдруг день --
безмятежно тихий -- был нарушен десятком таких частых разрывов, будто
посыпался горох. И опять стало тихо -- до ночи. Два снаряда угодили в уже
разрушенный авиабомбой дом на углу Невского и канала Грибоедова. Такие же
короткие воровские налеты были сделаны и на другие районы города. Два
снаряда попали в здание Фондовой биржи. Николай Тихонов сказал мне, что два
других разорвались рядом с его домом...
Мне передали рассказ одного из пленных гитлеровцев --
голландца-перебежчика. На позиции тяжелой дальнобойной артиллерии, где
немецкие офицеры томились от безделья и скуки, приехала погостить любовница
командира полка. Пообедала, крепко выпила... Чем развлечь сию особу так,
чтоб пощекотало нервы?.. "Хотите обстрелять Ленинград?" Везет ее к
дальнобойному орудию, заряжают, суют сей даме в руки шнур. Хмурясь,
полупьяная, она тянет его -- раз, другой, третий, пока рука не устала.
Снаряды летят в Ленинград. Разрываются. Убивают детей и женщин. После этого
похотливая любовница уезжает со своим рыцарем на его тыловую квартиру.
5 П. Лукницкий
Бывает и проще: опасаясь быть засеченным, какой-нибудь бронепоезд,
выехав на позицию, поспешно, бегло швыряет десяток снарядов -- и сразу же,
полным ходом, назад.
... А вот сейчас бьют солидно, уже с полчаса.
Окно мое, выходящее на канал, раскрыто настежь. За каналом --
четырехэтажный дом, крашенный желтой краской. Окна во всех его этажах зияют,
другие забиты фанерой, только в некоторых стекла уцелели. Они с начала войны
перекрещены полосками бумаги, -- теперь никому и в голову не пришло бы
наклеивать на стекла полоски бумаги, разве они помогут? За разбитыми окнами
из темноты комнат выступает мебель. Вот стул, у самого подоконника. Он
недвижим давно. Квартиры брошены. Обитаема только одна -- во втором этаже:
четыре окна застеклены недавно, в одном, за распахнутой форточкой, видна
чистая подушка. А под воротами во дворе сидят двое, читают вместе большую
книгу... Над крышей дома -- серое небо, тучи. Несколько дней уже тучи, и
холодно, и совсем не похоже на лето. Многие ходят в плащах, иные командиры
-- в шинелях. Жаркие июньские дни миновали.
... И все же, если не считать редких обстрелов, -- в городе тишина.
Тишина и на фронте, повсюду. Некий мирный период войны, конечно, -- период
напряженной подготовки с обеих сторон к неминуемым схваткам. Почти
сравнявшееся с германским техническое оснащение Красной Армии, ее явное
усиление и моральное превосходство не могут не пугать Гитлера. Немецкий
генералитет, кажется, начинает постепенно "оттирать" его от командования,
ему не так уж просто бросить свои армии одним своим словом в новые авантюры,
коих после Сталинграда и Африки все, кто может в Германии мыслить разумно,
боятся. Вот и приходится Гитлеру теперь рассчитывать каждый свой шаг, думать
о коммуникациях, о стягивании крупных резервов, о недовольстве населения
Германии. Думать о неожиданностях, какие непрестанно усиливающаяся наша
армия может преподнести ему. И если наше умное, уже очень опытное
командование тоже тратит драгоценное время на подготовку, то тратит его,
конечно, не зря...
Вот и тишина -- пока! Нет затишья только в небесах -- авиация и наша и
немецкая действуют. Немцы стараются бомбить все пути подвоза к Ленинграду,
особенно станции и мосты единственной железной дороги и пристани на
Ладожском озере. Заодно тщатся, как запасную цель, бомбить Ленинград. Но это
удается редко и только их отдельным прорвавшимся самолетам.
А над путями сообщения воздушные бои каждый день. Недавно, после
двухлетних -- с начала войны -- напрасных усилий, немцам удалось разрушить
мост через Волхов. Пострадал, кажется, один пролет. Сейчас мост, насколько я
знаю, уже восстановлен и движение поездов продолжается. В городе да и в
армии о происшедшем на Волхове почти никто не знает.
Вообще болтовни, слухов в городе нет, население давным-давно попросту
не интересуется слухами и сплетнями. Все привыкли к любым военным
происшествиям, все уверены в главном: в победе. Мысль о том, что вдруг да
взяли бы Ленинград немцы, не возникает ни у кого, она представилась бы
каждому такой нелепицей, что вызвала бы только ироническую усмешку. Штурм?
Да, штурм возможен. Начала его допустимо ожидать -- даже следует ожидать --
в любой день. Но результат будет плачевный для гитлеровцев! Так мыслят все.
А многие вообще не верят в то, что после сталинградского опыта немцы могут
решиться на штурм Ленинграда...
-- А вот наши летчики, -- сказал мне вчера Тихонов, -- разбили Нарвский
мост, и немцам теперь приходится возить все в Лужскую губу морем, а мы их
долбаем на море, им туго приходится.
Николай Тихонов, как всегда, оживлен, говорлив, охоч до длинных
рассказов. Его все любят, с ним все почтительны и приветливы, и он, конечно,
все это действительно заслужил своими работоспособностью и энергией. Честь
ему и хвала!
Я уже упоминал, что недавно в Ленинград приезжал корреспондент
агентства "Юнайтед пресс" -- первый американский корреспондент за все время
войны. Фамилия его Шапиро. Правда, он никакой не американец: в 1926 году он
окончил Московский университет, и, не ведомо никому из нас как, позже
оказался в Америке. Но факт -- вещь неоспоримая: он прилетел в Ленинград как
американский корреспондент -- агентства, обслуживающего две тысячи
американских газет. Прилетел на "Дугласе", с двумя сопровождающими его
нашими офицерами. Про-
был здесь три дня, улетел. Н. Тихонов и другие возили его по городу,
показывали разрушения, средства ПВО и многое еще, что интересовало его.
Американскому корреспонденту везло. В день посещения им, например,
Кировского района туда не лег ни один снаряд. А накануне туда же легло
шестьдесят... Такая же тишина была и в контрбатарейном полку Витте. Накануне
этот полк подвергался яростному обстрелу несколькими батареями так, что даже
все огороды были искрошены.
Тихонов говорит, у Шапиро создалось впечатление, что город разрушен
наполовину. Сразу это нам кажется неправдоподобным. Но если подумать и
присмотреться, то ведь и действительно, неповрежденных домов, у которых даже
стекла уцелели, в Ленинграде осталось совсем немного! Просто мы привыкли и
не замечаем многого. Да и мало ли таких разрушений и повреждений, какие не
так уж бросаются в глаза!.. Конечно, если судить по цифровым показателям
(кои, естественно, станут гласностью только после войны), город разрушен
весьма основательно.
Внешне жизнь города мало чем отличается от жизни прошлого лета. Еще
больше огородов -- даже, например, на груде мусора, образовавшейся на улице
Герцена у разрушенного (а ныне закрытого фальшивой фанерной стеною) дома,
разведен огород! Кстати, на той фанерной стене разрисовывавшие ее художники
вывели, как обычно выводится дата окончания постройки дома, цифру: "1942".
Да, печально выглядит городское "строительство" 1942 года! Фанерная стена,
прикрывающая зияющий провал!
Торгуют магазины, особенно книжные. Прохожие невозмутимы, неторопливы.
Попадаются -- правда, очень редко -- хорошо одетые женщины. Но, конечно, не
меньше половины всех проходящих по улицам -- военные.
Медали "За оборону Ленинграда" далеко не у всех. Я бы на глазок сказал,
что не больше десяти процентов прохожих имеют эти, на зеленой ленточке,
медали. Это в общем немного. После войны, особенно в других городах, люди с
медалью "За оборону Ленинграда" будут попадаться редко, хотя нам,
сегодняшним ленинградцам, и кажется, что медаль эта -- массовая. А через
несколько лет в Ленинграде ее редко можно будет увидеть в толпе прохожих.
Тогда опять будут толпы прохожих. В наше время, идя по одной стороне улицы,
всех людей, идущих по другой стороне, от одного до другого квартала, можно
легко и безошибочно пересчитать -- всегда окажется не больше двух-трех
десятков. Причем, на таких улицах, как Невский, Литейный... Вот, оторвавшись
на миг от моей записи, специально для проверки этого утверждения, выглянул в
окно. На всем протяжении канала Грибоедова (по противоположной его стороне)
от Невского до собора "На крови" насчитал пятнадцать прохожих. А по этой
стороне -- двух. Да на пешеходном мостике -- одного. А ведь сейчас середина
дня!..
Овощей в городе пока еще нет. Голодновато. Мне, например, той еды, что
получаю я в столовой ДКА, явно не хватает, даже по количеству, не говоря уже
о калорийности. Ужин и завтрак я теперь приношу домой и съедаю его зараз.
Вчерашние ужин и завтрак вместе едва наполнили небольшой горкой гороховой
каши чайное блюдечко. Хлеба получаю теперь достаточно -- 700 граммов (летняя
норма).
Особенно не хватает сахару, -- в месяц полагается мне 750 граммов, но
дают его по талонам мелкими порциями, каждую в плотной бумажке, получается
не больше полукилограмма в месяц. Ничего другого сладкого и понюхать не
приходится. В столовой ДКА нам, питающимся, дают еды явно меньше нормы. Все
это замечают, но както стесняются учинить скандал.
Городское население в массе своей также питается плохо -- кроме тех,
кто пользуется карточкой первой категории и дополнительной карточкой (то
есть практически двумя нормами первой категории, -- сахару, скажем, 1900
граммов, иногда частично заменяемого шоколадом). Но у гражданского населения
есть возможность прикупать или "приобменивать" продукты на рынке. Нам,
офицерам, и некогда и нельзя ходить на рынок. Я вот даже представления о
рынке не имею. Вчера терапевт, осматривавший меня в гарнизонной поликлинике,
искавший причину непроходящих болей, сказал, что у меня совсем нет жирового
покрова, что я очень худ и несомненно истощен. Это так. Врач рекомендовал
мне найти способы улучшения моего питания. Я усмехнулся.
Много курю. Досаждает постоянный бронхит...
Сейчас -- четверть третьего. С полчаса назад обстрел города
прекратился...
Всегда не хватает времени! За июнь месяц я написал и послал в ТАСС
четыре крупных очерка, одну информационную корреспонденцию, два рассказа.
Передал весь этот материал и в Радиокомитет. Окончательно подготовил и вчера
сдал (выверив гранки) в Гослитиздат книгу рассказов и очерков в десять
печатных листов... А кроме того, потратил несколько трудных дней на
приведение в порядок отцовской квартиры, на перевозку оттуда на своем,
восстановленном мною велосипеде нужных мне вещей, на налаживание квартирного
быта... А велосипед мой, приобретенный в 1921 году, валявшийся в разобранном
виде, теперь очень помогает мне -- экономит время и силы.
Ленинград, Марсово поле. 1943 г.
Размышляю о ленинградских писателях. Как бы мы лично ни относились один
к другому, всех нас связывает общая судьба -- ленинградцев, она развивает и
укрепляет в нас дух товарищества и взаимопомощи. Все мы живем, не зная
своего завтрашнего дня и даже ближайшего чaca. Все привыкли к этому и
считаем это для себя нормальным бытом. Почти все мы оторваны от родных и
близких и, конечно, тоскуем о семьях. И нас, писателей, здесь так мало.
Работа наша -- нужна, нервы у всех укреплены волей, каждый тихий день
воспринимается нами как подарок, а "шумные" дни давно уже никого из нac, как
и вообще никого из ленинградцев, не будоражат. Мы связали себя с
Ленинградом, своей любовью к нему, и будем с ним до конца, до победы, что ни
пришлось бы нам пережить на пути к ней.
... Вот со двора кричат, велят замаскировать окна. И одно за другим они
затемняются, и я тоже опустил синюю бумагу на все четыре окна квартиры...
24 июня. День. Летний сад
Тихо. Только где-то за облаками гудит самолет. Да издалека доносятся
отдельные залпы орудий. После ожесточенного обстрела города, который длился
все утро, сейчас опять спокойствие.
Зеленая травка с газонов Летнего сада переплеснулась на большую аллею,
лишь посередине аллеи -- серый, гладкий песок. Так мирно в Летнем саду,
запущенном, но тем более не городском в эти дни, что душа отдыхает. Я заехал
сюда на велосипеде и сижу на скамейке в одиночестве, на жарком, бьющем
сквозь листву солнце. Я не был здесь ни разу за два года войны. Только на
днях Летний сад открыли для посетителей. Но в нем и нет почти никого, --
несколько женщин на скамеечках, одинокие, читают книги. Их мужья, наверное,
на фронте, или у них уже нет мужей? Вдоль Фонтанки полоса сада отгорожена
колючею проволокой, там, за проволокой, вижу краснофлотцев. Один обедает за
трехногим столиком, другие загорают, лежа на траве. Стоит палатка.
Весь сад -- в аккуратно разделанных грядках, зелень овощей уже
проросла, свежа. Белый круглый павильон
забит только что скошенным ароматным сеном. Домик Петра закрыт,
заколочен.
В пруду купается детвора. Вдоль Марсова поля, наполняя сад шумом,
изредка проходят трамваи, беспрестанно мчатся грузовики.
А на Неве -- сквозь решетку ограды видны военные корабли -- в сетях,
замаскированные, ощеренные в небо зенитками. В саду зениток нет, только
заросшие травой щели укрытия, везде, среди огородных грядок... Здесь, в
саду, отдохновенно и хорошо.
Час назад был я на телеграфе, отправил материал в ТАСС, телеграмму в
Ярославль, моим, и другую -- в Ташкент, А. Ахматовой: "От всей души
поздравляю с награждением Вас медалью "За оборону Ленинграда"...
Мой час
26 июня. Квартира на канале Грибоедова, 9
Удивительные дела происходят на свете! Я сижу за моим старым знакомцем
-- круглым столом, покрытым белоснежною скатертью, под яркой электрической
лампочкой, в желтой комнате "надстройки" -- комнате столь идеально чистой,
будто она прибрана руками любящей женщины. Тикает зеленый будильник, в
данную минуту он показывает без двенадцати час. Я пью крепкий чай из той,
памятной мне, с розовыми цветочками, чашки. Я только что поднял синий бокал
вина за самого близкого мне человека, за здоровье отца, сказав свой тост
вслух. Передо мною бутылка вина "Акстафи", Азсовхозтреста, только что
открытая. Я откусываю кусочек белой галеты, взяв ее не с какого-нибудь
газетного, лежащего на столе клочка, а из большой, памятной мне пиалы.
Сижу за столом, обнажен до пояса, и мне тепло, привольно, нет
необходимости быть в полной форме, при пистолете, как сидел вечерами до сих
пор в ДКА. Курю "Беломорканал" и только что вволю наелся пшеничной каши,
которую сварил сам на электрической плитке, поставив ее на мой старинный
бамбуковый столик, -- и часть несъеденной каши даже осталась на утро.
Желтую, чисто вымытую стену украшает сюзане. А в соседней комнате, на тахте,
приготовлена постель -- белейшие простыни, пуховая подушка...
Я так отвык от этого, так это необычно, что в душе моей праздник.
Отдыхать приходится редко, и праздничных дней у меня совсем не бывает, а
так, чтоб на душе был праздник, -- этого давно уже я не ощущал. А сейчас --
ощущаю. У меня есть дом (два года у меня его не было!), и сейчас я дома, сам
с собою, один, но, кажется, я почти осязаю незримое присутствие близкого мне
человека! За окнами, на которые опущены синие маскировочные бумажные
занавеси, -- канал, ночь, белая ночь -- и тишина, абсолютная тишина, какая у
нас тоже бывает редко.
Конечно, если разобраться глубже -- есть многое, что "не то"... Тишина
-- обманчива, и в любую минуту может нарушиться. Квартира эта -- не та, а
другая, еще не обжитая мною, предоставленная мне взамен моей, разбитой
тяжелым снарядом. Только сегодня, провозившись, протрудившись до крайней
усталости, до таких болей в боку, что и сейчас встать из-за стола трудно, я
обрел это новое жилье, перетащив сюда всю уцелевшую простреленную осколками
мебель и пока все самые необходимые вещи... В третьей комнате -- склад
чужих, запечатанных комиссией вещей. Водопровод ни в ванной, ни в кухне не
действует. А главное, самое главное: я один, как все эти два года -- один,
мне так надоело быть одному!
Мне чудится голос: "Конечно, ты мечтатель и фантазер! Конечно, это
только какой-то необычный час в твоей жизни, в котором войны будто и нет!"
Но этот час -- "мой", я так хочу быть убежденным сию минуту, что в этой
комнате я не один, что не я сам, своими руками (вместе с работавшей за
продукты питания старой дворничихой) добился сегодня чистоты, опрятности,
порядка в доме... Конечно, открыть бутылку вина я могу не каждый день, может
быть, только раз в несколько месяцев, а сварить кашу -- только из того,
привезенного мною из Ярославля килограмма концентратов. Но вот пью в данную
минуту белое вино и опять поднимаю тост за отца!
Иногда бывает все равно: иллюзия или действительность! Хорошо, что
даром воображения я могу доводить мои иллюзии до степени реальности! Нужен
лишь добрый, хороший, убедительный повод. Такой повод сегодня -- первый за
полтора года вечер в моей квартире!
Я знаю, -- завтра этого ощущения, того, как я воспринимаю сейчас этот
мой первый вечер в новой квартире, не станет. Наша обычная, фронтовая,
суровая, не оставляющая ни минуты на отдых и на мирное состояние духа жизнь
вновь возьмет свои права. Повернется магический ключик, которым, как в
детской сказке, жизнь вдруг претворяется в волшебство, -- повернется,
щелкнет и вернет меня в будни.
Пусть!.. Наши солдатские будни -- суровы, но мы вправе ими гордиться:
они наши, неповторимые, ленинградские!..
Обстановка в городе
2 июля. Канал Грибоедова
Звук возникает, набухает, лопается -- короткий раскат. Все это -- не
больше секунды. За ним -- другой, третий. Таковы звуки обстрела города,
который идет сейчас. Промежутки между звуками -- полминуты, минута...
Последнее время несколько дней подряд была полная тишина, и вдруг день --
безмятежно тихий -- был нарушен десятком таких частых разрывов, будто
посыпался горох. И опять стало тихо -- до ночи. Два снаряда угодили в уже
разрушенный авиабомбой дом на углу Невского и канала Грибоедова. Такие же
короткие воровские налеты были сделаны и на другие районы города. Два
снаряда попали в здание Фондовой биржи. Николай Тихонов сказал мне, что два
других разорвались рядом с его домом...
Мне передали рассказ одного из пленных гитлеровцев --
голландца-перебежчика. На позиции тяжелой дальнобойной артиллерии, где
немецкие офицеры томились от безделья и скуки, приехала погостить любовница
командира полка. Пообедала, крепко выпила... Чем развлечь сию особу так,
чтоб пощекотало нервы?.. "Хотите обстрелять Ленинград?" Везет ее к
дальнобойному орудию, заряжают, суют сей даме в руки шнур. Хмурясь,
полупьяная, она тянет его -- раз, другой, третий, пока рука не устала.
Снаряды летят в Ленинград. Разрываются. Убивают детей и женщин. После этого
похотливая любовница уезжает со своим рыцарем на его тыловую квартиру.
5 П. Лукницкий
Бывает и проще: опасаясь быть засеченным, какой-нибудь бронепоезд,
выехав на позицию, поспешно, бегло швыряет десяток снарядов -- и сразу же,
полным ходом, назад.
... А вот сейчас бьют солидно, уже с полчаса.
Окно мое, выходящее на канал, раскрыто настежь. За каналом --
четырехэтажный дом, крашенный желтой краской. Окна во всех его этажах зияют,
другие забиты фанерой, только в некоторых стекла уцелели. Они с начала войны
перекрещены полосками бумаги, -- теперь никому и в голову не пришло бы
наклеивать на стекла полоски бумаги, разве они помогут? За разбитыми окнами
из темноты комнат выступает мебель. Вот стул, у самого подоконника. Он
недвижим давно. Квартиры брошены. Обитаема только одна -- во втором этаже:
четыре окна застеклены недавно, в одном, за распахнутой форточкой, видна
чистая подушка. А под воротами во дворе сидят двое, читают вместе большую
книгу... Над крышей дома -- серое небо, тучи. Несколько дней уже тучи, и
холодно, и совсем не похоже на лето. Многие ходят в плащах, иные командиры
-- в шинелях. Жаркие июньские дни миновали.
... И все же, если не считать редких обстрелов, -- в городе тишина.
Тишина и на фронте, повсюду. Некий мирный период войны, конечно, -- период
напряженной подготовки с обеих сторон к неминуемым схваткам. Почти
сравнявшееся с германским техническое оснащение Красной Армии, ее явное
усиление и моральное превосходство не могут не пугать Гитлера. Немецкий
генералитет, кажется, начинает постепенно "оттирать" его от командования,
ему не так уж просто бросить свои армии одним своим словом в новые авантюры,
коих после Сталинграда и Африки все, кто может в Германии мыслить разумно,
боятся. Вот и приходится Гитлеру теперь рассчитывать каждый свой шаг, думать
о коммуникациях, о стягивании крупных резервов, о недовольстве населения
Германии. Думать о неожиданностях, какие непрестанно усиливающаяся наша
армия может преподнести ему. И если наше умное, уже очень опытное
командование тоже тратит драгоценное время на подготовку, то тратит его,
конечно, не зря...
Вот и тишина -- пока! Нет затишья только в небесах -- авиация и наша и
немецкая действуют. Немцы стараются бомбить все пути подвоза к Ленинграду,
особенно станции и мосты единственной железной дороги и пристани на
Ладожском озере. Заодно тщатся, как запасную цель, бомбить Ленинград. Но это
удается редко и только их отдельным прорвавшимся самолетам.
А над путями сообщения воздушные бои каждый день. Недавно, после
двухлетних -- с начала войны -- напрасных усилий, немцам удалось разрушить
мост через Волхов. Пострадал, кажется, один пролет. Сейчас мост, насколько я
знаю, уже восстановлен и движение поездов продолжается. В городе да и в
армии о происшедшем на Волхове почти никто не знает.
Вообще болтовни, слухов в городе нет, население давным-давно попросту
не интересуется слухами и сплетнями. Все привыкли к любым военным
происшествиям, все уверены в главном: в победе. Мысль о том, что вдруг да
взяли бы Ленинград немцы, не возникает ни у кого, она представилась бы
каждому такой нелепицей, что вызвала бы только ироническую усмешку. Штурм?
Да, штурм возможен. Начала его допустимо ожидать -- даже следует ожидать --
в любой день. Но результат будет плачевный для гитлеровцев! Так мыслят все.
А многие вообще не верят в то, что после сталинградского опыта немцы могут
решиться на штурм Ленинграда...
-- А вот наши летчики, -- сказал мне вчера Тихонов, -- разбили Нарвский
мост, и немцам теперь приходится возить все в Лужскую губу морем, а мы их
долбаем на море, им туго приходится.
Николай Тихонов, как всегда, оживлен, говорлив, охоч до длинных
рассказов. Его все любят, с ним все почтительны и приветливы, и он, конечно,
все это действительно заслужил своими работоспособностью и энергией. Честь
ему и хвала!
Я уже упоминал, что недавно в Ленинград приезжал корреспондент
агентства "Юнайтед пресс" -- первый американский корреспондент за все время
войны. Фамилия его Шапиро. Правда, он никакой не американец: в 1926 году он
окончил Московский университет, и, не ведомо никому из нас как, позже
оказался в Америке. Но факт -- вещь неоспоримая: он прилетел в Ленинград как
американский корреспондент -- агентства, обслуживающего две тысячи
американских газет. Прилетел на "Дугласе", с двумя сопровождающими его
нашими офицерами. Про-
был здесь три дня, улетел. Н. Тихонов и другие возили его по городу,
показывали разрушения, средства ПВО и многое еще, что интересовало его.
Американскому корреспонденту везло. В день посещения им, например,
Кировского района туда не лег ни один снаряд. А накануне туда же легло
шестьдесят... Такая же тишина была и в контрбатарейном полку Витте. Накануне
этот полк подвергался яростному обстрелу несколькими батареями так, что даже
все огороды были искрошены.
Тихонов говорит, у Шапиро создалось впечатление, что город разрушен
наполовину. Сразу это нам кажется неправдоподобным. Но если подумать и
присмотреться, то ведь и действительно, неповрежденных домов, у которых даже
стекла уцелели, в Ленинграде осталось совсем немного! Просто мы привыкли и
не замечаем многого. Да и мало ли таких разрушений и повреждений, какие не
так уж бросаются в глаза!.. Конечно, если судить по цифровым показателям
(кои, естественно, станут гласностью только после войны), город разрушен
весьма основательно.
Внешне жизнь города мало чем отличается от жизни прошлого лета. Еще
больше огородов -- даже, например, на груде мусора, образовавшейся на улице
Герцена у разрушенного (а ныне закрытого фальшивой фанерной стеною) дома,
разведен огород! Кстати, на той фанерной стене разрисовывавшие ее художники
вывели, как обычно выводится дата окончания постройки дома, цифру: "1942".
Да, печально выглядит городское "строительство" 1942 года! Фанерная стена,
прикрывающая зияющий провал!
Торгуют магазины, особенно книжные. Прохожие невозмутимы, неторопливы.
Попадаются -- правда, очень редко -- хорошо одетые женщины. Но, конечно, не
меньше половины всех проходящих по улицам -- военные.
Медали "За оборону Ленинграда" далеко не у всех. Я бы на глазок сказал,
что не больше десяти процентов прохожих имеют эти, на зеленой ленточке,
медали. Это в общем немного. После войны, особенно в других городах, люди с
медалью "За оборону Ленинграда" будут попадаться редко, хотя нам,
сегодняшним ленинградцам, и кажется, что медаль эта -- массовая. А через
несколько лет в Ленинграде ее редко можно будет увидеть в толпе прохожих.
Тогда опять будут толпы прохожих. В наше время, идя по одной стороне улицы,
всех людей, идущих по другой стороне, от одного до другого квартала, можно
легко и безошибочно пересчитать -- всегда окажется не больше двух-трех
десятков. Причем, на таких улицах, как Невский, Литейный... Вот, оторвавшись
на миг от моей записи, специально для проверки этого утверждения, выглянул в
окно. На всем протяжении канала Грибоедова (по противоположной его стороне)
от Невского до собора "На крови" насчитал пятнадцать прохожих. А по этой
стороне -- двух. Да на пешеходном мостике -- одного. А ведь сейчас середина
дня!..
Овощей в городе пока еще нет. Голодновато. Мне, например, той еды, что
получаю я в столовой ДКА, явно не хватает, даже по количеству, не говоря уже
о калорийности. Ужин и завтрак я теперь приношу домой и съедаю его зараз.
Вчерашние ужин и завтрак вместе едва наполнили небольшой горкой гороховой
каши чайное блюдечко. Хлеба получаю теперь достаточно -- 700 граммов (летняя
норма).
Особенно не хватает сахару, -- в месяц полагается мне 750 граммов, но
дают его по талонам мелкими порциями, каждую в плотной бумажке, получается
не больше полукилограмма в месяц. Ничего другого сладкого и понюхать не
приходится. В столовой ДКА нам, питающимся, дают еды явно меньше нормы. Все
это замечают, но както стесняются учинить скандал.
Городское население в массе своей также питается плохо -- кроме тех,
кто пользуется карточкой первой категории и дополнительной карточкой (то
есть практически двумя нормами первой категории, -- сахару, скажем, 1900
граммов, иногда частично заменяемого шоколадом). Но у гражданского населения
есть возможность прикупать или "приобменивать" продукты на рынке. Нам,
офицерам, и некогда и нельзя ходить на рынок. Я вот даже представления о
рынке не имею. Вчера терапевт, осматривавший меня в гарнизонной поликлинике,
искавший причину непроходящих болей, сказал, что у меня совсем нет жирового
покрова, что я очень худ и несомненно истощен. Это так. Врач рекомендовал
мне найти способы улучшения моего питания. Я усмехнулся.
Много курю. Досаждает постоянный бронхит...
Сейчас -- четверть третьего. С полчаса назад обстрел города
прекратился...
Всегда не хватает времени! За июнь месяц я написал и послал в ТАСС
четыре крупных очерка, одну информационную корреспонденцию, два рассказа.
Передал весь этот материал и в Радиокомитет. Окончательно подготовил и вчера
сдал (выверив гранки) в Гослитиздат книгу рассказов и очерков в десять
печатных листов... А кроме того, потратил несколько трудных дней на
приведение в порядок отцовской квартиры, на перевозку оттуда на своем,
восстановленном мною велосипеде нужных мне вещей, на налаживание квартирного
быта... А велосипед мой, приобретенный в 1921 году, валявшийся в разобранном
виде, теперь очень помогает мне -- экономит время и силы.
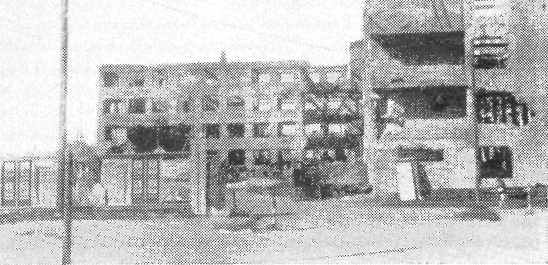 На окраине Ленинграда, у Невы. 1944 г.
Старухе назначена пенсия -- двести пятьдесят рублей, но сейчас не
получает ее потому, что служит. Зарплата -- сто двадцать пять рублей, зато
карточка первой категории, а не третьей. На этой работе -- с 15 июня
прошлого года. А зимой? Нужно дрова запасать, говорят: "Лови, которые
плывут", а как их ловить, когда нечем, даже багра нет!.. Зимой тоже охраняла
пристань, в затоне; нужно было лед окалывать на метр вокруг, чтоб ее льдом
не сдавило. Ну, этой работы тоже делать я не могла, хлеб отдавала другим,
чтоб делали. Стояла печурка, но дров не хватало, холодно было".
Сейчас по двое суток живет в городе, у себя дома, а двое суток здесь --
посменно. "Сегодня должны сменщицу привезти, а меня взять".
-- Муж умер раньше, чем погиб сын. Хорошо еще: удалось похоронить в
гробах -- сыну в Доме Красной Армии сделали, сама его и везла, в яме
похоронила. Одна тянула, никого провожатых, конечно, в ту пору не было, сами
люди еле ходили... Я пошла в Дом Красной
Армии, к жене Пешкова, Вале, а та с горячими бутылками возится,
говорит: "Пришел один художник, упал, надо его отогреть бутылками"... Что
только пережили, что этот хитрец, негодяй, немец сделал!.. Ужас!.. Ужас!..
Дождь, дождь, -- тихую Неву трогают сотни тысяч медленных капель.
Гляжу вниз по течению. Слева на взгорке -- трехэтажное кирпичное здание
школы, где в 1941 году был штаб 55-й армии, где часть его и сейчас. И другие
дома и домишки Рыбацкого, и укрытые зеленой сетью автомобили-фургоны, и
несколько "эмочек" у разных деревянных домов, и полоса густых зеленых
деревьев вдоль шоссе и вокруг домиков селения.
На правом берегу Невы ряд таких же домиков в зелени. Несколько
фабричных, давно уже не дымящих труб да отдельное высокое кубическое здание,
извергающее днем и ночью черный дым, -- если не ошибаюсь, одна из ГЭС. По
Неве движения никакого. Редко-редко промашет веслами какой-нибудь
красноармеец в ветхой лодчонке, пришел снизу буксир, ошвартовался чуть ниже
пристани, где сгруппировались деревянные полулодки -- понтоны. Из них можно
составить мост...
Дождь то затихает, то снова рябит невскую гладь.. Свежо, погода
осенняя, старуха говорит о приметах, о том, что ежели "на Самсона" был
дождь, то уж все шесть недель будет дождь, и две недели уж прошло...
В прифронтовом поезде
6 июля. 12 часов 10 минут
Пароход не пришел. И я поспешил за полтора километра на железнодорожную
станцию: есть поезд 12. 20, он ходит до Ижор и обратно... И сейчас сижу в
этом дачном поезде. В нем вагонов десять, паровоз -- без тендера, с баками
для воды по бортам... Пассажиров ждало с полсотни, все больше огородницы,
едут из подсобных хозяйств, с букетами полевых цветов. Немного солдат,
матросов, офицеров.
... Еду -- вблизи бетонные надолбы, обломки немецкого самолета.
Всматриваюсь в даль -- видны Пулковские высоты, на фоне неба тоненько,
словно тушью, вырисованы изреженные, изломанные деревья. Левее, на горизонте
-- синеватая кромка, это парк Пушкина, в нем немцы...
Остановка под мостом железнодорожной насыпи, справа впереди видны
церкви Александро-Невской лавры, слева -- множество окраинных домов,
домишек, сараев, порожних составов на десятках разбегающихся путей. Дождя
нет, тучи поднялись высоко. Санитарный поезд с чистыми занавесочками на
окнах. Санитарка с винтовкой расхаживает, дневаля...
Вот вагоны с выбитыми стеклами, и сгоревшие, и с выломленными
стенами... Проезжаем еще один мост в сетях маскировки, и снова железный лом
вдоль путей: остатки машин, механизмов, листы ржавого кровельного железа. И
опять чисто: депо, и трава, и цветы, -- трава так свежа и чиста, что
украшает все!
... В 1 час дня поезд остановился под сводами вокзала. Это мой первый
приезд по железной дороге к Московскому вокзалу, после того как я в августе
1941 года приехал в Ленинград из Петрозаводска, перед взятием немцами Мги.
Вокзал цел, безлюден, чист, в деревянных вазах на перроне торчат зеленые
елочки. А на путях -- пустота полная, кроме двух теплушечных составов, из
которых женщины выгружают привезенные в Ленинград дрова.
На окраине Ленинграда, у Невы. 1944 г.
Старухе назначена пенсия -- двести пятьдесят рублей, но сейчас не
получает ее потому, что служит. Зарплата -- сто двадцать пять рублей, зато
карточка первой категории, а не третьей. На этой работе -- с 15 июня
прошлого года. А зимой? Нужно дрова запасать, говорят: "Лови, которые
плывут", а как их ловить, когда нечем, даже багра нет!.. Зимой тоже охраняла
пристань, в затоне; нужно было лед окалывать на метр вокруг, чтоб ее льдом
не сдавило. Ну, этой работы тоже делать я не могла, хлеб отдавала другим,
чтоб делали. Стояла печурка, но дров не хватало, холодно было".
Сейчас по двое суток живет в городе, у себя дома, а двое суток здесь --
посменно. "Сегодня должны сменщицу привезти, а меня взять".
-- Муж умер раньше, чем погиб сын. Хорошо еще: удалось похоронить в
гробах -- сыну в Доме Красной Армии сделали, сама его и везла, в яме
похоронила. Одна тянула, никого провожатых, конечно, в ту пору не было, сами
люди еле ходили... Я пошла в Дом Красной
Армии, к жене Пешкова, Вале, а та с горячими бутылками возится,
говорит: "Пришел один художник, упал, надо его отогреть бутылками"... Что
только пережили, что этот хитрец, негодяй, немец сделал!.. Ужас!.. Ужас!..
Дождь, дождь, -- тихую Неву трогают сотни тысяч медленных капель.
Гляжу вниз по течению. Слева на взгорке -- трехэтажное кирпичное здание
школы, где в 1941 году был штаб 55-й армии, где часть его и сейчас. И другие
дома и домишки Рыбацкого, и укрытые зеленой сетью автомобили-фургоны, и
несколько "эмочек" у разных деревянных домов, и полоса густых зеленых
деревьев вдоль шоссе и вокруг домиков селения.
На правом берегу Невы ряд таких же домиков в зелени. Несколько
фабричных, давно уже не дымящих труб да отдельное высокое кубическое здание,
извергающее днем и ночью черный дым, -- если не ошибаюсь, одна из ГЭС. По
Неве движения никакого. Редко-редко промашет веслами какой-нибудь
красноармеец в ветхой лодчонке, пришел снизу буксир, ошвартовался чуть ниже
пристани, где сгруппировались деревянные полулодки -- понтоны. Из них можно
составить мост...
Дождь то затихает, то снова рябит невскую гладь.. Свежо, погода
осенняя, старуха говорит о приметах, о том, что ежели "на Самсона" был
дождь, то уж все шесть недель будет дождь, и две недели уж прошло...
В прифронтовом поезде
6 июля. 12 часов 10 минут
Пароход не пришел. И я поспешил за полтора километра на железнодорожную
станцию: есть поезд 12. 20, он ходит до Ижор и обратно... И сейчас сижу в
этом дачном поезде. В нем вагонов десять, паровоз -- без тендера, с баками
для воды по бортам... Пассажиров ждало с полсотни, все больше огородницы,
едут из подсобных хозяйств, с букетами полевых цветов. Немного солдат,
матросов, офицеров.
... Еду -- вблизи бетонные надолбы, обломки немецкого самолета.
Всматриваюсь в даль -- видны Пулковские высоты, на фоне неба тоненько,
словно тушью, вырисованы изреженные, изломанные деревья. Левее, на горизонте
-- синеватая кромка, это парк Пушкина, в нем немцы...
Остановка под мостом железнодорожной насыпи, справа впереди видны
церкви Александро-Невской лавры, слева -- множество окраинных домов,
домишек, сараев, порожних составов на десятках разбегающихся путей. Дождя
нет, тучи поднялись высоко. Санитарный поезд с чистыми занавесочками на
окнах. Санитарка с винтовкой расхаживает, дневаля...
Вот вагоны с выбитыми стеклами, и сгоревшие, и с выломленными
стенами... Проезжаем еще один мост в сетях маскировки, и снова железный лом
вдоль путей: остатки машин, механизмов, листы ржавого кровельного железа. И
опять чисто: депо, и трава, и цветы, -- трава так свежа и чиста, что
украшает все!
... В 1 час дня поезд остановился под сводами вокзала. Это мой первый
приезд по железной дороге к Московскому вокзалу, после того как я в августе
1941 года приехал в Ленинград из Петрозаводска, перед взятием немцами Мги.
Вокзал цел, безлюден, чист, в деревянных вазах на перроне торчат зеленые
елочки. А на путях -- пустота полная, кроме двух теплушечных составов, из
которых женщины выгружают привезенные в Ленинград дрова.
 Вперед -- на еще одно форсирование Невы! Невская Дубровка
Мудрено ли, что немцы неистовствуют, изуверски обстреливая Ленинград?
Им не понять, что дух ленинградцев не сломить ничем. Да, такие обстрелы
действуют на нервы всем, но это воздействие только призывает нас к
активности, к обострению желания как можно скорее разделаться с немцами,
избавить Ленинград от ужасов и страданий. Такое чувство у каждого
ленинградца. Таково оно и у каждого бойца Красной Армии. Потому так много в
этих боях фактов действительно поразительного героизма. Даже скучные, сухие,
часто беспомощные, порой затушеванные заметки в армейской газете дают
представление об общем духе армии 1943 года...
30 июля. Морозовка
Словом "офицер" командиры нашей армии стали в военном быту называться с
тех пор, как введены были новые звания и погоны. Во вчерашнем номере газеты
"На страже Родины" передовица, перепечатанная из "Правды" (от 28-го):
"Советские офицеры":
"... Отныне наименование офицер закрепляется за командирами Красной
Армии государственным актом... Отныне законом устанавливается офицерский
корпус Красной Армии... "
Вчера собрание в редакции закончилось оглашением приказа Военного
совета по 67-й армии. Много интересного -- результаты уже сделанного:
уничтожено пятнадцать тысяч гитлеровцев, разрушено больше четырехсот дзотов
(половина всех имеющихся у врага в этом районе), взято тринадцать крупных
укрепленных узлов; первая линия вражеской обороны прорвана на
девятикилометровом участке, и мы закрепились здесь; подбито и уничтожено
шестьдесят танков, в том числе несколько "тигров".
В боях разгромлены четыре немецких дивизии. Боевые действия
продолжаются, -- в приказе войскам 67-й армии поставлены новые задачи.
... Ночью -- бой, и среди ночи, часа два, наш сильнейший артиллерийский
огонь.
Сегодня с утра методический обстрел Морозовки немцами, затем воздушный
бой, сильный обстрел моста, наша дымовая завеса над ним, Невой,
Шлиссельбургом, чтобы вражеские корректировщики не видели, где рвутся
снаряды, и наш ответный огонь из района Морозовки и правого берега.
Сейчас в столовой, куда пришел завтракать, все стекла дрожат,
трехэтажное кирпичное здание содрогается. Стреляют, обрушивая непрерывные
каскады гула, и немцы и наши артиллеристы. Мы начали артподготовку. День
солнечный, такой же, как все эти дни.
В столовой встречаю кинооператоров, фотографов и военных
корреспондентов -- журналистов, коих встречаю во всех случаях, когда
командование рассчитывает на успех...
Борьба за Синявинские высоты
6 августа
Так что же все-таки произошло за последние две недели и что происходит
сейчас на Синявинском участке нашего фронта?
Уяснив себе всю обстановку, постараюсь кратко изложить суть последних
событий на этом участке фронта.
Кажется, пятьдесят и одна десятая метра -- совсем не такая уж большая
высота. Но и эта, главная, и другие Синявинские высоты господствуют над всей
безотрадной, унылой местностью. От Невы до их подножий простираются жидкие,
вязкие торфяные болота. На Синявинских высотах и в лесах за ними --
гитлеровцы, а в болотах, на открытой, низменной местности -- мы.
Единственная соединяющая Ленинград со страною железная дорога, что
проложена после прорыва блокады по болоту вдоль приладожских каналов, не
только продолжает действовать, но и до-предела уплотнила график движения
поездов. С апреля применяется новый поточный метод: поезда идут караванами,
один вслед за другим, а чтобы не было наездов одного поезда на другой, с
хвостовых сигналов сняты маскировочные жалюзи -- сигналы ярко светят в ночи.
При каждой непредвиденной задержке кондукторы выбегают из поезда и в
восьмистах метрах от него кладут на рельсы петарды. Все движение поездов
тогда останавливается.
Этот метод движения железнодорожники прозвали "системой езды по чужому
хвосту". Всем движением поездов на опасном участке, в "коридоре смерти",
руководит опытнейший начальник отделения А. Т. Янчук.
С Синявинских высот немцы видят поезда простым глазом и, освещая
железнодорожный путь ракетами, нещадно обстреливают их прямою наводкой.
Героизм железнодорожников не спасает их от значительных жертв.
И все-таки каждую ночь (поезда теперь ходят только в ночное время)
короткий простреливаемый отрезок дороги проходят один за другим тридцать
эшелонов. Нашим командованием создана специальная контрбатарейная
артиллерийская группа для подавления вражеской артиллерии в момент ее
налетов на поезда. Контрбатарейщики спасли немало составов, но избавить
дорогу от опасности можно, только отняв у противника Синявинские высоты.
Вперед -- на еще одно форсирование Невы! Невская Дубровка
Мудрено ли, что немцы неистовствуют, изуверски обстреливая Ленинград?
Им не понять, что дух ленинградцев не сломить ничем. Да, такие обстрелы
действуют на нервы всем, но это воздействие только призывает нас к
активности, к обострению желания как можно скорее разделаться с немцами,
избавить Ленинград от ужасов и страданий. Такое чувство у каждого
ленинградца. Таково оно и у каждого бойца Красной Армии. Потому так много в
этих боях фактов действительно поразительного героизма. Даже скучные, сухие,
часто беспомощные, порой затушеванные заметки в армейской газете дают
представление об общем духе армии 1943 года...
30 июля. Морозовка
Словом "офицер" командиры нашей армии стали в военном быту называться с
тех пор, как введены были новые звания и погоны. Во вчерашнем номере газеты
"На страже Родины" передовица, перепечатанная из "Правды" (от 28-го):
"Советские офицеры":
"... Отныне наименование офицер закрепляется за командирами Красной
Армии государственным актом... Отныне законом устанавливается офицерский
корпус Красной Армии... "
Вчера собрание в редакции закончилось оглашением приказа Военного
совета по 67-й армии. Много интересного -- результаты уже сделанного:
уничтожено пятнадцать тысяч гитлеровцев, разрушено больше четырехсот дзотов
(половина всех имеющихся у врага в этом районе), взято тринадцать крупных
укрепленных узлов; первая линия вражеской обороны прорвана на
девятикилометровом участке, и мы закрепились здесь; подбито и уничтожено
шестьдесят танков, в том числе несколько "тигров".
В боях разгромлены четыре немецких дивизии. Боевые действия
продолжаются, -- в приказе войскам 67-й армии поставлены новые задачи.
... Ночью -- бой, и среди ночи, часа два, наш сильнейший артиллерийский
огонь.
Сегодня с утра методический обстрел Морозовки немцами, затем воздушный
бой, сильный обстрел моста, наша дымовая завеса над ним, Невой,
Шлиссельбургом, чтобы вражеские корректировщики не видели, где рвутся
снаряды, и наш ответный огонь из района Морозовки и правого берега.
Сейчас в столовой, куда пришел завтракать, все стекла дрожат,
трехэтажное кирпичное здание содрогается. Стреляют, обрушивая непрерывные
каскады гула, и немцы и наши артиллеристы. Мы начали артподготовку. День
солнечный, такой же, как все эти дни.
В столовой встречаю кинооператоров, фотографов и военных
корреспондентов -- журналистов, коих встречаю во всех случаях, когда
командование рассчитывает на успех...
Борьба за Синявинские высоты
6 августа
Так что же все-таки произошло за последние две недели и что происходит
сейчас на Синявинском участке нашего фронта?
Уяснив себе всю обстановку, постараюсь кратко изложить суть последних
событий на этом участке фронта.
Кажется, пятьдесят и одна десятая метра -- совсем не такая уж большая
высота. Но и эта, главная, и другие Синявинские высоты господствуют над всей
безотрадной, унылой местностью. От Невы до их подножий простираются жидкие,
вязкие торфяные болота. На Синявинских высотах и в лесах за ними --
гитлеровцы, а в болотах, на открытой, низменной местности -- мы.
Единственная соединяющая Ленинград со страною железная дорога, что
проложена после прорыва блокады по болоту вдоль приладожских каналов, не
только продолжает действовать, но и до-предела уплотнила график движения
поездов. С апреля применяется новый поточный метод: поезда идут караванами,
один вслед за другим, а чтобы не было наездов одного поезда на другой, с
хвостовых сигналов сняты маскировочные жалюзи -- сигналы ярко светят в ночи.
При каждой непредвиденной задержке кондукторы выбегают из поезда и в
восьмистах метрах от него кладут на рельсы петарды. Все движение поездов
тогда останавливается.
Этот метод движения железнодорожники прозвали "системой езды по чужому
хвосту". Всем движением поездов на опасном участке, в "коридоре смерти",
руководит опытнейший начальник отделения А. Т. Янчук.
С Синявинских высот немцы видят поезда простым глазом и, освещая
железнодорожный путь ракетами, нещадно обстреливают их прямою наводкой.
Героизм железнодорожников не спасает их от значительных жертв.
И все-таки каждую ночь (поезда теперь ходят только в ночное время)
короткий простреливаемый отрезок дороги проходят один за другим тридцать
эшелонов. Нашим командованием создана специальная контрбатарейная
артиллерийская группа для подавления вражеской артиллерии в момент ее
налетов на поезда. Контрбатарейщики спасли немало составов, но избавить
дорогу от опасности можно, только отняв у противника Синявинские высоты.
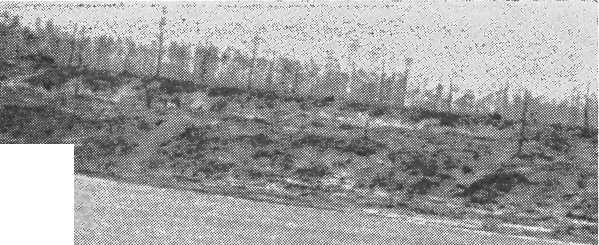
 * Танки нужно переправить на Невский "пятачок", -- для наступления на
Синявино!
А главное: взятие этих высот, за которыми в густых лесах противник
скрытно даже от воздушной разведки накапливает резервы, должно положить
конец их новым попыткам замкнуть кольцо блокады.
События развивались так: войскам 67-й армии был объявлен приказ -- 24
июля начать наступление на Синявинские высоты. Но это число было названо
ложно, для дезинформации разведки противника. В действительности наступление
началось 22 июля, и с этого дня в болотах у подножия высот разыгрались
упорные бои. Враг, надежно укрытый в своих траншеях и укреплениях на склонах
высот, хорошо видит внизу перед собою каждого нашего бойца, каждый пулемет,
каждый танк, вязнущий в проклятом болоте. И все-таки наши полки штурмуют
высоты, не отдавая врагу ни одного метра отвоеванной тяжким ратным трудом и
большою кровью земли.
Из доставляемых по ночам тракторами, лошадьми и на плечах бойцов бревен
и досок нами построены, врыты в болото сотни огневых артиллерийских и
минометных позиций, погребов для боеприпасов, сотни землянок, дзотов. Все
это сделано так умело, так скрытно от немцев, что начала нашего наступления
на Синявино они не предугадали.
22 июля ровно в половине пятого утра вдоль всей полосы предстоявшего в
тот день наступления (в направлении справа -- на Анненское, слева -- на
Синявино) началась наша артиллерийская подготовка. Через два часа пять минут
пехота поднялась и пошла на штурм вражеских укреплений. Артиллерия мгновенно
перенесла огонь в глубину немецкой обороны, авиация сразу очистила воздух от
гитлеровских машин, танки наши двинулись вместе со стрелковыми
подразделениями. Бой с контратакующей, поддерживаемой танками и артиллерией
гитлеровской пехотой сразу же стал крайне ожесточенным. Он длился до ночи и
утром 23 июля, после новой нашей артподготовки возобновился с тем же
ожесточением...
Артиллерии, авиации, танков теперь у нас много, полагаю -- в два, а то
и в три раза больше, чем было год назад. Первый удар и следующие наши удары
оказались столь мощными, наступательный порыв наших воинов был столь высок,
что фашистам вскоре пришлось вводить в бой резервы. Еще до 1 августа на
место перемолотых дивизий гитлеровцы вынуждены были поставить сначала одну
(121-ю), затем еще три пехотных дивизии, а нынче, после 1 августа, они
подтягивают к Синявину все новые и многолюдные подкрепления.
* Танки нужно переправить на Невский "пятачок", -- для наступления на
Синявино!
А главное: взятие этих высот, за которыми в густых лесах противник
скрытно даже от воздушной разведки накапливает резервы, должно положить
конец их новым попыткам замкнуть кольцо блокады.
События развивались так: войскам 67-й армии был объявлен приказ -- 24
июля начать наступление на Синявинские высоты. Но это число было названо
ложно, для дезинформации разведки противника. В действительности наступление
началось 22 июля, и с этого дня в болотах у подножия высот разыгрались
упорные бои. Враг, надежно укрытый в своих траншеях и укреплениях на склонах
высот, хорошо видит внизу перед собою каждого нашего бойца, каждый пулемет,
каждый танк, вязнущий в проклятом болоте. И все-таки наши полки штурмуют
высоты, не отдавая врагу ни одного метра отвоеванной тяжким ратным трудом и
большою кровью земли.
Из доставляемых по ночам тракторами, лошадьми и на плечах бойцов бревен
и досок нами построены, врыты в болото сотни огневых артиллерийских и
минометных позиций, погребов для боеприпасов, сотни землянок, дзотов. Все
это сделано так умело, так скрытно от немцев, что начала нашего наступления
на Синявино они не предугадали.
22 июля ровно в половине пятого утра вдоль всей полосы предстоявшего в
тот день наступления (в направлении справа -- на Анненское, слева -- на
Синявино) началась наша артиллерийская подготовка. Через два часа пять минут
пехота поднялась и пошла на штурм вражеских укреплений. Артиллерия мгновенно
перенесла огонь в глубину немецкой обороны, авиация сразу очистила воздух от
гитлеровских машин, танки наши двинулись вместе со стрелковыми
подразделениями. Бой с контратакующей, поддерживаемой танками и артиллерией
гитлеровской пехотой сразу же стал крайне ожесточенным. Он длился до ночи и
утром 23 июля, после новой нашей артподготовки возобновился с тем же
ожесточением...
Артиллерии, авиации, танков теперь у нас много, полагаю -- в два, а то
и в три раза больше, чем было год назад. Первый удар и следующие наши удары
оказались столь мощными, наступательный порыв наших воинов был столь высок,
что фашистам вскоре пришлось вводить в бой резервы. Еще до 1 августа на
место перемолотых дивизий гитлеровцы вынуждены были поставить сначала одну
(121-ю), затем еще три пехотных дивизии, а нынче, после 1 августа, они
подтягивают к Синявину все новые и многолюдные подкрепления.
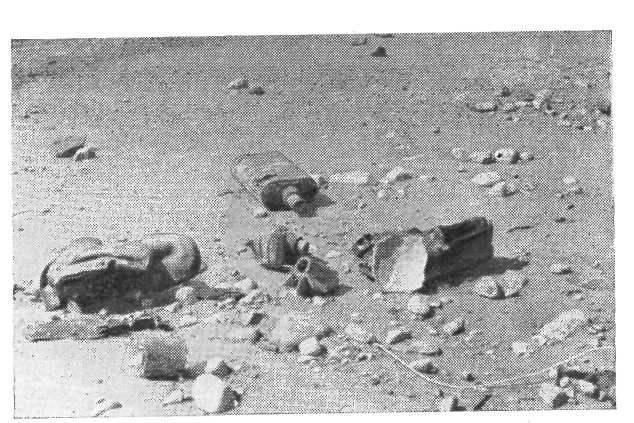 Берег Невы на Невском "пятачке" летом, после освобождения от блокады
Но и нам, после значительных потерь и вынужденной передышки, тоже
понадобилось собраться с силами, подтянуть резервы. 30 июля наши части
сделали новую попытку овладеть Синявинскими высотами. Она снова не удалась,
-- после первых штурмовых ударов дальнейшие круглосуточные бои стали
медленными, упорными и попрежнему кровопролитными. Всякий раз мы
наталкивались на более мощную систему немецких укреплений и на более сильное
сопротивление немцев, чем ожидали, -- хотя их позиции перед боями были
тщательно сфотографированы с воздуха, разведаны всеми возможными
способами...
Да, наши части дерутся самоотверженно; да, нам удалось взять Арбузово и
Анненское; да, удалось прорвать
первую линию обороны и продвинуться вперед. Но Синявино и тем более Мга
у гитлеровцев в руках по-прежнему и сейчас. Территориального успеха мы почти
не добились.
Что такое, например, укрепленный узел Арбузове? Когда-то это было
живописное, красивое село на левом берегу Невы. Оно стало передним краем
обороны врага у нашего Невского "пятачка" -- тем краешком, который много раз
переходил из рук в руки.
После прорыва блокады гитлеровцы, опираясь на превращенную ими в
крепость 8-ю ГЭС, зацепились и в Арбузове, создали здесь такой узел
сопротивления, который считали неприступным. Только что разрушенный, как
выглядит он в наши дни?
От первой, опоясывающей левый берег Невы траншеи со множеством ячеек
для стрельбы из пулеметов и автоматов тянутся отросточки ходов сообщения к
выдвинутым, массивным дзотам, откуда можно бить и вперед и вкось, вдоль
самой траншеи. Многие десятки других ходов сообщения соединяют эту траншею и
дзоты со следующими траншеями, протянувшимися параллельно первой в
полутораста -- двухстах метрах одна от другой. Таких траншей четыре, местами
-- пять, и все они были сильно укреплены, все, на случай если мы в них
ворвемся, простреливались продольно пулеметами. Перед каждой траншеей, между
ходами сообщения были минированные поля, перед каждой -- колючая проволока,
коегде -- спирали Бруно и всяческие "сюрпризы". Блиндажи и землянки были
построены прочно, имели по нескольку накатов из толстых бревен, укреплены
рельсами, бетонными и броневыми плитами.
Разрушить и взять штурмом такой ершистый узел сопротивления, да еще на
совершенно открытой местности, огражденной с одной стороны Невою, было делом
трудным, потребовавшим от наших войск необыкновенного напряжения. И понятно,
почему гитлеровцы считали этот и другие подобные этому узлы сопротивления в
районе синявинских боев неодолимыми.
Надо напомнить, что под склонами Синявинских высот все болото еще до
войны было изрыто торфоразработками. Глубокие, выше, чем в рост человека,
выемкикотлованы, откуда вынимался торф, заполнены грязной, илистой
кашицеобразной гущей, покрытой тиной. Эта гуща, как самая злейшая трясина,
засасывает каждого рискнувшего вступить в нее бойца; попасться в нее --
верная гибель. Передвигаться на десятках квадратных километров такой
непролазной местности можно только по узеньким, часто в метр шириной,
перемычкам. Даже в мирное время это пространство считалось почти
непроходимым, -- заброшенное, полное комаров, забытое, как говорится, богом
и людьми место! А сейчас в нем тысячи и тысячи наших людей, штурмующих
засевшего на высотах, осатаневшего от своих неудач и потерь врага!
Каждый считает, что действительный успех -- это только полное
освобождение Ленинграда от блокады, объединенное в одну полосу наступление
Ленинградского и Волховского фронтов и истребление -- до последнего -- всех
зарывшихся под Ленинградом гитлеровцев!..
И всем ясно, что на тех результатах, какие достигнуты к настоящему
времени, наш фронт безусловно не остановится, что наступательные бои должны
продолжаться и будут разгораться еще сильней!
Но если в теперешних боях снять блокаду и не удастся, то нашим войскам
сейчас следует решить предварительную, важнейшую задачу.
Как это и было сказано в приказе, услышанном мною 29 июля, задача наших
войск -- постепенное, методическое разрушение Синявинского узла артиллерией
и авиацией. Каждый успех немедленно должен быть закреплен действиями пехоты.
Этот приказ поднял упавшее было настроение и поставил все на реальную почву:
метр за метром расширять связи Ленинграда со всей страной и, лишив
гитлеровцев всякой возможности попытаться вновь замкнуть кольцо блокады, все
больше освобождать Ленинград от артиллерийских обстрелов.
А поскольку артиллерии и авиации у нас теперь больше, чем у
гитлеровцев, то и в воздухе наше господство полное, и в артиллерийских боях
враг может противопоставить нам только сравнительно слабый и хуже
организованный огонь. Но выбивать гитлеровцев надо пядь за пядью, их
приходится выколупывать из каждой щели. Любой отвоеванный нами километр
стоит на нашем фронте столько же, сколько стоила бы сотня километров на
другом, скажем -- на Южном фронте.
В таком же положении и Волховский фронт, который
на стыке с Ленинградским ведет одинаковую с нами борьбу. Другие армии
Ленинградского фронта пока "молчат", там идет обычная "тихая" перестрелка,
истребляют фашистов снайперы, идет поиск, работают разведгруппы, но
значительных боев там нет.
Впрочем, наши артиллерия и авиация весьма активны и на всех участках
Ленинградского фронта. Разведанные, тщательно пронумерованные цели вокруг
Ленинграда уничтожаются нами круглосуточно.
Что слышим и видим в эти дни мы, наблюдающие длящиеся с прежним
ожесточением бои под Синявином?.. Непрерывно гудят самолеты, низвергающие
бомбы на поле сражения; по ночам медленно плывут десятки ярких
парашютирующих ракет; вспышки взрывов озаряют небо.
По утрам в Морозовке все повторяется: рвутся поблизости или свистят над
головой снаряды, в небе происходит воздушный бой; вражеская артиллерия
обстреливает мост через Неву, укрытый от воздушных корректировщиков нашей
дымовой завесой. Но этот мост по-прежнему действует, движение по нему
автомобилей ни на минуту не прекращается...
А вот то, что не повторилось и что хочется мне записать.
Утром 30 июля с Кесарем Ваниным я ходил на Неву купаться к
простреленному, лежащему на воде у самого берега железному понтону. На нем
грелись и загорали на солнце несколько женщин в купальных костюмах... На
берегу загорало несколько красноармейцев, из леса доносились пулеметные
очереди, там тренировались в стрельбе какие-то подразделения.
В то ласковое, солнечное утро было странное ощущение полного смешения
войны и мира: благость солнечных лучей, всплески тихой воды, рассекаемой
купальщиками, беспечные голоса, а в какой-нибудь тысяче метров ниже по
течению, у моста, -- фонтаны от разрывов тяжелых снарядов, и -- в дымовой
завесе -- вспышки огня, и, конечно, жертвы и кровь, и высоко над завесой,
появлявшийся и исчезавший, окружаемый разрывами зенитных, назойливо ноющий
мотором и поблескивающий винтом -- фашистский ас-корректировщик...
В половине десятого утра в тот день я увидел в облаках любопытнейшее
явление: световые дуги пересекали
облака при каждом выстреле наших тяжелых орудий; быстро бегущие,
освещаемые солнцем волны, образуемые летящим снарядом, бежали одна за
другой. И такие же -- менее отчетливо наблюдаемые -- встречные волны от
немецких снарядов.
Не знаю, как называется такое явление, -- за всю войну я наблюдал его в
первый раз!
6 августа
... В штабы полков, дивизий, армий, в Военные советы всех фронтов
бушующей Отечественной войны каждый день поступают сухие, краткие
политдонесения о людях, которые, не жалея крови своей, ни самой жизни,
защищая Отечество, совершали то, что сами они считают "выполнением боевой
задачи" и что народ называет подвигом... Бледны и невыразительны слова этих
донесений, и писать-то их в бою некогда, и пишущий бывает не слишком
грамотен или способен к поиску выразительных слов, да и сколько посредников
информации сами не были очевидцами подвига и даже не видели человека, его
совершившего...
Мы, корреспонденты, публикуем в газетах то, что видели своими глазами,
и эти сухие сведения, взятые из политдонесений. Ибо наш долг перед каждым
героем справедливой, величайшей из всех войн -- донести до грядущих
поколений пусть даже только фамилию героя боев, пусть хоть несколько слов,
утверждающих его бессмертие! Пройдут десятилетия и века, -- каждое из
уцелевших к тому времени политдонесений, написанных в наши дни рукою
солдата, в траншее ли, за болотною кочкой, в продымленном блиндаже, в танке
или в кабине простреленного осколками снаряда и пулями самолета, -- будут
храниться в музеях как драгоценность, будут изучаться историками,
писателями, композиторами как святое свидетельство героизма всего народа
нашего, спасшего мир от чумы фашизма...
На Синявинском участке фронта до штурма и взятия Синявина мне больше
побывать не довелось. Поэтому, предваряя события, кратко сообщаю здесь, что
бои за Синявинские высоты продолжались до осени. Было еще несколько
неудачных попыток их штурмовать. Но после
того, как в разведке боем удалось захватить один маленький, удобный для
скрытного наблюдения холм, наши разведчики-артиллеристы разгадали наконец
метод сопротивления врага: немцы на высотах, оставляя пустыми свои передовые
траншеи, скрывались сами за гребнем высот позади. Как только снаряды нашей
артподготовки обрушивались на передовые траншеи и, естественно, перепахивали
их, немцы по ходам сообщения быстро перебегали в них и весь свой прицельный
огонь вели по кинувшейся на штурм нашей пехоте -- в то самое время, когда
наша артиллерия, перенося огонь в глубину вражеской обороны, уже не поражала
там никого. Мы несли большие потери, а враг удерживал высоты. Как только
секрет этой обороны был нами разгадан, мы переменили тактику. И тогда, 15
сентября 1943 года, после нашей умелой и сокрушительной артподготовки
Синявино и высоты, на которых располагался вражеский узел обороны, были
взяты за какие-то короткие двадцать -- тридцать минут. Угрожавший нам выступ
вражеской линии фронта был окончательно ликвидирован. Ленинградский и
Волховский фронты вытянули свой передний край в одну ровную линию, и с тех
пор новые рубежи, удобные для нас и неодолимые для немцев, сохранялись до
дней полного снятия блокады в январе 1944 года, когда разгромленные армии
вражеской группы "Норд" были на всем фронте отброшены из-под Ленинграда[1].
[1] С лета 1943 г. центр важнейших событий Отечественной войны был на
юге, туда были отвлечены все главные силы нашей армии. Возможностей дать
крупные подкрепления Ленинградскому и Волховскому фронтам в этот период не
было. Поэтому, кроме непрерывных ожесточенных боев на Мгинско-Синявинском
выступе немцев, ни Ленинградский, ни Волховский фронты до конца года не вели
нигде значительных боевых операций. Этот год прошел в кропотливейшей работе
по подготовке к решающему сражению за полное освобождение Ленинграда от
блокады. Все внимание ленинградского военного командования, во главе с
талантливым и опытнейшим командующим фронтом Л. А. Говоровым, было обращено
на изучение войсками боевого опыта, на перестройку системы управления,
членения, взаимодействия войск, на выработку тактики крупнейшей
наступательной операции. Все делалось в полной тайне от немцев...
Вот почему, в частности, большинство ленинградских писателей, военных
корреспондентов армейских и флотских, не состоявших в штатах определенных
частей, как правило, находились в городе, а не на передовых позициях, в
ожидании больших событий...
Берег Невы на Невском "пятачке" летом, после освобождения от блокады
Но и нам, после значительных потерь и вынужденной передышки, тоже
понадобилось собраться с силами, подтянуть резервы. 30 июля наши части
сделали новую попытку овладеть Синявинскими высотами. Она снова не удалась,
-- после первых штурмовых ударов дальнейшие круглосуточные бои стали
медленными, упорными и попрежнему кровопролитными. Всякий раз мы
наталкивались на более мощную систему немецких укреплений и на более сильное
сопротивление немцев, чем ожидали, -- хотя их позиции перед боями были
тщательно сфотографированы с воздуха, разведаны всеми возможными
способами...
Да, наши части дерутся самоотверженно; да, нам удалось взять Арбузово и
Анненское; да, удалось прорвать
первую линию обороны и продвинуться вперед. Но Синявино и тем более Мга
у гитлеровцев в руках по-прежнему и сейчас. Территориального успеха мы почти
не добились.
Что такое, например, укрепленный узел Арбузове? Когда-то это было
живописное, красивое село на левом берегу Невы. Оно стало передним краем
обороны врага у нашего Невского "пятачка" -- тем краешком, который много раз
переходил из рук в руки.
После прорыва блокады гитлеровцы, опираясь на превращенную ими в
крепость 8-ю ГЭС, зацепились и в Арбузове, создали здесь такой узел
сопротивления, который считали неприступным. Только что разрушенный, как
выглядит он в наши дни?
От первой, опоясывающей левый берег Невы траншеи со множеством ячеек
для стрельбы из пулеметов и автоматов тянутся отросточки ходов сообщения к
выдвинутым, массивным дзотам, откуда можно бить и вперед и вкось, вдоль
самой траншеи. Многие десятки других ходов сообщения соединяют эту траншею и
дзоты со следующими траншеями, протянувшимися параллельно первой в
полутораста -- двухстах метрах одна от другой. Таких траншей четыре, местами
-- пять, и все они были сильно укреплены, все, на случай если мы в них
ворвемся, простреливались продольно пулеметами. Перед каждой траншеей, между
ходами сообщения были минированные поля, перед каждой -- колючая проволока,
коегде -- спирали Бруно и всяческие "сюрпризы". Блиндажи и землянки были
построены прочно, имели по нескольку накатов из толстых бревен, укреплены
рельсами, бетонными и броневыми плитами.
Разрушить и взять штурмом такой ершистый узел сопротивления, да еще на
совершенно открытой местности, огражденной с одной стороны Невою, было делом
трудным, потребовавшим от наших войск необыкновенного напряжения. И понятно,
почему гитлеровцы считали этот и другие подобные этому узлы сопротивления в
районе синявинских боев неодолимыми.
Надо напомнить, что под склонами Синявинских высот все болото еще до
войны было изрыто торфоразработками. Глубокие, выше, чем в рост человека,
выемкикотлованы, откуда вынимался торф, заполнены грязной, илистой
кашицеобразной гущей, покрытой тиной. Эта гуща, как самая злейшая трясина,
засасывает каждого рискнувшего вступить в нее бойца; попасться в нее --
верная гибель. Передвигаться на десятках квадратных километров такой
непролазной местности можно только по узеньким, часто в метр шириной,
перемычкам. Даже в мирное время это пространство считалось почти
непроходимым, -- заброшенное, полное комаров, забытое, как говорится, богом
и людьми место! А сейчас в нем тысячи и тысячи наших людей, штурмующих
засевшего на высотах, осатаневшего от своих неудач и потерь врага!
Каждый считает, что действительный успех -- это только полное
освобождение Ленинграда от блокады, объединенное в одну полосу наступление
Ленинградского и Волховского фронтов и истребление -- до последнего -- всех
зарывшихся под Ленинградом гитлеровцев!..
И всем ясно, что на тех результатах, какие достигнуты к настоящему
времени, наш фронт безусловно не остановится, что наступательные бои должны
продолжаться и будут разгораться еще сильней!
Но если в теперешних боях снять блокаду и не удастся, то нашим войскам
сейчас следует решить предварительную, важнейшую задачу.
Как это и было сказано в приказе, услышанном мною 29 июля, задача наших
войск -- постепенное, методическое разрушение Синявинского узла артиллерией
и авиацией. Каждый успех немедленно должен быть закреплен действиями пехоты.
Этот приказ поднял упавшее было настроение и поставил все на реальную почву:
метр за метром расширять связи Ленинграда со всей страной и, лишив
гитлеровцев всякой возможности попытаться вновь замкнуть кольцо блокады, все
больше освобождать Ленинград от артиллерийских обстрелов.
А поскольку артиллерии и авиации у нас теперь больше, чем у
гитлеровцев, то и в воздухе наше господство полное, и в артиллерийских боях
враг может противопоставить нам только сравнительно слабый и хуже
организованный огонь. Но выбивать гитлеровцев надо пядь за пядью, их
приходится выколупывать из каждой щели. Любой отвоеванный нами километр
стоит на нашем фронте столько же, сколько стоила бы сотня километров на
другом, скажем -- на Южном фронте.
В таком же положении и Волховский фронт, который
на стыке с Ленинградским ведет одинаковую с нами борьбу. Другие армии
Ленинградского фронта пока "молчат", там идет обычная "тихая" перестрелка,
истребляют фашистов снайперы, идет поиск, работают разведгруппы, но
значительных боев там нет.
Впрочем, наши артиллерия и авиация весьма активны и на всех участках
Ленинградского фронта. Разведанные, тщательно пронумерованные цели вокруг
Ленинграда уничтожаются нами круглосуточно.
Что слышим и видим в эти дни мы, наблюдающие длящиеся с прежним
ожесточением бои под Синявином?.. Непрерывно гудят самолеты, низвергающие
бомбы на поле сражения; по ночам медленно плывут десятки ярких
парашютирующих ракет; вспышки взрывов озаряют небо.
По утрам в Морозовке все повторяется: рвутся поблизости или свистят над
головой снаряды, в небе происходит воздушный бой; вражеская артиллерия
обстреливает мост через Неву, укрытый от воздушных корректировщиков нашей
дымовой завесой. Но этот мост по-прежнему действует, движение по нему
автомобилей ни на минуту не прекращается...
А вот то, что не повторилось и что хочется мне записать.
Утром 30 июля с Кесарем Ваниным я ходил на Неву купаться к
простреленному, лежащему на воде у самого берега железному понтону. На нем
грелись и загорали на солнце несколько женщин в купальных костюмах... На
берегу загорало несколько красноармейцев, из леса доносились пулеметные
очереди, там тренировались в стрельбе какие-то подразделения.
В то ласковое, солнечное утро было странное ощущение полного смешения
войны и мира: благость солнечных лучей, всплески тихой воды, рассекаемой
купальщиками, беспечные голоса, а в какой-нибудь тысяче метров ниже по
течению, у моста, -- фонтаны от разрывов тяжелых снарядов, и -- в дымовой
завесе -- вспышки огня, и, конечно, жертвы и кровь, и высоко над завесой,
появлявшийся и исчезавший, окружаемый разрывами зенитных, назойливо ноющий
мотором и поблескивающий винтом -- фашистский ас-корректировщик...
В половине десятого утра в тот день я увидел в облаках любопытнейшее
явление: световые дуги пересекали
облака при каждом выстреле наших тяжелых орудий; быстро бегущие,
освещаемые солнцем волны, образуемые летящим снарядом, бежали одна за
другой. И такие же -- менее отчетливо наблюдаемые -- встречные волны от
немецких снарядов.
Не знаю, как называется такое явление, -- за всю войну я наблюдал его в
первый раз!
6 августа
... В штабы полков, дивизий, армий, в Военные советы всех фронтов
бушующей Отечественной войны каждый день поступают сухие, краткие
политдонесения о людях, которые, не жалея крови своей, ни самой жизни,
защищая Отечество, совершали то, что сами они считают "выполнением боевой
задачи" и что народ называет подвигом... Бледны и невыразительны слова этих
донесений, и писать-то их в бою некогда, и пишущий бывает не слишком
грамотен или способен к поиску выразительных слов, да и сколько посредников
информации сами не были очевидцами подвига и даже не видели человека, его
совершившего...
Мы, корреспонденты, публикуем в газетах то, что видели своими глазами,
и эти сухие сведения, взятые из политдонесений. Ибо наш долг перед каждым
героем справедливой, величайшей из всех войн -- донести до грядущих
поколений пусть даже только фамилию героя боев, пусть хоть несколько слов,
утверждающих его бессмертие! Пройдут десятилетия и века, -- каждое из
уцелевших к тому времени политдонесений, написанных в наши дни рукою
солдата, в траншее ли, за болотною кочкой, в продымленном блиндаже, в танке
или в кабине простреленного осколками снаряда и пулями самолета, -- будут
храниться в музеях как драгоценность, будут изучаться историками,
писателями, композиторами как святое свидетельство героизма всего народа
нашего, спасшего мир от чумы фашизма...
На Синявинском участке фронта до штурма и взятия Синявина мне больше
побывать не довелось. Поэтому, предваряя события, кратко сообщаю здесь, что
бои за Синявинские высоты продолжались до осени. Было еще несколько
неудачных попыток их штурмовать. Но после
того, как в разведке боем удалось захватить один маленький, удобный для
скрытного наблюдения холм, наши разведчики-артиллеристы разгадали наконец
метод сопротивления врага: немцы на высотах, оставляя пустыми свои передовые
траншеи, скрывались сами за гребнем высот позади. Как только снаряды нашей
артподготовки обрушивались на передовые траншеи и, естественно, перепахивали
их, немцы по ходам сообщения быстро перебегали в них и весь свой прицельный
огонь вели по кинувшейся на штурм нашей пехоте -- в то самое время, когда
наша артиллерия, перенося огонь в глубину вражеской обороны, уже не поражала
там никого. Мы несли большие потери, а враг удерживал высоты. Как только
секрет этой обороны был нами разгадан, мы переменили тактику. И тогда, 15
сентября 1943 года, после нашей умелой и сокрушительной артподготовки
Синявино и высоты, на которых располагался вражеский узел обороны, были
взяты за какие-то короткие двадцать -- тридцать минут. Угрожавший нам выступ
вражеской линии фронта был окончательно ликвидирован. Ленинградский и
Волховский фронты вытянули свой передний край в одну ровную линию, и с тех
пор новые рубежи, удобные для нас и неодолимые для немцев, сохранялись до
дней полного снятия блокады в январе 1944 года, когда разгромленные армии
вражеской группы "Норд" были на всем фронте отброшены из-под Ленинграда[1].
[1] С лета 1943 г. центр важнейших событий Отечественной войны был на
юге, туда были отвлечены все главные силы нашей армии. Возможностей дать
крупные подкрепления Ленинградскому и Волховскому фронтам в этот период не
было. Поэтому, кроме непрерывных ожесточенных боев на Мгинско-Синявинском
выступе немцев, ни Ленинградский, ни Волховский фронты до конца года не вели
нигде значительных боевых операций. Этот год прошел в кропотливейшей работе
по подготовке к решающему сражению за полное освобождение Ленинграда от
блокады. Все внимание ленинградского военного командования, во главе с
талантливым и опытнейшим командующим фронтом Л. А. Говоровым, было обращено
на изучение войсками боевого опыта, на перестройку системы управления,
членения, взаимодействия войск, на выработку тактики крупнейшей
наступательной операции. Все делалось в полной тайне от немцев...
Вот почему, в частности, большинство ленинградских писателей, военных
корреспондентов армейских и флотских, не состоявших в штатах определенных
частей, как правило, находились в городе, а не на передовых позициях, в
ожидании больших событий...
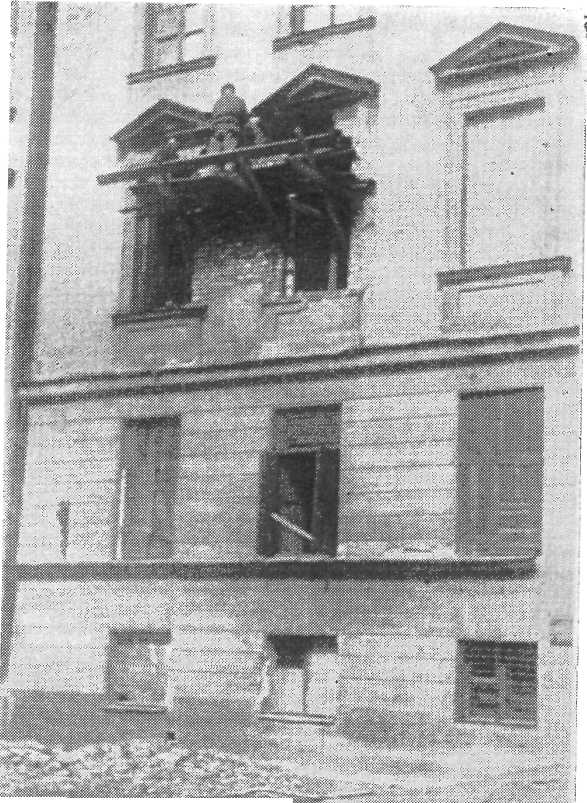 Заделка пробоины в Доме писателей на канале Грибоедова, 9. Осень 1943
г.
Радио то и дело повторяет: "Артиллерийский обстрел продолжается".
Моменты затишья сменяются шквалами разрывов, с улицы доносится плеск
убираемых стекол. Я пишу это, курю, -- вот радио объявляет о прекращении
обстрела. Пойду к Авраменко взглянуть, что с прежней квартирой Лихарева, из
которой он переехал в нынешнюю, ту, где поселился с семьей.
... Еще один снаряд! Попал в набережную канала, прямо против моих окон,
изъязвил осколками весь противоположный дом.
26 сентября. Воскресенье. 11 часов утра
Проснулся в восемь утра от артобстрела, подумал: "Надоело", повернулся
на другой бок и заснул опять, до половины десятого. Встал, с удивлением
увидел, что надо мной в спальне разбита фрамуга. На подоконнике нашел
осколок шрапнели, в кресле посреди комнаты -- другие осколки.
А вчера после предвечерней записи я пошел к Авраменко и вообще
поинтересоваться, что случилось в том крыле нашего дома. У Авраменко стекла
целы, а в коридоре пыль, щепа, обломки досок -- снаряд пробил крышу, попал в
квартиру Добина и -- этажом ниже, в прежнюю квартиру Лихарева, вылетев
оттуда в коридор четвертого этажа, там лег поросенком, не взорвавшись. Ни
Ильи Авраменко, ни Добина дома не было. Лихаревская старая квартира пустует.
Это был второй или третий снаряд первого шквала. В коридоре стояли, выскочив
туда, жена Островского со своей подругой. Снаряд пролетел мимо них, лег от
них в десяти шагах. Ни живы ни мертвы, они выбежали оттуда, обсыпанные
известкой, пылью. Очень скоро явилась бригада ПВО, шестнадцатилетняя девушка
взяла на руки этот блестящий, как никель, 122миллиметровый снаряд, с помятой
головкой, вынесла на руках вниз, внизу его разрядили.
Когда я с Авраменко смотрел на дыру, явилась управхоз Мария
Александровна с электрическим фонарем и с какой-то женщиной из ПВО --
показать последние повреждения, посмотреть, целы ли водопроводные и прочие
трубы. Вышел из своей квартиры Четвериков. Его попросили открыть уже забитую
им гвоздями расщепленную дверь добинской квартиры. Он отколотил топором,
вошли: все в пыли, известке, пробит санузел. В груде мусора в передней лежат
распластанные брюки. Четвериков, первым вбежавший в квартиру после попадания
снаряда, принял было эти брюки за самого засыпанного известью Добина,
испугался тогда. Теперь мы все смеялись по этому поводу, обсуждали все
оживленно, но таким будничным, обыденным тоном, будто речь шла, ну скажем,
об испортившемся кране водопровода.
Я потащил Авраменко к себе в квартиру, и только вошли -- начался новый
шквал обстрела. Мы были в кухне, слушали, с улыбками на лицах и неспокойные
в душе, возбужденные, ждали следующих, считали, снаряды рвались рядом, с
треском ломались крыши, что-то летело, звенели стекла, разлетаясь вдребезги;
скрежетало пробиваемое и срываемое железо, глухо ухали попадания в кирпичные
стены, гулко -- в улицы. Я сказал: "В тот раз был двадцать один снаряд --
считай, наверное, и сейчас будет двадцать один, -- и считал вслух: --
Восемнадцать... девятнадцать... двадцать... " После двадцать первого снаряда
стало тихо. Шквал продолжался всего несколько минут.
В эти несколько минут Илья позвонил от меня по телефону сыну, сказал
ему "выйди", а тот ответил "ничего". После шквала сын сам позвонил ко мне,
сказал отцу "все в порядке", и мы с Ильей рассмеялись. Потом я решил
позвонить жене Лихарева, Брониславе -- она в квартире одна. Напуганная, явно
ошалелая от впечатлений, сказала: у нее так наглухо захлопнулась дверь, что
она не может выйти из квартиры, испортился французский замок. Пошли мы ее
успокаивать, она выбросила два ключа в разбитое окно на улицу. Мы, подобрав
их, попробовали отпереть снаружи. Это нам удалось, мы вошли к ней, ее
маленький сын Эдди тоже перепуган, начал даже заикаться. Я с Ильей смехом,
шутками быстро привели Броню в норму, потом я потащил ее к себе на кухню,
сидели там в разговорах до семи часов. Броня, успокоившись, после того как я
стал ей показывать карту и план города и объяснять, "откуда и что летит" и
где "меньше вероятий попадания", долго рассказывала о ПОГе, -- там
она прожила все лето в деревне Сигедилья, возле Больших Ижор, на берегу
Финского залива, возле редакции армейской газеты. Там тишь и благодать,
войны не чувствуется, никаких обстрелов, бомбежек и в помине нет,
прифронтовая деревня живет с телефонами, радио, электричеством -- всем, что
внесла туда армия. Еды сколько угодно, тоннами ловится рыба, морковь стоит
десять рублей кило, а молоко -- тридцать. Такой дешевки не встретишь теперь
нигде, а там она потому, что некуда вывозить. Сушила, мариновала грибы,
запаслась брусникой, ела творог (не виданный ленинградцами уже два года),
жарила жирных угрей, купалась в море, жила беспечной, сытой, здоровой
жизнью, как все там живут. И вот приехала сюда и попала в обстановочку! А
Бориса к тому же с утра до ночи нет -- выпало ж ему именно в эти дни
назначение быть гидом англо-американского корреспондента!
"Уеду, во что бы то ни стало уеду назад!" -- через пять слов в десятое
повторяла Бронислава, сидя у меня в кухне. Мы посмеивались над ней, а
обстрел продолжался, но шел где-то теперь уже далеко...
В половине восьмого -- когда в штабе открывается столовая -- мы ввели в
темноте Броню в ее квартиру, а сами пошли в штаб. Вечер оказался необычайно
теплым, я с Ильей шел по улицам, и оказалось, что в тупике улицы Софьи
Перовской (наш же дом, но с другой стороны) и все дома окрест тоже без
стекол. Мы шли, хрустя сапогами по осколкам завалившего панели и мостовые
стекла. Вся улица Желябова -- в белом налете известковой пыли, и стекла
выбиты, и видна дыра в третьем этаже дома, а в темноте дальше не видно
других. В общем весь наш квартал и все соседние обстреляны так, что
попаданий было множество -- во дворы, в улицы, в дома...
Прошли дворами сквозь Капеллу на площадь Урицкого, -- чисто, сюда
снаряды не летели.
В штабе нам подали сразу и завтрак, и обед, и ужин. Тут работало радио
(у нас в доме оно не работало, при обстреле перебита магистраль на площади
Искусств). Столовая была полна командиров, звучала музыка, вдруг прервалась.
Думали: прозвучит извещение об обстреле, но радио известило, что в 20 часов
20 минут будет передаваться важное сообщение. Разговоры сразу затихли, общее
внимание... Приказ!.. "Я заказываю Мелитополь
и Рославль, -- шепнул я Авраменко, -- может быть, и Смоленск, но
Смоленск, пожалуй, еще рано, будет через несколько дней!.. "
Торжественно прозвучал приказ о взятии нами Смоленска и Рославля, и,
когда прозвучало слово "Смоленск", все командиры и мы с ними разразились
рукоплесканиями (а ленинградцев не просто вызвать на рукоплескания, и слышу
я их при подобных сообщениях -- первый раз). Весть замечательная, даже
несколько неожиданная, весть важности огромной. Мы оба сразу: "Вот нам и
утешение за сегодняшний день!" Длилось перечисление отличившихся частей;
одних только стрелковых дивизий на Рославль и Смоленск -- шестнадцать,
множество авиационных, артиллерийских и прочих соединений. Силища огромная,
наша силища! И мы радостно возбуждены.
Но, проявившись в первый момент в рукоплесканиях, общая радость уже
больше не проявляется ни в чем -- опять разговоры, и одновременно слушаем, и
когда приказ заканчивается сообщением о салюте из двухсот двадцати четырех
орудий, -- мысль: "Москва теперь знает только салюты, звук артиллерийской
стрельбы для москвичей только радость, а мы... "
Никто в стране не представляет себе толком, ясно, как живем мы, что
испытываем, что переживаем. Вот уже и Смоленск вышел из полосы бедствий и
ужасов, а Ленинград все в том же положении. Когда же? Когда же? Никто не
сомневается: теперь уже скоро, очень скоро!.. Слышу разговоры: "Скоро
начнется наступление на Двинск, на Лугу, немцы сами побегут от стен
Ленинграда, это будет зимой, может быть и раньше". И к этой мысли у каждого
горький додаток: "А доживу ли до этого дня я?" Всем хочется дожить, сейчас
особенно остро хочется! В дни этих побед никому не дано быть уверенным в
своей безопасности хотя бы за минуту вперед...
Я выхожу с Ильей Авраменко из штаба. При выходе, у часового встречаем
Бориса Бродянского и оживленно, даже весело обсуждаем день. Бродянский был
за городом, и у него никаких впечатлений. Говорим о корреспонденте Верте,
сопровождаемом Лихаревым: они ездят сегодня по городу, но где-то по тем
районам, которые не подвергались обстрелу. А вот полезно было бы сему
иностранному корреспонденту, просто никуда не ездя, провести день так, как
провел его каждый из нас, живущих в "надстройке" писателей, в любой из
квартир этой "надстройки"! Было бы больше впечатлений!
Идем в непроглядной тьме. Навстречу -- девушкидружинницы с
электрофонариком. Заливаются непринужденным смехом, о чем-то смешном
рассказывая. Вот и этот смех полезно было б услышать Верту!.. [1]
Кстати, он, кажется, вовсе не англичанин, он родился в Ленинграде, на
Моховой, 29 (просил Лихарева показать ему этот дом), он отлично говорит
по-русски, зовут его Александр Александрович Верт. По словам Лихарева, он
умен и дипломатичен; хотя, видимо, расположен к нам, задает и каверзные
вопросы.
Мы приходим в "надстройку", заходим к Броне, ей звонит Лихарев уже
третий или четвертый раз, беспокоясь. Он с иностранцем в данный момент в
театре, освободится только в первом часу ночи. Я успокаиваю его: хоть стекла
и выбиты, но окно завешено шторами, тепло. И он шуточками утешает Броню, и
мы ей тоже говорим, что просто она отвыкла, что поживет здесь, привыкнет
снова, как привычны к обстрелам мы. Но уж очень у нее сегодня сильные
впечатления! Она с мальчиком вышла из трамвая на площади Искусств, и, как
раз в ту минуту, когда подходила к пешеходному мостику, снаряд в сотне
метров от нее попал в дом. Она кинулась в ворота дома напротив, туда же
хлынули все прохожие, сдавились там, а с улицы неслись крики. Мимо потащили
окровавленных людей, женщин, детей, какого-то мужчину с оторванной ногой.
Она все это видела и, естественно, перепугалась так, что весь день потом не
могла опомниться.
... Сегодня мне рассказывали подробности боев за Синявино,
закончившихся 15 сентября взятием высоты. Взял ее батальон, который перед
тем тренировался на искусственной, построенной в тылу, точь-в-точь такой же
высоте... На днях командир, контуженный там за несколько дней до взятия
высоты, рассказывал мне, как один из наших полков, шедших в наступление по
грудь в торфяной жиже, оказался отрезанным немцами. Отчаянно сражаясь, не в
силах долее сопротивляться,
[1] После войны А. Верт выпустил большую книгу "Россия в войне
1941--1945". Она недавно переведена на русский язык.
полк вызвал огонь нашей артиллерии на себя и под ее огнем, вместе с
немцами, с которыми дрался врукопашную, погиб почти весь...
Случаев вызова огня на себя в критические моменты боя я вообще знаю
немало. Так после взятия в февральских боях Красного Бора геройски поступил,
например, начальник штаба батальона 270-го полка 63-й гвардейской дивизии Н.
П. Симоняка возле деревни Чернышево, когда блиндаж штаба был окружен
фашистскими танками. В согласии со своими боевыми товарищами начштаба
капитан К. Гаврушко вызвал огонь нашего артполка на себя, заботясь больше не
о своей жизни, а о полковом знамени, находившемся в блиндаже. Корректировал
этот огонь помначштаба капитан Завьялов. Фашисты были уничтожены и рассеяны,
а штаб в своем блиндаже уцелел.
Так в боях за Ивановское осенью 1942 года на захваченном плацдарме
вызвали огонь на себя окруженные фашистами в подвале разрушенного кирпичного
здания четыре радиста -- Спринцон, Люкайтис, Тютев, Бубнов. Они трое суток
корректировали наш артиллерийский огонь, пока этот участок плацдарма не был
очищен от врага нашим подоспевшим подразделением.
Подобные случаи героизма стали у нас на фронте столь же обычными, как и
самопожертвование воинов, закрывавших своими телами амбразуры вражеских
дзотов и дотов, чтобы избавить от пулеметного огня своих атакующих
товарищей. Все эти герои сознательно шли на смерть...
Я пришел в свою квартиру в одиннадцать вечера и затянул в темноте
открытые окна шторами, занялся медицинскими процедурами и лег в постель --
читал Мопассана.
... Вот уже далеко за полночь. Вчера день был солнечным, сегодня --
пасмурным. Сейчас -- тихо. Не работает по-прежнему радио. Нет воды --
перебит, очевидно, водопровод. С улицы доносится мужская хоровая песня. Идут
красноармейцы.
Странно читать Мопассана -- в такие, как наши, дни!
... Смоленск!.. Полтава!.. И мы уже вплотную вышли к Днепру, и мы уже
вплотную под Киевом... Что будет дальше? Думаю я, на линии Днепра мы
задержимся, чтоб привести в порядок гигантские армии, уставшие от
трехмесячного наступления, подготовить их к Новой зимней кампании...
Так говорит логика. А в душе все же надежда: вдруг да удастся прорвать
днепровскую линию теперь же, не задерживаясь, -- взять Киев?.. И тогда крах
Германии наступит еще быстрей, тогда все у них хлынет в панике к старым
нашим границам... Трудно гадать сейчас. Привычка не обольщаться иллюзиями,
привычка рассчитывать на логику, а не на случай подсказывает, что война
продлится еще год, и надо внутренне себя к этому подготовить, но мечтается
(а надо ль сдерживать мечту?!): вдруг да крах Германии наступит теперь же,
мгновенно, в ближайшие же месяцы, еще до конца этого года!.. Если б союзники
всерьез открыли теперь второй фронт -- это ускорило бы события. Но союзники
медлят и промедлят, надо думать, до будущего года. И правильней всего
рассуждать так: дойдя до Днепра вплотную, встретив тут сильное сопротивление
всех откатившихся к Днепру и здесь сорганизовавшихся для обороны немецких
сил, мы простоим на линии Днепра до зимы, зимой начнем новую волну
наступления, форсировав Днепр, выгоним немцев за старые наши границы, и
только тогда выступят широким западным фронтом союзники, беспокоясь, как бы
мы без них не вошли в Германию. И будет это весной -- летом будущего года!..
28 сентября. Полдень
Опять с утра непрерывный обстрел, сплошной, интенсивный. Сначала гул
разрывов катился южнее моего района, звуки были достаточно отдаленными.
Затем накатывался все ближе, и вот уж с полчаса он поблизости. Бьет и
далеко. Это уже не шквалы и не методический обстрел. Это сплошной поток
снарядов по очень большой площади города одновременно. Заговорившее радио
объявило обстрел района с полчаса назад, до этого чего-то выжидало.
Наползает скука: "опять!"
Вчера, 27-го, выспавшись и развеявшись, я ходил в Союз писателей, шел
через Марсово поле по желтым осенним листьям, обстрела не было; даже
короткое общение с природой подняло настроение, действовало успокаивающе.
Сегодня проснулся с желанием работать, быть деятельным, но вот --
опять!.. Ну что хорошего дома, на моем четвертом этаже, в одиночестве, в
доме, дрожащем от грохота разрывов, непрерывном, пока я это пишу?.. Окна
раскрыты настежь, сыро, холодно. Вчера не удосужился забить рамы фанерой,
только сегодня, зайдя в жакт, получил записку на один лист фанеры...
Сегодня на чердаке обнаружена вторая дыра, не замеченная до сих пор.
Против моих окон попало пять снарядов -- в дома, в мостовую набережной, в
канал. Еще десятка четыре снарядов разорвались поблизости -- в Шведском
переулке, в домах на улице Софьи Перовской, в Русском музее, в Михайловском
саду...
И вот сегодня сыплет опять, беспрерывно, пока пишу это, слышу грохот,
гул, треск... Пока пишу одну строчку на этом листе, слышу три-четыре
разрыва.
... Треск. Грохнуло совсем близко!..
Тьфу, черт! Погасло электричество! Зажег керосиновую лампу...
Понятно: со взятием Смоленска и с ухудшением дел у немцев в северной
половине фронта они еще больше будут изуверствовать в Ленинграде. Да и за
падение Синявина они мстят. Кому? Ленинградским детям и женщинам!..
Думаю, сейчас, обстреливая столь интенсивно город, они рассчитывают и
на то, что наша авиация (в частности, авиация дальнего действия) стянута под
Смоленск и Витебск, а потому можно зверствовать более безнаказанно.
Мне, пожалуй, понятен смысл обстрела 25 сентября моего квартала: в этот
день был взят Смоленск, немцы, очевидно, хотели уничтожить ту радиостанцию,
которая могла возвестить об этой нашей победе, они, конечно, знают, эта
радиостанция расположена "где-то неподалеку"...
Не следует обольщаться: мы предвидим, что агонизирующий проклятый враг
постарается подвергнуть Ленинград тяжелейшим новым испытаниям!
Вчера весь день доносилась канонада -- энергично работала наша
артиллерия. Сегодня она, конечно, работает тоже, но заставить замолчать
немцев -- не так-то легко и просто...
Грохот длится и длится, сижу прозябший, стал очень зябким вообще...
30 сентября. Полночь
Лихаревы ушли в гости, а ребенка подкинули мне, "на полтора часа". Нет
их уже около трех часов, а семилетний мальчонка заснул за столом, натянув на
голову шубку и положив голову на стол. Трогать его не решаюсь -- раз уж
спит, пусть спит!..
Вчера Борис расстался наконец с корреспондентом Вертом. Тот улетел в
Москву.
Позавчера вечером я заходил к Прокофьеву, сидел у него часа два, слушал
живописное описание всего, что было накануне на "банкете", устроенном в
Союзе писателей для Верта.
Час ночи. Лихарев подвыпивший пришел, унес к себе спящего ребенка. Я
проводил, опасаясь, как бы Борис не уронил мальчика.
... Завтра буду забивать фанерой разбитые оконные стекла.
Наши печали
30 сентября
Сегодня настроение у меня, греха таить нечего, -- отвратное.
Объясняется оно состоянием моего здоровья... Болезнь развивается так, что
мне явно придется ложиться в госпиталь. Это все следствие авитаминоза, плюс
дурного обмена веществ, плюс нервного истощения... Экзема!
2 октября
Вчера мне сделали аутогемматерапию, сиречь переливание моей собственной
крови. И это замечательное средство сразу же сказалось: уже сегодня я
чувствую себя значительно лучше. Вероятно, процедуру повторят еще раз.
Настроение у меня улучшилось...
3 октября
Я вышел из дома -- в переулок. Шел серый, холодный дождь. Окна
больницы, занимающей противоположную сторону переулка, глянули на меня
листами фанеры. Проходя булыжной мостовой мимо подъезда больницы,
подумал, что шагаю по тем камням, которые за два года блокады были
множество раз забрызганы кровью раненных на ближайших улицах мужчин, детей,
женщин, коих вносили сюда на руках, на носилках и как придется. А перед тем,
в голодную зиму, десятки трупов валялись на этих камнях, ибо принесенных
сюда дворниками и милицией, подобранных на улицах умирающих больница
вместить не могла, и они долгими часами лежали вот тут, среди снежных
сугробов, у подъезда больницы. Я прошел переулок и свернул на бульвар, на
который выходит крыло моего пятиэтажного дома. Когда-то это был цветущий,
чистенький бульвар, с аккуратной аллеей посреди улицы, обрамленный двумя
рядами тщательно подстригаемых высоких деревьев. Под ними стояли скамейки с
высокими спинками, и здесь на скамейках влюбленные сидели потому, что этот
маленький бульвар был уединенным и как бы удаленным от городского движения,
хотя и приходился в самом центре города. Мне нужно было пройти двести шагов
до конца бульвара и свернуть в Шведский переулок, чтоб выйти сначала на
людную в прежнее время улицу, а затем, пересеча ее, -- дворами -- на лучшую
площадь города, которая каждым сантиметром своим связана со всей историей
Петербурга, Петрограда и Ленинграда. Весь путь до Штаба занимает у меня
десять минут...
Но если я задумывался об этом пути и приглядывался, как нынче, к
окружающему, то это был бесконечный путь. Двести шагов по бульвару! Справа и
слева -- громады этажей с высаженными недавним обстрелом стеклами. Зияющая
пробоина в одном из них. Я хорошо знаю ту девушку, в чью квартиру попал этот
снаряд. Поистине немилосердна судьба к этой уже постаревшей девушке. Я
вспоминаю, какой знал ее двадцать лет назад. Я говорю о Наташе Бутовой...
Она в этом доме живет и сейчас, только в другой квартире, этажом ниже --
там, где одну из комнат своей квартиры ей уступил престарелый зубной врач. В
молодости Наташа была миловидной, писала и начинала печатать стихи, мечтала
стать поэтом. Скромность, застенчивость, щепетильная добропорядочность и
загубили судьбу Наташи. Если она и вошла в среду писателей и поэтов, то
только как канцелярская служащая Литфонда -- организации, обслуживающей Союз
писателей. Она честно служила всю жизнь, никем
не замечаемая, ничего ни от кого не получившая, содержа на маленькое
жалованье старую тетку и не зная в жизни никаких удовольствий, кроме чтения
чужих стихов, ибо не разучилась любить поэзию.
Два года блокады Наташа перенесла с удивительной стойкостью духа, с
поразительной физической выносливостью, но никто не заметил и этого. К ней
привыкли, как к необходимому, но незаметному работнику, к ней обращались по
своим нуждам все те, кому требовалась медицинская помощь, ибо она стала
организатором обеспечения писателей этой помощью... Как и чем жила она сама,
никто не интересовался, а Наташа никому ни на что не жаловалась, ни у кого
ничего не просила и выполняла свою работу, вопреки любым обстоятельствам так
же, как выполняла ее в мирное время. В прошлом году, торопясь на службу,
Наташа опрокинула в своей маленькой комнате горящую керосинку. Пламя
мгновенно охватило всю комнату. Ей надо было бы бежать из комнаты, кричать,
звать на помощь, но, не привыкшая ни к чьей помощи, она и тут с внезапно
проявившимся мужеством начала тушить пожар собственными руками. Она забивала
пламя руками, ногами, задыхалась в дыму, глушила его своими одеялами,
коврами, одеждой, подушками. Она погасила огонь и сама дошла до больницы, и
без стона, без слов, ибо уже ничего не могла сказать, подняла перед
больничными служащими свои черные, обгорелые руки; таким же черным и
обгорелым было ее лицо. Ее лечили четыре месяца, и за это время ни разу она
не заплакала, ни разу не застонала, ни разу на свои страдания не
пожаловалась. Она вышла из больницы здоровой, но изуродованной: ноги, руки и
лицо ее остались в страшных шрамах. Она пришла в свою комнату и узнала, что
обокрадена дочиста. И она снова стала ходить на работу и снова содержать
свою выжившую уже из ума и безнадежно больную тетку.
Когда ленинградцев награждали медалями "За оборону Ленинграда", Наташу
обошли и медалью, хотя она бесспорно заслужила ее своим беззаветным,
бескорыстным трудом в период блокады.
Пробоина в ее квартире зияет как символ ее разбитой жизни. Я смотрю
перед собой. Из ряда рослых деревьев аллеи остались лишь несколько
разрозненных, уцелевших случайно. Они -- в пышной, желтеющей листвe сейчас,
они все еще украшают бульвар. Но там, где стояли их собратья, сейчас --
квадратные ямы, ибо если той, голодной зимой у граждан хватало сил только
спилить дерево на дрова, но не оставалось их, чтобы выкорчевывать пни, то в
этом году пни были вырыты на топливо тоже, и теперь на месте пней зияют
черные квадратные ямы... Они завалены обломками кирпичей, а справа и слева,
закрыв булыжник мостовых, тянется длинная, непонятно как образовавшаяся
свалка из битых кирпичей, мусора, стекла, обломков железа, щебня.
Справа по этой длинной свалке вьется вытоптанная тропинка, то
спускаясь, то поднимаясь, слева -- тянется огород, уже распотрошенный в эти
октябрьские дня. Он обведен имитацией изгороди и забора, сделанной из
сломанных железных кроватей, из ржавых листов, кровельного железа,
изрешеченных осколками снарядов -- мелкими (конечно, зенитных) и крупными --
от разрывавшихся в квартале немецких снарядов. Эти листы железа, ржавые,
извитые, но поставленные в ряд и скрепленные проволокой, издырявлены так,
что не закрывают от взора прохожего ни фута оберегаемого ими пространства.
И среди этих железных листов я всегда видел поставленный, как одно из
звеньев забора, дюралюминиевый кусок самолета -- изящно выгнутый, но
оборванный элерон. Он упал сюда, конечно, с неба, другие части сбитого
самолета разлетелись по всем окрестным кварталам. Но сегодня этого куска уже
нет, его утащили дети, играющие всегда на этом бульваре. Вчера они таскали
этот кусок за собой, выдумав сложный воздушный бой; позавчера в одной из ям,
оставшихся после пня, они строили дот, вбивая в черную, мокрую землю обрывки
водопроводных труб, накрывая их булыжником, кастрюлями, пробитыми осколками
снарядов и валяющимся тут же волосяным матрацем...
Впрочем, влюбленные гуляют по этому бульвару и ныне, и даже -- в другой
его стороне -- любуются свежевысаженными тонюсенькими деревцами, кои
управление городского благоустройства распорядилось посадить в ямы,
оставшиеся от пней: в той стороне бульвар уже очищен от мусора и стекла, и
песчаная его аллея усердно подметается дворниками.
Двести шагов пройдены, я гляжу на ворота, направо, куда три дня назад
врезался немецкий снаряд, -- он убил
многих людей и ранил еще больше. А сейчас какие-то женщины разбирают на
изуродованной снарядом панели груду вываленной сюда, очевидно с грузовика,
капусты. В Шведском переулочке стекло уже не хрустит под ногами, его смели в
кучи, а в окнах там и здесь видны стучащие молотками люди -- мужчины и
женщины; обстрел задал им здесь работы, сколько фанеры надо!.. Везде вокруг
осколками снарядов изъязвлены стены, плиты тротуаров, мостовые... Каждый
день я хожу этой дорогой обедать, -- как здесь изменилось все!..
Сегодня меня одолевает тоска: что такое со мною, даже и сам не знаю,
оттого ль, что сердце побаливает, от отсутствия ли новых, будоражащих
радостью вестей о победах на фронте? Уже несколько дней ничего не сообщается
ни о Киевском, ни о Мелитопольском, ни о Запорожском, ни о Днепровском
направлениях, и неизвестно: то ли в ближайшие дни нас ждет весть о взятии
Киева, о прорыве днепровской линии обороны немцев, то ли все притихнет на
линии Днепра до зимы...
Но зима впереди. Так ли, иначе ли! И в Ленинграде вряд ли что изменится
до зимы, да, пожалуй, и зиму будет все то же, привычно тяжелое и печальное,
с чем надо мириться, сбирая все силы духа. Все чаще слышится вокруг это "ох,
надоело!", но никто не согласен ослабить волю свою и свой дух, каждому
хочется -- дотянуть! Слабы ли у человека силы, или их много, но каждый
решился терпеть до конца, выпить до конца горькую чашу блокады.
Пью ее, неиссякаемую, и я, но сейчас меня гложет тоска. Слишком хорошо
знаю я, что нездоров, что здоровье мое израсходовано, быть может, уже
невосстановимо. Нынешнее состояние так несвойственно, так чуждо и непонятно,
так враждебно мне, что я им подавлен.
Выхожу на площадь Урицкого -- великолепную Дворцовую площадь, пустую,
уже всегда -- пустынную, на которой только какое-либо воинское подразделение
учится строевому шагу. Прохожу мимо парадной управления милиции, вижу
мимолетную сцену прощания хорошенькой, розоволицей, здоровой девушки с
моряком лейтенантом, веселым, стройным, улыбчивым, проводившим ее до дверей
и жалеющим, что с ней расстается.
Пересекаю площадь, открываю одну из дверей Главного штаба, предъявляю
свой пропуск, поднимаюсь по
витой лестнице в третий этаж. В столовой дневная мгла съедает лица
сидящих за столиками командиров; кинув на вешалку плащ и фуражку,
подсаживаюсь к одному из столов...
Через полчаса я бреду тем же путем обратно -- домой, размышляя, как
завидую тем, кто может, кинувшись на переднем крае обороны к пулемету в
забвении ярости, строчить и строчить по лютым врагам длинными очередями.
За два года войны я излазил все передовые позиции фронта, бывал в
тысяче опасностей, видел смерть рядом не раз, но сам должен был разить врага
только словом -- оружием писателя, военного корреспондента...
Тьма, вечер. Я в своей квартире один. Слишком часто и слишком подолгу я
здесь бываю один! Одному быть негоже -- без чувства локтя нам никому
нельзя!.. Остановились все часы. Включаю радио... Вся Европа, полмира -- в
войне!.. Хорошо хоть, что у меня не каждый день, а только очень редко бывает
такое тяжелое душевное состояние!.. В такие дни нельзя задумываться!..
Будь я, скажем, строевым командиром на фронте, появились бы у меня
задушевные друзья -- именно те, кто сумел остановить немцев в войне, а ныне
гонит и бьет их, приближая нашу победу!
Находясь на передовых позициях, в сражающихся с врагом частях, я,
несмотря ни на какие опасности, бываю не только спокойным, но и ощущаю себя
счастливым. И телом и духом я там здоров, и чем больше трачу энергии, тем
больше ее прибавляется. Сознание своей правоты и нужности Родине усиливает,
если можно так выразиться, обмен физических и духовных сил. Расходуемая
энергия рождает новую -- в квадрате -- энергию!
Надо пренебречь болезнью, волей своей преодолеть ее и ехать, немедленно
ехать на фронт, на передовые позиции. Знаю: там не погибают дети, там и
разрывы снарядов звучат иначе, там они сопровождены треском наших пулеметов;
там и свист вражеских пуль не будоражит сознание, а, как это ни странно
сказать, успокаивает его!.. Люди сражаются на твоих глазах и готовы прикрыть
тебя своим телом, потому что ты -- командир, хоть и незнакомый им, но их
боевой товарищ!
6 октября
А мне все-таки везет в жизни! Только захочешь чегонибудь -- желание
исполняется! Приехал с Волховского фронта редактор армейской газеты Гричук и
сейчас звонил от Прокофьева. У Гричука своя машина, и никакая болезнь не
помешает мне теперь легко и просто добраться с ним до сражающихся в районе
Синявинских высот дивизий!..
Гричука сегодня ведут в театр на "Мачеху", а потом он с Прокофьевым,
Лихаревым и его женой соберутся у меня. Брониславу заставим хозяйничать и
справим у меня их новоселье...
Изучаю, как и все эти дни, труды Ленина, чтобы заполнить те пробелы,
какие есть у меня в знании мысли и дел Ильича.
... Накормил зашедшую ко мне для успокоения нервов (так как был сильный
обстрел) Антонину Голубеву картошкой, напоил чаем. Радио объявило о
прекращении обстрела...
Заделка пробоины в Доме писателей на канале Грибоедова, 9. Осень 1943
г.
Радио то и дело повторяет: "Артиллерийский обстрел продолжается".
Моменты затишья сменяются шквалами разрывов, с улицы доносится плеск
убираемых стекол. Я пишу это, курю, -- вот радио объявляет о прекращении
обстрела. Пойду к Авраменко взглянуть, что с прежней квартирой Лихарева, из
которой он переехал в нынешнюю, ту, где поселился с семьей.
... Еще один снаряд! Попал в набережную канала, прямо против моих окон,
изъязвил осколками весь противоположный дом.
26 сентября. Воскресенье. 11 часов утра
Проснулся в восемь утра от артобстрела, подумал: "Надоело", повернулся
на другой бок и заснул опять, до половины десятого. Встал, с удивлением
увидел, что надо мной в спальне разбита фрамуга. На подоконнике нашел
осколок шрапнели, в кресле посреди комнаты -- другие осколки.
А вчера после предвечерней записи я пошел к Авраменко и вообще
поинтересоваться, что случилось в том крыле нашего дома. У Авраменко стекла
целы, а в коридоре пыль, щепа, обломки досок -- снаряд пробил крышу, попал в
квартиру Добина и -- этажом ниже, в прежнюю квартиру Лихарева, вылетев
оттуда в коридор четвертого этажа, там лег поросенком, не взорвавшись. Ни
Ильи Авраменко, ни Добина дома не было. Лихаревская старая квартира пустует.
Это был второй или третий снаряд первого шквала. В коридоре стояли, выскочив
туда, жена Островского со своей подругой. Снаряд пролетел мимо них, лег от
них в десяти шагах. Ни живы ни мертвы, они выбежали оттуда, обсыпанные
известкой, пылью. Очень скоро явилась бригада ПВО, шестнадцатилетняя девушка
взяла на руки этот блестящий, как никель, 122миллиметровый снаряд, с помятой
головкой, вынесла на руках вниз, внизу его разрядили.
Когда я с Авраменко смотрел на дыру, явилась управхоз Мария
Александровна с электрическим фонарем и с какой-то женщиной из ПВО --
показать последние повреждения, посмотреть, целы ли водопроводные и прочие
трубы. Вышел из своей квартиры Четвериков. Его попросили открыть уже забитую
им гвоздями расщепленную дверь добинской квартиры. Он отколотил топором,
вошли: все в пыли, известке, пробит санузел. В груде мусора в передней лежат
распластанные брюки. Четвериков, первым вбежавший в квартиру после попадания
снаряда, принял было эти брюки за самого засыпанного известью Добина,
испугался тогда. Теперь мы все смеялись по этому поводу, обсуждали все
оживленно, но таким будничным, обыденным тоном, будто речь шла, ну скажем,
об испортившемся кране водопровода.
Я потащил Авраменко к себе в квартиру, и только вошли -- начался новый
шквал обстрела. Мы были в кухне, слушали, с улыбками на лицах и неспокойные
в душе, возбужденные, ждали следующих, считали, снаряды рвались рядом, с
треском ломались крыши, что-то летело, звенели стекла, разлетаясь вдребезги;
скрежетало пробиваемое и срываемое железо, глухо ухали попадания в кирпичные
стены, гулко -- в улицы. Я сказал: "В тот раз был двадцать один снаряд --
считай, наверное, и сейчас будет двадцать один, -- и считал вслух: --
Восемнадцать... девятнадцать... двадцать... " После двадцать первого снаряда
стало тихо. Шквал продолжался всего несколько минут.
В эти несколько минут Илья позвонил от меня по телефону сыну, сказал
ему "выйди", а тот ответил "ничего". После шквала сын сам позвонил ко мне,
сказал отцу "все в порядке", и мы с Ильей рассмеялись. Потом я решил
позвонить жене Лихарева, Брониславе -- она в квартире одна. Напуганная, явно
ошалелая от впечатлений, сказала: у нее так наглухо захлопнулась дверь, что
она не может выйти из квартиры, испортился французский замок. Пошли мы ее
успокаивать, она выбросила два ключа в разбитое окно на улицу. Мы, подобрав
их, попробовали отпереть снаружи. Это нам удалось, мы вошли к ней, ее
маленький сын Эдди тоже перепуган, начал даже заикаться. Я с Ильей смехом,
шутками быстро привели Броню в норму, потом я потащил ее к себе на кухню,
сидели там в разговорах до семи часов. Броня, успокоившись, после того как я
стал ей показывать карту и план города и объяснять, "откуда и что летит" и
где "меньше вероятий попадания", долго рассказывала о ПОГе, -- там
она прожила все лето в деревне Сигедилья, возле Больших Ижор, на берегу
Финского залива, возле редакции армейской газеты. Там тишь и благодать,
войны не чувствуется, никаких обстрелов, бомбежек и в помине нет,
прифронтовая деревня живет с телефонами, радио, электричеством -- всем, что
внесла туда армия. Еды сколько угодно, тоннами ловится рыба, морковь стоит
десять рублей кило, а молоко -- тридцать. Такой дешевки не встретишь теперь
нигде, а там она потому, что некуда вывозить. Сушила, мариновала грибы,
запаслась брусникой, ела творог (не виданный ленинградцами уже два года),
жарила жирных угрей, купалась в море, жила беспечной, сытой, здоровой
жизнью, как все там живут. И вот приехала сюда и попала в обстановочку! А
Бориса к тому же с утра до ночи нет -- выпало ж ему именно в эти дни
назначение быть гидом англо-американского корреспондента!
"Уеду, во что бы то ни стало уеду назад!" -- через пять слов в десятое
повторяла Бронислава, сидя у меня в кухне. Мы посмеивались над ней, а
обстрел продолжался, но шел где-то теперь уже далеко...
В половине восьмого -- когда в штабе открывается столовая -- мы ввели в
темноте Броню в ее квартиру, а сами пошли в штаб. Вечер оказался необычайно
теплым, я с Ильей шел по улицам, и оказалось, что в тупике улицы Софьи
Перовской (наш же дом, но с другой стороны) и все дома окрест тоже без
стекол. Мы шли, хрустя сапогами по осколкам завалившего панели и мостовые
стекла. Вся улица Желябова -- в белом налете известковой пыли, и стекла
выбиты, и видна дыра в третьем этаже дома, а в темноте дальше не видно
других. В общем весь наш квартал и все соседние обстреляны так, что
попаданий было множество -- во дворы, в улицы, в дома...
Прошли дворами сквозь Капеллу на площадь Урицкого, -- чисто, сюда
снаряды не летели.
В штабе нам подали сразу и завтрак, и обед, и ужин. Тут работало радио
(у нас в доме оно не работало, при обстреле перебита магистраль на площади
Искусств). Столовая была полна командиров, звучала музыка, вдруг прервалась.
Думали: прозвучит извещение об обстреле, но радио известило, что в 20 часов
20 минут будет передаваться важное сообщение. Разговоры сразу затихли, общее
внимание... Приказ!.. "Я заказываю Мелитополь
и Рославль, -- шепнул я Авраменко, -- может быть, и Смоленск, но
Смоленск, пожалуй, еще рано, будет через несколько дней!.. "
Торжественно прозвучал приказ о взятии нами Смоленска и Рославля, и,
когда прозвучало слово "Смоленск", все командиры и мы с ними разразились
рукоплесканиями (а ленинградцев не просто вызвать на рукоплескания, и слышу
я их при подобных сообщениях -- первый раз). Весть замечательная, даже
несколько неожиданная, весть важности огромной. Мы оба сразу: "Вот нам и
утешение за сегодняшний день!" Длилось перечисление отличившихся частей;
одних только стрелковых дивизий на Рославль и Смоленск -- шестнадцать,
множество авиационных, артиллерийских и прочих соединений. Силища огромная,
наша силища! И мы радостно возбуждены.
Но, проявившись в первый момент в рукоплесканиях, общая радость уже
больше не проявляется ни в чем -- опять разговоры, и одновременно слушаем, и
когда приказ заканчивается сообщением о салюте из двухсот двадцати четырех
орудий, -- мысль: "Москва теперь знает только салюты, звук артиллерийской
стрельбы для москвичей только радость, а мы... "
Никто в стране не представляет себе толком, ясно, как живем мы, что
испытываем, что переживаем. Вот уже и Смоленск вышел из полосы бедствий и
ужасов, а Ленинград все в том же положении. Когда же? Когда же? Никто не
сомневается: теперь уже скоро, очень скоро!.. Слышу разговоры: "Скоро
начнется наступление на Двинск, на Лугу, немцы сами побегут от стен
Ленинграда, это будет зимой, может быть и раньше". И к этой мысли у каждого
горький додаток: "А доживу ли до этого дня я?" Всем хочется дожить, сейчас
особенно остро хочется! В дни этих побед никому не дано быть уверенным в
своей безопасности хотя бы за минуту вперед...
Я выхожу с Ильей Авраменко из штаба. При выходе, у часового встречаем
Бориса Бродянского и оживленно, даже весело обсуждаем день. Бродянский был
за городом, и у него никаких впечатлений. Говорим о корреспонденте Верте,
сопровождаемом Лихаревым: они ездят сегодня по городу, но где-то по тем
районам, которые не подвергались обстрелу. А вот полезно было бы сему
иностранному корреспонденту, просто никуда не ездя, провести день так, как
провел его каждый из нас, живущих в "надстройке" писателей, в любой из
квартир этой "надстройки"! Было бы больше впечатлений!
Идем в непроглядной тьме. Навстречу -- девушкидружинницы с
электрофонариком. Заливаются непринужденным смехом, о чем-то смешном
рассказывая. Вот и этот смех полезно было б услышать Верту!.. [1]
Кстати, он, кажется, вовсе не англичанин, он родился в Ленинграде, на
Моховой, 29 (просил Лихарева показать ему этот дом), он отлично говорит
по-русски, зовут его Александр Александрович Верт. По словам Лихарева, он
умен и дипломатичен; хотя, видимо, расположен к нам, задает и каверзные
вопросы.
Мы приходим в "надстройку", заходим к Броне, ей звонит Лихарев уже
третий или четвертый раз, беспокоясь. Он с иностранцем в данный момент в
театре, освободится только в первом часу ночи. Я успокаиваю его: хоть стекла
и выбиты, но окно завешено шторами, тепло. И он шуточками утешает Броню, и
мы ей тоже говорим, что просто она отвыкла, что поживет здесь, привыкнет
снова, как привычны к обстрелам мы. Но уж очень у нее сегодня сильные
впечатления! Она с мальчиком вышла из трамвая на площади Искусств, и, как
раз в ту минуту, когда подходила к пешеходному мостику, снаряд в сотне
метров от нее попал в дом. Она кинулась в ворота дома напротив, туда же
хлынули все прохожие, сдавились там, а с улицы неслись крики. Мимо потащили
окровавленных людей, женщин, детей, какого-то мужчину с оторванной ногой.
Она все это видела и, естественно, перепугалась так, что весь день потом не
могла опомниться.
... Сегодня мне рассказывали подробности боев за Синявино,
закончившихся 15 сентября взятием высоты. Взял ее батальон, который перед
тем тренировался на искусственной, построенной в тылу, точь-в-точь такой же
высоте... На днях командир, контуженный там за несколько дней до взятия
высоты, рассказывал мне, как один из наших полков, шедших в наступление по
грудь в торфяной жиже, оказался отрезанным немцами. Отчаянно сражаясь, не в
силах долее сопротивляться,
[1] После войны А. Верт выпустил большую книгу "Россия в войне
1941--1945". Она недавно переведена на русский язык.
полк вызвал огонь нашей артиллерии на себя и под ее огнем, вместе с
немцами, с которыми дрался врукопашную, погиб почти весь...
Случаев вызова огня на себя в критические моменты боя я вообще знаю
немало. Так после взятия в февральских боях Красного Бора геройски поступил,
например, начальник штаба батальона 270-го полка 63-й гвардейской дивизии Н.
П. Симоняка возле деревни Чернышево, когда блиндаж штаба был окружен
фашистскими танками. В согласии со своими боевыми товарищами начштаба
капитан К. Гаврушко вызвал огонь нашего артполка на себя, заботясь больше не
о своей жизни, а о полковом знамени, находившемся в блиндаже. Корректировал
этот огонь помначштаба капитан Завьялов. Фашисты были уничтожены и рассеяны,
а штаб в своем блиндаже уцелел.
Так в боях за Ивановское осенью 1942 года на захваченном плацдарме
вызвали огонь на себя окруженные фашистами в подвале разрушенного кирпичного
здания четыре радиста -- Спринцон, Люкайтис, Тютев, Бубнов. Они трое суток
корректировали наш артиллерийский огонь, пока этот участок плацдарма не был
очищен от врага нашим подоспевшим подразделением.
Подобные случаи героизма стали у нас на фронте столь же обычными, как и
самопожертвование воинов, закрывавших своими телами амбразуры вражеских
дзотов и дотов, чтобы избавить от пулеметного огня своих атакующих
товарищей. Все эти герои сознательно шли на смерть...
Я пришел в свою квартиру в одиннадцать вечера и затянул в темноте
открытые окна шторами, занялся медицинскими процедурами и лег в постель --
читал Мопассана.
... Вот уже далеко за полночь. Вчера день был солнечным, сегодня --
пасмурным. Сейчас -- тихо. Не работает по-прежнему радио. Нет воды --
перебит, очевидно, водопровод. С улицы доносится мужская хоровая песня. Идут
красноармейцы.
Странно читать Мопассана -- в такие, как наши, дни!
... Смоленск!.. Полтава!.. И мы уже вплотную вышли к Днепру, и мы уже
вплотную под Киевом... Что будет дальше? Думаю я, на линии Днепра мы
задержимся, чтоб привести в порядок гигантские армии, уставшие от
трехмесячного наступления, подготовить их к Новой зимней кампании...
Так говорит логика. А в душе все же надежда: вдруг да удастся прорвать
днепровскую линию теперь же, не задерживаясь, -- взять Киев?.. И тогда крах
Германии наступит еще быстрей, тогда все у них хлынет в панике к старым
нашим границам... Трудно гадать сейчас. Привычка не обольщаться иллюзиями,
привычка рассчитывать на логику, а не на случай подсказывает, что война
продлится еще год, и надо внутренне себя к этому подготовить, но мечтается
(а надо ль сдерживать мечту?!): вдруг да крах Германии наступит теперь же,
мгновенно, в ближайшие же месяцы, еще до конца этого года!.. Если б союзники
всерьез открыли теперь второй фронт -- это ускорило бы события. Но союзники
медлят и промедлят, надо думать, до будущего года. И правильней всего
рассуждать так: дойдя до Днепра вплотную, встретив тут сильное сопротивление
всех откатившихся к Днепру и здесь сорганизовавшихся для обороны немецких
сил, мы простоим на линии Днепра до зимы, зимой начнем новую волну
наступления, форсировав Днепр, выгоним немцев за старые наши границы, и
только тогда выступят широким западным фронтом союзники, беспокоясь, как бы
мы без них не вошли в Германию. И будет это весной -- летом будущего года!..
28 сентября. Полдень
Опять с утра непрерывный обстрел, сплошной, интенсивный. Сначала гул
разрывов катился южнее моего района, звуки были достаточно отдаленными.
Затем накатывался все ближе, и вот уж с полчаса он поблизости. Бьет и
далеко. Это уже не шквалы и не методический обстрел. Это сплошной поток
снарядов по очень большой площади города одновременно. Заговорившее радио
объявило обстрел района с полчаса назад, до этого чего-то выжидало.
Наползает скука: "опять!"
Вчера, 27-го, выспавшись и развеявшись, я ходил в Союз писателей, шел
через Марсово поле по желтым осенним листьям, обстрела не было; даже
короткое общение с природой подняло настроение, действовало успокаивающе.
Сегодня проснулся с желанием работать, быть деятельным, но вот --
опять!.. Ну что хорошего дома, на моем четвертом этаже, в одиночестве, в
доме, дрожащем от грохота разрывов, непрерывном, пока я это пишу?.. Окна
раскрыты настежь, сыро, холодно. Вчера не удосужился забить рамы фанерой,
только сегодня, зайдя в жакт, получил записку на один лист фанеры...
Сегодня на чердаке обнаружена вторая дыра, не замеченная до сих пор.
Против моих окон попало пять снарядов -- в дома, в мостовую набережной, в
канал. Еще десятка четыре снарядов разорвались поблизости -- в Шведском
переулке, в домах на улице Софьи Перовской, в Русском музее, в Михайловском
саду...
И вот сегодня сыплет опять, беспрерывно, пока пишу это, слышу грохот,
гул, треск... Пока пишу одну строчку на этом листе, слышу три-четыре
разрыва.
... Треск. Грохнуло совсем близко!..
Тьфу, черт! Погасло электричество! Зажег керосиновую лампу...
Понятно: со взятием Смоленска и с ухудшением дел у немцев в северной
половине фронта они еще больше будут изуверствовать в Ленинграде. Да и за
падение Синявина они мстят. Кому? Ленинградским детям и женщинам!..
Думаю, сейчас, обстреливая столь интенсивно город, они рассчитывают и
на то, что наша авиация (в частности, авиация дальнего действия) стянута под
Смоленск и Витебск, а потому можно зверствовать более безнаказанно.
Мне, пожалуй, понятен смысл обстрела 25 сентября моего квартала: в этот
день был взят Смоленск, немцы, очевидно, хотели уничтожить ту радиостанцию,
которая могла возвестить об этой нашей победе, они, конечно, знают, эта
радиостанция расположена "где-то неподалеку"...
Не следует обольщаться: мы предвидим, что агонизирующий проклятый враг
постарается подвергнуть Ленинград тяжелейшим новым испытаниям!
Вчера весь день доносилась канонада -- энергично работала наша
артиллерия. Сегодня она, конечно, работает тоже, но заставить замолчать
немцев -- не так-то легко и просто...
Грохот длится и длится, сижу прозябший, стал очень зябким вообще...
30 сентября. Полночь
Лихаревы ушли в гости, а ребенка подкинули мне, "на полтора часа". Нет
их уже около трех часов, а семилетний мальчонка заснул за столом, натянув на
голову шубку и положив голову на стол. Трогать его не решаюсь -- раз уж
спит, пусть спит!..
Вчера Борис расстался наконец с корреспондентом Вертом. Тот улетел в
Москву.
Позавчера вечером я заходил к Прокофьеву, сидел у него часа два, слушал
живописное описание всего, что было накануне на "банкете", устроенном в
Союзе писателей для Верта.
Час ночи. Лихарев подвыпивший пришел, унес к себе спящего ребенка. Я
проводил, опасаясь, как бы Борис не уронил мальчика.
... Завтра буду забивать фанерой разбитые оконные стекла.
Наши печали
30 сентября
Сегодня настроение у меня, греха таить нечего, -- отвратное.
Объясняется оно состоянием моего здоровья... Болезнь развивается так, что
мне явно придется ложиться в госпиталь. Это все следствие авитаминоза, плюс
дурного обмена веществ, плюс нервного истощения... Экзема!
2 октября
Вчера мне сделали аутогемматерапию, сиречь переливание моей собственной
крови. И это замечательное средство сразу же сказалось: уже сегодня я
чувствую себя значительно лучше. Вероятно, процедуру повторят еще раз.
Настроение у меня улучшилось...
3 октября
Я вышел из дома -- в переулок. Шел серый, холодный дождь. Окна
больницы, занимающей противоположную сторону переулка, глянули на меня
листами фанеры. Проходя булыжной мостовой мимо подъезда больницы,
подумал, что шагаю по тем камням, которые за два года блокады были
множество раз забрызганы кровью раненных на ближайших улицах мужчин, детей,
женщин, коих вносили сюда на руках, на носилках и как придется. А перед тем,
в голодную зиму, десятки трупов валялись на этих камнях, ибо принесенных
сюда дворниками и милицией, подобранных на улицах умирающих больница
вместить не могла, и они долгими часами лежали вот тут, среди снежных
сугробов, у подъезда больницы. Я прошел переулок и свернул на бульвар, на
который выходит крыло моего пятиэтажного дома. Когда-то это был цветущий,
чистенький бульвар, с аккуратной аллеей посреди улицы, обрамленный двумя
рядами тщательно подстригаемых высоких деревьев. Под ними стояли скамейки с
высокими спинками, и здесь на скамейках влюбленные сидели потому, что этот
маленький бульвар был уединенным и как бы удаленным от городского движения,
хотя и приходился в самом центре города. Мне нужно было пройти двести шагов
до конца бульвара и свернуть в Шведский переулок, чтоб выйти сначала на
людную в прежнее время улицу, а затем, пересеча ее, -- дворами -- на лучшую
площадь города, которая каждым сантиметром своим связана со всей историей
Петербурга, Петрограда и Ленинграда. Весь путь до Штаба занимает у меня
десять минут...
Но если я задумывался об этом пути и приглядывался, как нынче, к
окружающему, то это был бесконечный путь. Двести шагов по бульвару! Справа и
слева -- громады этажей с высаженными недавним обстрелом стеклами. Зияющая
пробоина в одном из них. Я хорошо знаю ту девушку, в чью квартиру попал этот
снаряд. Поистине немилосердна судьба к этой уже постаревшей девушке. Я
вспоминаю, какой знал ее двадцать лет назад. Я говорю о Наташе Бутовой...
Она в этом доме живет и сейчас, только в другой квартире, этажом ниже --
там, где одну из комнат своей квартиры ей уступил престарелый зубной врач. В
молодости Наташа была миловидной, писала и начинала печатать стихи, мечтала
стать поэтом. Скромность, застенчивость, щепетильная добропорядочность и
загубили судьбу Наташи. Если она и вошла в среду писателей и поэтов, то
только как канцелярская служащая Литфонда -- организации, обслуживающей Союз
писателей. Она честно служила всю жизнь, никем
не замечаемая, ничего ни от кого не получившая, содержа на маленькое
жалованье старую тетку и не зная в жизни никаких удовольствий, кроме чтения
чужих стихов, ибо не разучилась любить поэзию.
Два года блокады Наташа перенесла с удивительной стойкостью духа, с
поразительной физической выносливостью, но никто не заметил и этого. К ней
привыкли, как к необходимому, но незаметному работнику, к ней обращались по
своим нуждам все те, кому требовалась медицинская помощь, ибо она стала
организатором обеспечения писателей этой помощью... Как и чем жила она сама,
никто не интересовался, а Наташа никому ни на что не жаловалась, ни у кого
ничего не просила и выполняла свою работу, вопреки любым обстоятельствам так
же, как выполняла ее в мирное время. В прошлом году, торопясь на службу,
Наташа опрокинула в своей маленькой комнате горящую керосинку. Пламя
мгновенно охватило всю комнату. Ей надо было бы бежать из комнаты, кричать,
звать на помощь, но, не привыкшая ни к чьей помощи, она и тут с внезапно
проявившимся мужеством начала тушить пожар собственными руками. Она забивала
пламя руками, ногами, задыхалась в дыму, глушила его своими одеялами,
коврами, одеждой, подушками. Она погасила огонь и сама дошла до больницы, и
без стона, без слов, ибо уже ничего не могла сказать, подняла перед
больничными служащими свои черные, обгорелые руки; таким же черным и
обгорелым было ее лицо. Ее лечили четыре месяца, и за это время ни разу она
не заплакала, ни разу не застонала, ни разу на свои страдания не
пожаловалась. Она вышла из больницы здоровой, но изуродованной: ноги, руки и
лицо ее остались в страшных шрамах. Она пришла в свою комнату и узнала, что
обокрадена дочиста. И она снова стала ходить на работу и снова содержать
свою выжившую уже из ума и безнадежно больную тетку.
Когда ленинградцев награждали медалями "За оборону Ленинграда", Наташу
обошли и медалью, хотя она бесспорно заслужила ее своим беззаветным,
бескорыстным трудом в период блокады.
Пробоина в ее квартире зияет как символ ее разбитой жизни. Я смотрю
перед собой. Из ряда рослых деревьев аллеи остались лишь несколько
разрозненных, уцелевших случайно. Они -- в пышной, желтеющей листвe сейчас,
они все еще украшают бульвар. Но там, где стояли их собратья, сейчас --
квадратные ямы, ибо если той, голодной зимой у граждан хватало сил только
спилить дерево на дрова, но не оставалось их, чтобы выкорчевывать пни, то в
этом году пни были вырыты на топливо тоже, и теперь на месте пней зияют
черные квадратные ямы... Они завалены обломками кирпичей, а справа и слева,
закрыв булыжник мостовых, тянется длинная, непонятно как образовавшаяся
свалка из битых кирпичей, мусора, стекла, обломков железа, щебня.
Справа по этой длинной свалке вьется вытоптанная тропинка, то
спускаясь, то поднимаясь, слева -- тянется огород, уже распотрошенный в эти
октябрьские дня. Он обведен имитацией изгороди и забора, сделанной из
сломанных железных кроватей, из ржавых листов, кровельного железа,
изрешеченных осколками снарядов -- мелкими (конечно, зенитных) и крупными --
от разрывавшихся в квартале немецких снарядов. Эти листы железа, ржавые,
извитые, но поставленные в ряд и скрепленные проволокой, издырявлены так,
что не закрывают от взора прохожего ни фута оберегаемого ими пространства.
И среди этих железных листов я всегда видел поставленный, как одно из
звеньев забора, дюралюминиевый кусок самолета -- изящно выгнутый, но
оборванный элерон. Он упал сюда, конечно, с неба, другие части сбитого
самолета разлетелись по всем окрестным кварталам. Но сегодня этого куска уже
нет, его утащили дети, играющие всегда на этом бульваре. Вчера они таскали
этот кусок за собой, выдумав сложный воздушный бой; позавчера в одной из ям,
оставшихся после пня, они строили дот, вбивая в черную, мокрую землю обрывки
водопроводных труб, накрывая их булыжником, кастрюлями, пробитыми осколками
снарядов и валяющимся тут же волосяным матрацем...
Впрочем, влюбленные гуляют по этому бульвару и ныне, и даже -- в другой
его стороне -- любуются свежевысаженными тонюсенькими деревцами, кои
управление городского благоустройства распорядилось посадить в ямы,
оставшиеся от пней: в той стороне бульвар уже очищен от мусора и стекла, и
песчаная его аллея усердно подметается дворниками.
Двести шагов пройдены, я гляжу на ворота, направо, куда три дня назад
врезался немецкий снаряд, -- он убил
многих людей и ранил еще больше. А сейчас какие-то женщины разбирают на
изуродованной снарядом панели груду вываленной сюда, очевидно с грузовика,
капусты. В Шведском переулочке стекло уже не хрустит под ногами, его смели в
кучи, а в окнах там и здесь видны стучащие молотками люди -- мужчины и
женщины; обстрел задал им здесь работы, сколько фанеры надо!.. Везде вокруг
осколками снарядов изъязвлены стены, плиты тротуаров, мостовые... Каждый
день я хожу этой дорогой обедать, -- как здесь изменилось все!..
Сегодня меня одолевает тоска: что такое со мною, даже и сам не знаю,
оттого ль, что сердце побаливает, от отсутствия ли новых, будоражащих
радостью вестей о победах на фронте? Уже несколько дней ничего не сообщается
ни о Киевском, ни о Мелитопольском, ни о Запорожском, ни о Днепровском
направлениях, и неизвестно: то ли в ближайшие дни нас ждет весть о взятии
Киева, о прорыве днепровской линии обороны немцев, то ли все притихнет на
линии Днепра до зимы...
Но зима впереди. Так ли, иначе ли! И в Ленинграде вряд ли что изменится
до зимы, да, пожалуй, и зиму будет все то же, привычно тяжелое и печальное,
с чем надо мириться, сбирая все силы духа. Все чаще слышится вокруг это "ох,
надоело!", но никто не согласен ослабить волю свою и свой дух, каждому
хочется -- дотянуть! Слабы ли у человека силы, или их много, но каждый
решился терпеть до конца, выпить до конца горькую чашу блокады.
Пью ее, неиссякаемую, и я, но сейчас меня гложет тоска. Слишком хорошо
знаю я, что нездоров, что здоровье мое израсходовано, быть может, уже
невосстановимо. Нынешнее состояние так несвойственно, так чуждо и непонятно,
так враждебно мне, что я им подавлен.
Выхожу на площадь Урицкого -- великолепную Дворцовую площадь, пустую,
уже всегда -- пустынную, на которой только какое-либо воинское подразделение
учится строевому шагу. Прохожу мимо парадной управления милиции, вижу
мимолетную сцену прощания хорошенькой, розоволицей, здоровой девушки с
моряком лейтенантом, веселым, стройным, улыбчивым, проводившим ее до дверей
и жалеющим, что с ней расстается.
Пересекаю площадь, открываю одну из дверей Главного штаба, предъявляю
свой пропуск, поднимаюсь по
витой лестнице в третий этаж. В столовой дневная мгла съедает лица
сидящих за столиками командиров; кинув на вешалку плащ и фуражку,
подсаживаюсь к одному из столов...
Через полчаса я бреду тем же путем обратно -- домой, размышляя, как
завидую тем, кто может, кинувшись на переднем крае обороны к пулемету в
забвении ярости, строчить и строчить по лютым врагам длинными очередями.
За два года войны я излазил все передовые позиции фронта, бывал в
тысяче опасностей, видел смерть рядом не раз, но сам должен был разить врага
только словом -- оружием писателя, военного корреспондента...
Тьма, вечер. Я в своей квартире один. Слишком часто и слишком подолгу я
здесь бываю один! Одному быть негоже -- без чувства локтя нам никому
нельзя!.. Остановились все часы. Включаю радио... Вся Европа, полмира -- в
войне!.. Хорошо хоть, что у меня не каждый день, а только очень редко бывает
такое тяжелое душевное состояние!.. В такие дни нельзя задумываться!..
Будь я, скажем, строевым командиром на фронте, появились бы у меня
задушевные друзья -- именно те, кто сумел остановить немцев в войне, а ныне
гонит и бьет их, приближая нашу победу!
Находясь на передовых позициях, в сражающихся с врагом частях, я,
несмотря ни на какие опасности, бываю не только спокойным, но и ощущаю себя
счастливым. И телом и духом я там здоров, и чем больше трачу энергии, тем
больше ее прибавляется. Сознание своей правоты и нужности Родине усиливает,
если можно так выразиться, обмен физических и духовных сил. Расходуемая
энергия рождает новую -- в квадрате -- энергию!
Надо пренебречь болезнью, волей своей преодолеть ее и ехать, немедленно
ехать на фронт, на передовые позиции. Знаю: там не погибают дети, там и
разрывы снарядов звучат иначе, там они сопровождены треском наших пулеметов;
там и свист вражеских пуль не будоражит сознание, а, как это ни странно
сказать, успокаивает его!.. Люди сражаются на твоих глазах и готовы прикрыть
тебя своим телом, потому что ты -- командир, хоть и незнакомый им, но их
боевой товарищ!
6 октября
А мне все-таки везет в жизни! Только захочешь чегонибудь -- желание
исполняется! Приехал с Волховского фронта редактор армейской газеты Гричук и
сейчас звонил от Прокофьева. У Гричука своя машина, и никакая болезнь не
помешает мне теперь легко и просто добраться с ним до сражающихся в районе
Синявинских высот дивизий!..
Гричука сегодня ведут в театр на "Мачеху", а потом он с Прокофьевым,
Лихаревым и его женой соберутся у меня. Брониславу заставим хозяйничать и
справим у меня их новоселье...
Изучаю, как и все эти дни, труды Ленина, чтобы заполнить те пробелы,
какие есть у меня в знании мысли и дел Ильича.
... Накормил зашедшую ко мне для успокоения нервов (так как был сильный
обстрел) Антонину Голубеву картошкой, напоил чаем. Радио объявило о
прекращении обстрела...
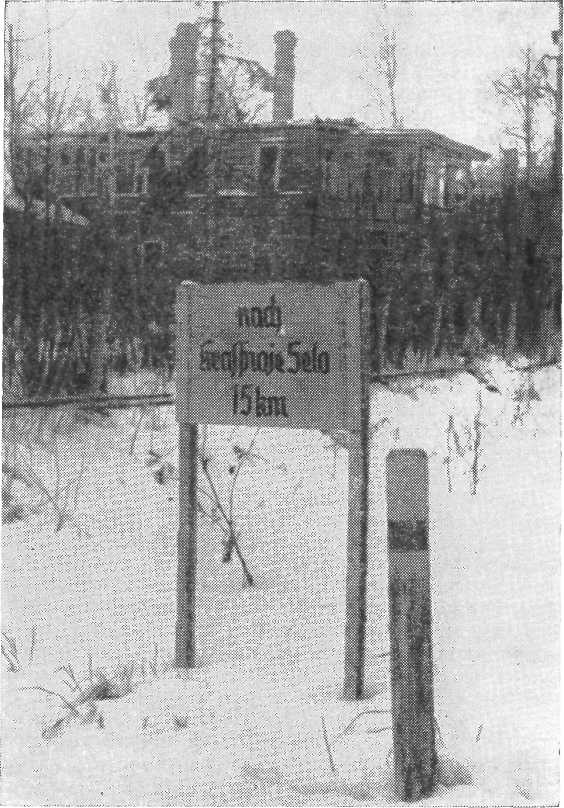 Наступаем на Красное Село! Январь 1944 г.
Ближе к фронту -- все больше машин. Пять метров пути -- полчаса
стоянки, черепаший ход. Свалившиеся в канаву тягач, танк, несколько
грузовиков. Беганье шоферов, солдат, офицеров, беспорядок, ругательства -- а
в общем терпеливое ожидание у гигантских пробок, запирающих движение в обе
стороны.
Дорога в воронках. Огромные воронки от наших авиационных бомб. Немецкой
авиации нет. Днем появлялись два немецких самолета, низко, чуть не касаясь
автомашин, выныривали сбоку от Пушкина, били по колонне из пулеметов. И это
все. Нет и обстрела, странная тишина впереди.
С удивлением видим: дома. Их только четыре на всем пути до Николаевки.
Вновь начинают попадаться деревья, одиночные, изуродованные. Дальше --
больше. До войны здесь, вокруг деревень, шумели живописные рощи. А где же
теперь эти "освобожденные от гитлеровцев населенные пункты" -- Кокколево,
Новый Суян, Виттолово, Рехколово?.. Их нет -- только темная снежная пустыня.
Огромная ночь, пожары, дорога и где-то в стороне от нее -- фашисты. Никто не
знает точно, где именно. И потому -- ощущение враждебной таинственности этой
бескрайней ночи.
Вот наконец здания на взгорке. Это -- Николаевка. Уцелевшие силосные
башни и какой-то дворец. Кругом бивуаки: костры в снежных ямах, траншеях,
канавах. В примаскированном, а то и в откровенном свете автомобильных фар,
костров, чадящих горелым автолом факелов очертания людей фантастичны. Эти
люди, пристроившись в снегу кто как смог, варят еду, сушат портянки,
дремлют, ждут, хлопочут...
Первое впечатление от Николаевки: когда подъезжали, слева огромный
взрыв -- взлетел минированный дом. В Николаевке столпотворение. Глаза болят
от ярких фар машин, уши -- от звуков, весь мир -- машины. Пробираюсь меж
ними. Люди на пушках, на грузе, на капотах и кабинах машин; валенки, сапоги,
ботинки... Опять затор.
Впереди разгорается огромное, в полгоризонта, зарево, освещая рощу
Большого Лагеря, что перед Красным. Горит Красное Село. Горит Дудергоф.
Артстрельбы попрежнему нет. Основной поток машин сворачивает к Большому
Лагерю. Меньший -- вперед, на Красное. О Красном Селе говорят: "Взяли и уже
дальше прошли". Едем. Здесь рощи в сохранности, а в деревне Николаевке --
кое-где даже плетни. Немецким плетнем с одной, северной, стороны
отмаскирована вся дорога перед Николаевкой. Убитые по обочинам, вдоль
дороги. Черные пятна разрывов на снегу. Едем на свет пожаров.
Окраина Красного Села. Дальше не проедешь. Подводим машину к
двухэтажному разбитому дому, внутри -- светляки костров, набито бойцами.
Входим в дом. Едкий дым ест глаза. Разговоры с усталыми, но
возбужденными успешным наступлением солдатами и офицерами. Это саперы 47-го
отдельного саперного батальона 224-й стрелковой дивизии. Заместитель
командира батальона по политчасти капитан Г. И. Кривенко и начальник штаба
батальона старший лейтенант Н. С. Черненко, замещающий раненого комбата,
рассказывают коротко, но охотно, мы делаем записи при кострах.
Село взято. В 8. 30 утра сегодня, 19-го, батальон получил задачу
обеспечить продвижение танков через противотанковые рвы юго-западнее
Красного Села. Там два таких рва. Через час вошли в предместье Красного
Села, обеспечили переправу танкам, ждали, когда врага выбьют из Красного. В
восемнадцать часов пятнадцать человек с командиром роты старшим лейтенантом
Кодыровым пошли сопровождать танки. Переправилось около двухсот танков.
Затем в восемь вечера взрывчаткой уничтожили переправу. Из-под моста
вытащили прикинувшегося убитым немца. Сдали через связного в штаб дивизии...
Красное Село горит со вчерашнего дня -- от артиллерийского огня, мин,
поджогов. В церкви на колокольне были немецкие пулеметы и мелкокалиберное
орудие. По приказанию командира полка Зарубы дали артогонь по церкви. Прямым
попаданием разрушили и зажгли колокольню, но стрельба продолжалась из церкви
снизу. Немцев выбили оттуда, когда подошли наши части.
Сегодня появлялся только один немецкий самолет. Наша авиация
действовала: бомбила и штурмовала.
Укрепления Красного Села? Еще не проходили. На пути к Ропше есть два
разведанных дзота.
Вчера разрыв между наступающими отсюда и 2-й Ударной армией был
одиннадцать километров. Сейчас? "Не знаем".
Оставляем возле саперов машину, идем через Красное Село. Оно
обстреливается минометами. Разрывы то далеко, то близко. Местами возникает
ружейно-автоматная перестрелка. Солдаты вылавливают последних немецких
автоматчиков из подвалов и блиндажей. Кое-где взлетают на воздух дома,
напичканные минами замедленного действия. Пламя взвивается, разлетаясь.
Везде работают группы саперов -- извлекают мины, расчищают проходы,
чинят разбитые мостки. Мост через привокзальный ров взорван, три пролета
встали торчком. Нагромождение бревен, досок, лома, проволоки. Спуститься в
ров невозможно, иначе как катясь по обледенелым скатам.
Группа саперов, путаясь в проволоке, весело съезжает на собственных
ягодицах. Тем же способом и я -- вниз к рельсам. Пути залиты водой из
взорванной водонапорной башни. Разбиты вагоны и паровоз. Вокзал сгорел.
Расспрашивая людей, делая записи, ходим, остерегаясь мин. Но не слишком
остерегаясь, иначе вообще не пройти: тропы еще не протоптаны.
Почерневшие, с пустыми глазницами окон корпуса бумажной фабрики. В
корпусах, на волокушах, -- раненые. И тут же, в грудах завалов, работают
саперы.
Языки яркого пламени возносятся на фоне каменных руин, а на руинах,
будто на немыслимой сцене, как призраки, расположились группой бойцы. Ниже,
на талом шипящем снегу, вокруг гигантского торфяного костра -- сотни две
настороженно-неприязненных ко всем приближающимся автоматчиков. Они только
что из боя, в обступившей их тьме им еще чудится враг. Стоя, лежа и сидя они
греются, сушатся, от них идет пар, они что-то варят, перевязывают раны. Им
явно не до разговоров с посторонними...
Знаменитая Троицкая церковь, построенная в первой трети XVIII века
архитектором Бланки, ощерилась черными головешками. Дымится сожженный
красносельский театр, созданный почти сто лет назад Сарычевым. Дальше!..
Город мертв. В нем ни одного жителя...
Проходим город насквозь. Минуем уцелевшие на другой окраине дома. По
какой-то дороге входим в безлюдный приселок. Дома пробиты напролом танками,
пронизаны снарядами; один из домов, заминированный, взлетает при нас.
Вереница пушек на прицепах, остановившийся на дороге артиллерийский
полк. Ведем разговор с артиллеристами. При свете фар передней машины они
неторопливо обсуждают над развернутой картой новое задание: занять оборону
на левом фланге. Дорога только что разведана, можно ехать, поведет
разведчик.
Самые передовые, ведущие наступление, части должны быть где-то в
стороне Ропши. И мы втроем идем дальше. Какая-то деревня. Стоим,
всматриваемся во тьму, не знаем, куда зашли, -- не угодить бы к немцам! В
деревне -- ни души, таинственно чернеют избы, плетни, ветки. Край деревни
бойко горит. Сбоку -- патруль. Выясняем: тут близко КП 194-го полка.
Указывают направление: в ста пятидесяти метрах -- поваленное дерево, за ним
искать блиндаж, там начштаба полка.
Проходим всю пустую деревню, погрузившись в едкий дым пожара. Горят
дома и, судя по запаху, трупы. Свет в одном доме. Выходит группа бойцов:
инженерная разведка. Нагружены пачками немецких галет. Мы голодны, берем у
разведчиков по одной. Это -- кнекеброд, добытый "вопреки минам".
Наконец разыскали блиндаж. Часовой, доложив, пропускает. В блиндаже
полно офицеров -- здесь штаб полка. Офицеры обедают. Нас встречают
приветливо, угощают щами и картошкой с мясом. Полк брал Красное Село. В этом
блиндаже часа два назад старший сержант Утусиков захватил одного немца в
плен, другого убил на койке. То были радист и наблюдатель, корректировавшие
огонь. А вокруг блиндажа взято двенадцать пленных.
Мы находимся в деревне Кирпуны, в четырех с половиной километрах к
западу от города.
Полк через два часа выходит дальше -- новое задание. Никто не знает,
сомкнулись ли войска Федюнинского с 42-й Ударной. Рассуждают: "Нет! Это
произойдет часов в двенадцать дня".
Делаю подробные записи о боевых действиях полка, о штурме Красного
Села.
Последним удерживал Красное Село 422-й полк 126-й немецкой пехотной
дивизии. Полк получил приказ гитлеровского командования: любой ценой устоять
на своих позициях, -- если сдадут город, семьи офицеров будут казнены.
Красное Село взяли без артподготовки. Штурмовали его стрелковые полки
64-й гвардейской стрелковой дивизии (194-й, 197-й и 191-й), 1025-й полк
291-й стрелковой дивизии и 205-й и 260-й танковые полки. На центральном
направлении двигался и первым ворвался в город 194-й полк под командованием
гвардии подполковника В. М. Шарапова. 1025-й шел в стыке с ним, другие --
сзади. Танкисты действовали, когда пехота была на гребне красносельских
высот.
Действия 194-го полка начались 15 января (артподготовка -- в девять
часов двадцать минут, атака -- в одиннадцать часов утра). На первом
оборонительном рубеже противник дал жестокий бой. Полоса наступления полка
приходилась против двух крупных узлов сопротивления -- Генгозе и Винирязе.
На первых двух километрах глубины вражеской обороны насчитывалось семь
опорных пунктов. Исходное положение у полка было невыгодным, открытая до
переднего края немцев местность простреливалась множеством снайперов,
автоматчиков, разветвленной системой артогня.
Первым поднял свою роту в атаку старший лейтенант Василий Жигарев. Он
сразу погиб, но воодушевленные им бойцы пошли вперед. Командир батальона
Колосов был ранен еще до начала атаки, солдат повел заместитель комбата,
старший лейтенант Алексей Кириллович Дорофеев. Был убит. Тогда бойцов повел
парторг батальона, гвардии старшина Петр Ильич Рыбаков. Был тяжело ранен, но
бойцы не остановились. Роты шли в атаку развернутыми цепями под командой
своих командиров.
Четвертую роту вел Николай Иванович Перепелов. Умело довел ее до
переднего края немцев. Был убит.
Третью роту -- старший лейтенант Харитонов. Убит.
Шестую роту -- старший лейтенант Алексей Кузьмич Гусев. Убит.
Первую линию обороны противника роты заняли в двенадцать часов, через
час после начала атаки.
Дрались бесподобно.
Третий батальон капитана Андрея Архиповича Кравченко организованно и
решительно выбил противника из двух траншей. Кравченко быстро повел батальон
дальше, за противотанковый ров, в район речки Черной. Немцы побежали.
Кравченко погиб за пулеметом. Его начальник штаба, старший лейтенант
Александр Николаевич Татаркин сразу организовал управление, указывал цели,
быстро подтягивал огневые средства. Убит.
Презирая пули, разрывы мин и снарядов, ползти, окапываться, вскакивать,
пригибаясь или в рост перебегать вперед, только вперед, преодолевая мокрый,
местами красный снег, бурую жижу воронок, комья мерзлой земли, путаницу
естественных и искусственных препятствий, не оглядываясь на тех, с кем
дружил месяцы и годы, оставивших на всклокоченной земле свою кровь и свою
жизнь, -- какой тяжелый, какой самозабвенный труд!
Скоротечны атаки, но неуклонное, хорошо организованное наступление
длится день, два, три и дольше. Они смешиваются и перепутываются в сознании
людей, эти дни и ночи; от непрерывной канонады, от грома боев остается
представление о неких гигантских, буравящих всю планету, фантастических
роботах.
И все-таки есть впечатления, которые запоминаются всем.
За Черной речкой, на холме, немцы засели в какомто укрытом кустарником
опорном пункте -- то ли бетонном, то ли сложенном из гранитных глыб убежище.
Оттуда веером сыпал пули станковый пулемет. Наступавшая на левом фланге рота
автоматчиков, потеряв немало людей, вынуждена была залечь. Комсомолец
гвардии рядовой Чижиков, укрываясь за изгибом склона холма, пробрался в тыл
к немцам, прополз в немецкую траншею и с тыла автоматом уничтожил пулеметный
расчет, а потом гранатой убил в блиндаже двух снайперов и одного обезоружил.
При этом сам был ранен в левое бедро. Но он должен был объяснить своим, что
молчание вражеского пулемета -- не хитрость гитлеровцев. И, рискуя попасть
под огонь своей роты, не знавшей, почему вражеский пулемет умолк, Чижиков
выбрался ей навстречу, доложил командиру роты о том, что сделал. Рота без
новых потерь заняла опорный пункт на холме. А Чижиков после перевязки
отказался эвакуироваться. Он и до сих пор в строю.
Там же, у речки Черной, перед высотой 112, 0, девятьсот немцев бежали
от семидесяти поднявшихся в атаку наших бойцов. Но при подъеме на высоту
бойцов нашей шестой роты стал косить ручной пулемет из землянки, врытой в
склон. Молодой парень, гвардии старший сержант Николай Оськин сумел
подобраться к этой землянке, проник внутрь, уничтожил ударом приклада
пулемет, одного гитлеровца убил штыком, второго взял в плен. Рота сразу
поднялась и вместе с другими ротами, развернутыми в цепь, под командой
парторга полка, стреляя на бегу, пробежала полтора километра, штурмуя
высоту. В жестоком бою из остававшихся на высоте ста восьмидесяти немцев
были перебиты почти все, спаслось бегством лишь несколько человек. Николай
Оськин, невредимый, сразу после боя был принят в партию.
К этому времени 194-й полк потерял больше половины своего состава. В
час ночи на 18 января остатки полка колонной двинулись вниз с высоты 112, 0,
пустив вперед разведку. Чтобы создать ее, пришлось расформировать несколько
минометных взводов. Всего активных штыков, вместе с артиллеристами, было
около четырехсот. Шли с поддержкой артдивизиона гвардии капитана Шепелева.
Пришли к Большому Лагерю. Он был свободен. Что делается дальше,
разведка разузнать не успела. Спускались с холма колонной. Но противник
встретил полк минометным огнем. Тогда развернулись в боевой порядок и в три
часа ночи начали наступать на район железнодорожной станции Красное Село.
Здесь противник открыл очень сильный, хорошо организованный
минометно-автоматный огонь и сравнительно слабый артиллерийский.
В шесть часов утра станция была занята. Позже рядовой Иван Киреев
утвердил на ней красный флаг, а фотограф Хандогин в самый разгар боя сделал
фото. Отступая от станции, немцы взорвали водонапорную башню и мост, сожгли
вокзал, затем жгли дома. В этот день, 18 января, они предали огню и
знаменитый красносельский театр.
С восточной стороны вокзала пришлось преодолевать
упорную оборону немцев. Вместе с пехотинцами тут Дрались артиллеристы
майора Василия Сергеевича Амелюха.
Бумажную фабрику заняли в пятнадцать часов 18 января. Группой,
занимавшей фабрику, командовали гвардии майор Алаев и командир роты
автоматчиков лейтенант Зинкевич. С высоты северо-восточней вокзала противник
вел отсечный огонь из минометов и энергично бил из автоматов и пулеметов.
Преодолев сопротивление противника, полк поднялся на скаты высоты,
кое-где прорвался к центру города. Была уже ночь, а на склонах высоты
продолжался бой. Шла артиллерийская дуэль, немцы беспокойно сыпали из
пулеметов трассирующими. С нашей стороны действовали "катюши". Немцы плохо
ведут ночной бой, и нашим удалось занять на высоте три дома.
Сегодня, 19-го, в первой половине дня полк активно оборонялся. Были
организованы штурмовые группы по четыре-пять человек. Они захватывали
огневые точки немцев в отдельных домах.
В шестнадцать часов при поддержке двенадцати танков полк вышел на
северную окраину Красного Села. Танки, по суждению офицеров 194-го полка,
развертывались плохо, но успеху способствовали. Присутствие танков и
особенно огонь артиллерии парализовали противника. Наиболее действенную
помощь оказали "катюши" и артиллеристы капитана Шепелева.
В восемнадцать часов наши прорвали вражескую оборону и заняли Красное
Село. Западную часть города немцы защищали особенно упорно, бились до
последнего патрона. Но наши продвигались быстро, штурмуя опорные пункты
врага. Танки, стреляя в упор по домам, выбивали из них противника.
В девятнадцать часов тридцать минут пехота полностью овладела Красным
Селом. В городе остались только смертники. Выделив группы для их
уничтожения, полк продолжал действовать, двигаясь дальше. В двадцать один
час на расстоянии четырех с половиной километров от Красного Села он занял
населенный пункт Кирпуны, где мы сейчас находимся.
Местных жителей ни в Большом Лагере, ни в Красном Селе не встретилось
ни одного. Первые трофеи в Красном Селе: четыре исправные "берты" 406- и
410миллиметровые; четыре крупнокалиберных (88-миллиметровых) зенитных
орудия, продсклад, вещевые склады. Подорваны немцами два тяжелых орудия.
Захвачены полком паровоз, мотоцикл, рация. Автомобилей не оказалось. Но о
трофеях еще рано говорить, их пока никто не искал, не подсчитывал.
День двадцатого января
В половине четвертого утра я кончил писать и вместе с двумя моими
спутниками -- капитаном Васильевым и старшим лейтенантом Кондрашевым --
покинул блиндаж 194-го полка.
Возвращаемся в Красное Село. Огромный пожар за церковью. В городе от
пожара светло как днем.
Мне надо спешить в Ленинград, сделать и отправить корреспонденцию в
ТАСС. Васильев хочет ждать встречи двух фронтов.
Расстаюсь с Васильевым и Кондрашевым, шагаю один.
Время близится к рассвету. Шоссе. В сторону Ленинграда машин нет. В
сторону фронта -- движение все тем же неиссякаемым потоком. Бреду до
Большого Лагеря и дальше -- до Николаевки. Все время огромный пожар за
красносельской церковью, как гигантский факел, он освещает, кажется, весь
мир. Немцы бьют по Красному Селу, недалеко от меня несколько снарядов
ложатся на шоссе. Убит красноармеец. Еще три резких разрыва -- черными
пятнами на снегу. Участок шоссе пуст.
Перекресток у Николаевки. Тылы полков. Везде костры, везде фары,
стойбища машин. Жду на перекрестке с полчаса, устал смертельно. Иду дальше.
Пропускаю несколько не желающих меня брать или не останавливающихся машин.
Наконец грузовик, едущий в Рехколово за снарядами. Забираюсь в кузов, еду,
блаженствуя на ветру. Грозная техника все течет навстречу. Какая гигантская
силища!
Схожу с машины на перекрестке Рехколово -- Пушкин. Под Пушкином идет
бой. Осветительные ракеты чертят небо. Прошусь в остановленный мною на
перекрестке штабной "виллис".
В нем генерал с адъютантом. "Садитесь!" Очень любезен.
Катим полным ходом, дорога почти очистилась от машин. Подскакиваем на
мелких воронках, круто объезжаем крупные, обгоняем грузовики, разминаемся с
редкими теперь встречными. Генерал-майор (как выяснил я у его адъютанта), В.
П. Мжаванадзе -- член Военного совета 42-й армии, расспрашивает меня, где я
был, что видел, что делал. Сообщает: встреча 112-й армии со 2-й Ударной уже
произошла, взяты Петергоф, Стрельна, Урицк; вся эта группировка немцев
окружена, и войска 42-й армии добивают ее[1]. Взято триста пленных, в их
числе сто артиллеристов из обстреливавших Ленинград. Уже были сообщение
Информбюро и приказ Верховного Главнокомандующего о Ропше и Красном Селе.
Сегодня открывается Приморское шоссе на Петергоф -- Ораниенбаум, через пять
дней -- железная дорога на Ораниенбаум. На Волховском фронте тоже победы. В
общем дела великолепны!
Генерал довозит меня до какого-то поворота:
Я сюда. -- И тоном сожаления: -- А как же вы дальше? Пешком?
Как придется!
Благодарю, вылезаю. Оказывается, мы уже в Ленинграде, у трамвайной
петли на Московском шоссе. Половина седьмого утра. Первый вагон "тройки".
Расспрашиваю пассажиров о сообщении Информбюро. Не знают частности. Застава,
все выходят из трамвая. У пропускной будки, проверяя документы, пограничник
весело и точно, пока стоит трамвай, передает мне сообщение Информбюро.
Еду в трамвае, привалясь к стенке, скованный желанием спать, но не
засыпая. Болят глаза, веки, голова -- усталость предельная. Около улицы
Дзержинского решаю: сначала в ЛенТАСС -- может быть, удастся передать
корреспонденцию по телефону в Москву.
[1] "... Наши подвижные танковые части устремились на запад от Красного
Села по дороге к Ропше. Навстречу им двигались части, наступавшие с
Приморского направления.
В 23 часа 19 января 1944 г. наши танкисты с автоматчиками-десантниками,
вырвавшись вперед, достигли Русско-Высоцкого и соединились с частями,
которые начали наступление южнее Ораниенбаума. В ночь на 20 января произошла
встреча и нашей пехоты... "
"... Петергофско-Стрельнинская группировка противника была окружена в
течение 20 января ударом с нескольких направлений, полностью истреблена".
(Генерал-лейтенант Д. И. Холостое, начальник Политуправления Ленинградского
фронта. "Великая победа под Ленинградом". "Пропаганда и агитация", 1945, No
1; Сб. "Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза", т. 2.
Лениздат, 1947, стр. 294. )
ЛенТАСС, любезная дежурная Дагмара. Пишу очерк о Красном Селе и
информацию о его взятии. Томительно долго, с перерывами связи, при плохой
слышимости передаю сам в Москву.
Десять часов утра. Редакция "Ленинградской правды". Дал материал. Потом
путь пешком. Невский проспект, телеграф -- радостные телеграммы родным. По
мокрятине, в тумане, в мокрых валенках иду в штаб. Читаю здесь номер "На
страже Родины", в нем мой очерк о прорыве первой линии вражеской обороны.
Иду домой. Сквозь муть усталости -- мысль, что Ленинград никогда больше
не будет обстреливаться. В сознание это еще не укладывается. Изжить
привычную готовность услышать разрыв трудно. Но это так!
Прохожие обыкновенны, будничны. Радио повторяет приказ Верховного
Главнокомандующего генералу армии Говорову. Из районов Пулково и южнее
Ораниенбаума за пять дней боев пройдено от двенадцати до двадцати
километров, прорыв на каждом участке наступления расширен до тридцати пяти
-- сорока километров по фронту. Наиболее отличившимся соединениям и частям
присвоены наименования "Красносельских" и "Ропшинских". В девять вечера --
салют Москвы войскам Ленинградского фронта двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
Наконец я дома. Сразу не лечь, еще переполнен впечатлениями. В час дня
ложусь спать.
Просыпаюсь -- не понять когда. Часы стоят. Звоню Лихареву. Отвечает его
жена: он уехал вчера в освобожденный Дудергоф. Звоню Прокофьеву. Он уехал
сегодня в Красное Село. Время -- одиннадцать вечера. Пока я спал, по радио
были сообщения о соединении армий, о взятии Стрельны, Лигова (Урицка),
поселка Володарского, многих других деревень и сел. Был приказ Мерецкову по
поводу взятия Новгорода, Москва салютовала волховчанам.
А во вчерашней сводке кроме Красного Села и Ропши перечислены Петергоф,
Константиновка, Финское Койрово, Большое Виттолово, Александровка, Волосово,
Горская, Гостилицы и много других освобожденных пунктов.
Затапливаю печку, сажусь за письменный стол...
Наступаем на Красное Село! Январь 1944 г.
Ближе к фронту -- все больше машин. Пять метров пути -- полчаса
стоянки, черепаший ход. Свалившиеся в канаву тягач, танк, несколько
грузовиков. Беганье шоферов, солдат, офицеров, беспорядок, ругательства -- а
в общем терпеливое ожидание у гигантских пробок, запирающих движение в обе
стороны.
Дорога в воронках. Огромные воронки от наших авиационных бомб. Немецкой
авиации нет. Днем появлялись два немецких самолета, низко, чуть не касаясь
автомашин, выныривали сбоку от Пушкина, били по колонне из пулеметов. И это
все. Нет и обстрела, странная тишина впереди.
С удивлением видим: дома. Их только четыре на всем пути до Николаевки.
Вновь начинают попадаться деревья, одиночные, изуродованные. Дальше --
больше. До войны здесь, вокруг деревень, шумели живописные рощи. А где же
теперь эти "освобожденные от гитлеровцев населенные пункты" -- Кокколево,
Новый Суян, Виттолово, Рехколово?.. Их нет -- только темная снежная пустыня.
Огромная ночь, пожары, дорога и где-то в стороне от нее -- фашисты. Никто не
знает точно, где именно. И потому -- ощущение враждебной таинственности этой
бескрайней ночи.
Вот наконец здания на взгорке. Это -- Николаевка. Уцелевшие силосные
башни и какой-то дворец. Кругом бивуаки: костры в снежных ямах, траншеях,
канавах. В примаскированном, а то и в откровенном свете автомобильных фар,
костров, чадящих горелым автолом факелов очертания людей фантастичны. Эти
люди, пристроившись в снегу кто как смог, варят еду, сушат портянки,
дремлют, ждут, хлопочут...
Первое впечатление от Николаевки: когда подъезжали, слева огромный
взрыв -- взлетел минированный дом. В Николаевке столпотворение. Глаза болят
от ярких фар машин, уши -- от звуков, весь мир -- машины. Пробираюсь меж
ними. Люди на пушках, на грузе, на капотах и кабинах машин; валенки, сапоги,
ботинки... Опять затор.
Впереди разгорается огромное, в полгоризонта, зарево, освещая рощу
Большого Лагеря, что перед Красным. Горит Красное Село. Горит Дудергоф.
Артстрельбы попрежнему нет. Основной поток машин сворачивает к Большому
Лагерю. Меньший -- вперед, на Красное. О Красном Селе говорят: "Взяли и уже
дальше прошли". Едем. Здесь рощи в сохранности, а в деревне Николаевке --
кое-где даже плетни. Немецким плетнем с одной, северной, стороны
отмаскирована вся дорога перед Николаевкой. Убитые по обочинам, вдоль
дороги. Черные пятна разрывов на снегу. Едем на свет пожаров.
Окраина Красного Села. Дальше не проедешь. Подводим машину к
двухэтажному разбитому дому, внутри -- светляки костров, набито бойцами.
Входим в дом. Едкий дым ест глаза. Разговоры с усталыми, но
возбужденными успешным наступлением солдатами и офицерами. Это саперы 47-го
отдельного саперного батальона 224-й стрелковой дивизии. Заместитель
командира батальона по политчасти капитан Г. И. Кривенко и начальник штаба
батальона старший лейтенант Н. С. Черненко, замещающий раненого комбата,
рассказывают коротко, но охотно, мы делаем записи при кострах.
Село взято. В 8. 30 утра сегодня, 19-го, батальон получил задачу
обеспечить продвижение танков через противотанковые рвы юго-западнее
Красного Села. Там два таких рва. Через час вошли в предместье Красного
Села, обеспечили переправу танкам, ждали, когда врага выбьют из Красного. В
восемнадцать часов пятнадцать человек с командиром роты старшим лейтенантом
Кодыровым пошли сопровождать танки. Переправилось около двухсот танков.
Затем в восемь вечера взрывчаткой уничтожили переправу. Из-под моста
вытащили прикинувшегося убитым немца. Сдали через связного в штаб дивизии...
Красное Село горит со вчерашнего дня -- от артиллерийского огня, мин,
поджогов. В церкви на колокольне были немецкие пулеметы и мелкокалиберное
орудие. По приказанию командира полка Зарубы дали артогонь по церкви. Прямым
попаданием разрушили и зажгли колокольню, но стрельба продолжалась из церкви
снизу. Немцев выбили оттуда, когда подошли наши части.
Сегодня появлялся только один немецкий самолет. Наша авиация
действовала: бомбила и штурмовала.
Укрепления Красного Села? Еще не проходили. На пути к Ропше есть два
разведанных дзота.
Вчера разрыв между наступающими отсюда и 2-й Ударной армией был
одиннадцать километров. Сейчас? "Не знаем".
Оставляем возле саперов машину, идем через Красное Село. Оно
обстреливается минометами. Разрывы то далеко, то близко. Местами возникает
ружейно-автоматная перестрелка. Солдаты вылавливают последних немецких
автоматчиков из подвалов и блиндажей. Кое-где взлетают на воздух дома,
напичканные минами замедленного действия. Пламя взвивается, разлетаясь.
Везде работают группы саперов -- извлекают мины, расчищают проходы,
чинят разбитые мостки. Мост через привокзальный ров взорван, три пролета
встали торчком. Нагромождение бревен, досок, лома, проволоки. Спуститься в
ров невозможно, иначе как катясь по обледенелым скатам.
Группа саперов, путаясь в проволоке, весело съезжает на собственных
ягодицах. Тем же способом и я -- вниз к рельсам. Пути залиты водой из
взорванной водонапорной башни. Разбиты вагоны и паровоз. Вокзал сгорел.
Расспрашивая людей, делая записи, ходим, остерегаясь мин. Но не слишком
остерегаясь, иначе вообще не пройти: тропы еще не протоптаны.
Почерневшие, с пустыми глазницами окон корпуса бумажной фабрики. В
корпусах, на волокушах, -- раненые. И тут же, в грудах завалов, работают
саперы.
Языки яркого пламени возносятся на фоне каменных руин, а на руинах,
будто на немыслимой сцене, как призраки, расположились группой бойцы. Ниже,
на талом шипящем снегу, вокруг гигантского торфяного костра -- сотни две
настороженно-неприязненных ко всем приближающимся автоматчиков. Они только
что из боя, в обступившей их тьме им еще чудится враг. Стоя, лежа и сидя они
греются, сушатся, от них идет пар, они что-то варят, перевязывают раны. Им
явно не до разговоров с посторонними...
Знаменитая Троицкая церковь, построенная в первой трети XVIII века
архитектором Бланки, ощерилась черными головешками. Дымится сожженный
красносельский театр, созданный почти сто лет назад Сарычевым. Дальше!..
Город мертв. В нем ни одного жителя...
Проходим город насквозь. Минуем уцелевшие на другой окраине дома. По
какой-то дороге входим в безлюдный приселок. Дома пробиты напролом танками,
пронизаны снарядами; один из домов, заминированный, взлетает при нас.
Вереница пушек на прицепах, остановившийся на дороге артиллерийский
полк. Ведем разговор с артиллеристами. При свете фар передней машины они
неторопливо обсуждают над развернутой картой новое задание: занять оборону
на левом фланге. Дорога только что разведана, можно ехать, поведет
разведчик.
Самые передовые, ведущие наступление, части должны быть где-то в
стороне Ропши. И мы втроем идем дальше. Какая-то деревня. Стоим,
всматриваемся во тьму, не знаем, куда зашли, -- не угодить бы к немцам! В
деревне -- ни души, таинственно чернеют избы, плетни, ветки. Край деревни
бойко горит. Сбоку -- патруль. Выясняем: тут близко КП 194-го полка.
Указывают направление: в ста пятидесяти метрах -- поваленное дерево, за ним
искать блиндаж, там начштаба полка.
Проходим всю пустую деревню, погрузившись в едкий дым пожара. Горят
дома и, судя по запаху, трупы. Свет в одном доме. Выходит группа бойцов:
инженерная разведка. Нагружены пачками немецких галет. Мы голодны, берем у
разведчиков по одной. Это -- кнекеброд, добытый "вопреки минам".
Наконец разыскали блиндаж. Часовой, доложив, пропускает. В блиндаже
полно офицеров -- здесь штаб полка. Офицеры обедают. Нас встречают
приветливо, угощают щами и картошкой с мясом. Полк брал Красное Село. В этом
блиндаже часа два назад старший сержант Утусиков захватил одного немца в
плен, другого убил на койке. То были радист и наблюдатель, корректировавшие
огонь. А вокруг блиндажа взято двенадцать пленных.
Мы находимся в деревне Кирпуны, в четырех с половиной километрах к
западу от города.
Полк через два часа выходит дальше -- новое задание. Никто не знает,
сомкнулись ли войска Федюнинского с 42-й Ударной. Рассуждают: "Нет! Это
произойдет часов в двенадцать дня".
Делаю подробные записи о боевых действиях полка, о штурме Красного
Села.
Последним удерживал Красное Село 422-й полк 126-й немецкой пехотной
дивизии. Полк получил приказ гитлеровского командования: любой ценой устоять
на своих позициях, -- если сдадут город, семьи офицеров будут казнены.
Красное Село взяли без артподготовки. Штурмовали его стрелковые полки
64-й гвардейской стрелковой дивизии (194-й, 197-й и 191-й), 1025-й полк
291-й стрелковой дивизии и 205-й и 260-й танковые полки. На центральном
направлении двигался и первым ворвался в город 194-й полк под командованием
гвардии подполковника В. М. Шарапова. 1025-й шел в стыке с ним, другие --
сзади. Танкисты действовали, когда пехота была на гребне красносельских
высот.
Действия 194-го полка начались 15 января (артподготовка -- в девять
часов двадцать минут, атака -- в одиннадцать часов утра). На первом
оборонительном рубеже противник дал жестокий бой. Полоса наступления полка
приходилась против двух крупных узлов сопротивления -- Генгозе и Винирязе.
На первых двух километрах глубины вражеской обороны насчитывалось семь
опорных пунктов. Исходное положение у полка было невыгодным, открытая до
переднего края немцев местность простреливалась множеством снайперов,
автоматчиков, разветвленной системой артогня.
Первым поднял свою роту в атаку старший лейтенант Василий Жигарев. Он
сразу погиб, но воодушевленные им бойцы пошли вперед. Командир батальона
Колосов был ранен еще до начала атаки, солдат повел заместитель комбата,
старший лейтенант Алексей Кириллович Дорофеев. Был убит. Тогда бойцов повел
парторг батальона, гвардии старшина Петр Ильич Рыбаков. Был тяжело ранен, но
бойцы не остановились. Роты шли в атаку развернутыми цепями под командой
своих командиров.
Четвертую роту вел Николай Иванович Перепелов. Умело довел ее до
переднего края немцев. Был убит.
Третью роту -- старший лейтенант Харитонов. Убит.
Шестую роту -- старший лейтенант Алексей Кузьмич Гусев. Убит.
Первую линию обороны противника роты заняли в двенадцать часов, через
час после начала атаки.
Дрались бесподобно.
Третий батальон капитана Андрея Архиповича Кравченко организованно и
решительно выбил противника из двух траншей. Кравченко быстро повел батальон
дальше, за противотанковый ров, в район речки Черной. Немцы побежали.
Кравченко погиб за пулеметом. Его начальник штаба, старший лейтенант
Александр Николаевич Татаркин сразу организовал управление, указывал цели,
быстро подтягивал огневые средства. Убит.
Презирая пули, разрывы мин и снарядов, ползти, окапываться, вскакивать,
пригибаясь или в рост перебегать вперед, только вперед, преодолевая мокрый,
местами красный снег, бурую жижу воронок, комья мерзлой земли, путаницу
естественных и искусственных препятствий, не оглядываясь на тех, с кем
дружил месяцы и годы, оставивших на всклокоченной земле свою кровь и свою
жизнь, -- какой тяжелый, какой самозабвенный труд!
Скоротечны атаки, но неуклонное, хорошо организованное наступление
длится день, два, три и дольше. Они смешиваются и перепутываются в сознании
людей, эти дни и ночи; от непрерывной канонады, от грома боев остается
представление о неких гигантских, буравящих всю планету, фантастических
роботах.
И все-таки есть впечатления, которые запоминаются всем.
За Черной речкой, на холме, немцы засели в какомто укрытом кустарником
опорном пункте -- то ли бетонном, то ли сложенном из гранитных глыб убежище.
Оттуда веером сыпал пули станковый пулемет. Наступавшая на левом фланге рота
автоматчиков, потеряв немало людей, вынуждена была залечь. Комсомолец
гвардии рядовой Чижиков, укрываясь за изгибом склона холма, пробрался в тыл
к немцам, прополз в немецкую траншею и с тыла автоматом уничтожил пулеметный
расчет, а потом гранатой убил в блиндаже двух снайперов и одного обезоружил.
При этом сам был ранен в левое бедро. Но он должен был объяснить своим, что
молчание вражеского пулемета -- не хитрость гитлеровцев. И, рискуя попасть
под огонь своей роты, не знавшей, почему вражеский пулемет умолк, Чижиков
выбрался ей навстречу, доложил командиру роты о том, что сделал. Рота без
новых потерь заняла опорный пункт на холме. А Чижиков после перевязки
отказался эвакуироваться. Он и до сих пор в строю.
Там же, у речки Черной, перед высотой 112, 0, девятьсот немцев бежали
от семидесяти поднявшихся в атаку наших бойцов. Но при подъеме на высоту
бойцов нашей шестой роты стал косить ручной пулемет из землянки, врытой в
склон. Молодой парень, гвардии старший сержант Николай Оськин сумел
подобраться к этой землянке, проник внутрь, уничтожил ударом приклада
пулемет, одного гитлеровца убил штыком, второго взял в плен. Рота сразу
поднялась и вместе с другими ротами, развернутыми в цепь, под командой
парторга полка, стреляя на бегу, пробежала полтора километра, штурмуя
высоту. В жестоком бою из остававшихся на высоте ста восьмидесяти немцев
были перебиты почти все, спаслось бегством лишь несколько человек. Николай
Оськин, невредимый, сразу после боя был принят в партию.
К этому времени 194-й полк потерял больше половины своего состава. В
час ночи на 18 января остатки полка колонной двинулись вниз с высоты 112, 0,
пустив вперед разведку. Чтобы создать ее, пришлось расформировать несколько
минометных взводов. Всего активных штыков, вместе с артиллеристами, было
около четырехсот. Шли с поддержкой артдивизиона гвардии капитана Шепелева.
Пришли к Большому Лагерю. Он был свободен. Что делается дальше,
разведка разузнать не успела. Спускались с холма колонной. Но противник
встретил полк минометным огнем. Тогда развернулись в боевой порядок и в три
часа ночи начали наступать на район железнодорожной станции Красное Село.
Здесь противник открыл очень сильный, хорошо организованный
минометно-автоматный огонь и сравнительно слабый артиллерийский.
В шесть часов утра станция была занята. Позже рядовой Иван Киреев
утвердил на ней красный флаг, а фотограф Хандогин в самый разгар боя сделал
фото. Отступая от станции, немцы взорвали водонапорную башню и мост, сожгли
вокзал, затем жгли дома. В этот день, 18 января, они предали огню и
знаменитый красносельский театр.
С восточной стороны вокзала пришлось преодолевать
упорную оборону немцев. Вместе с пехотинцами тут Дрались артиллеристы
майора Василия Сергеевича Амелюха.
Бумажную фабрику заняли в пятнадцать часов 18 января. Группой,
занимавшей фабрику, командовали гвардии майор Алаев и командир роты
автоматчиков лейтенант Зинкевич. С высоты северо-восточней вокзала противник
вел отсечный огонь из минометов и энергично бил из автоматов и пулеметов.
Преодолев сопротивление противника, полк поднялся на скаты высоты,
кое-где прорвался к центру города. Была уже ночь, а на склонах высоты
продолжался бой. Шла артиллерийская дуэль, немцы беспокойно сыпали из
пулеметов трассирующими. С нашей стороны действовали "катюши". Немцы плохо
ведут ночной бой, и нашим удалось занять на высоте три дома.
Сегодня, 19-го, в первой половине дня полк активно оборонялся. Были
организованы штурмовые группы по четыре-пять человек. Они захватывали
огневые точки немцев в отдельных домах.
В шестнадцать часов при поддержке двенадцати танков полк вышел на
северную окраину Красного Села. Танки, по суждению офицеров 194-го полка,
развертывались плохо, но успеху способствовали. Присутствие танков и
особенно огонь артиллерии парализовали противника. Наиболее действенную
помощь оказали "катюши" и артиллеристы капитана Шепелева.
В восемнадцать часов наши прорвали вражескую оборону и заняли Красное
Село. Западную часть города немцы защищали особенно упорно, бились до
последнего патрона. Но наши продвигались быстро, штурмуя опорные пункты
врага. Танки, стреляя в упор по домам, выбивали из них противника.
В девятнадцать часов тридцать минут пехота полностью овладела Красным
Селом. В городе остались только смертники. Выделив группы для их
уничтожения, полк продолжал действовать, двигаясь дальше. В двадцать один
час на расстоянии четырех с половиной километров от Красного Села он занял
населенный пункт Кирпуны, где мы сейчас находимся.
Местных жителей ни в Большом Лагере, ни в Красном Селе не встретилось
ни одного. Первые трофеи в Красном Селе: четыре исправные "берты" 406- и
410миллиметровые; четыре крупнокалиберных (88-миллиметровых) зенитных
орудия, продсклад, вещевые склады. Подорваны немцами два тяжелых орудия.
Захвачены полком паровоз, мотоцикл, рация. Автомобилей не оказалось. Но о
трофеях еще рано говорить, их пока никто не искал, не подсчитывал.
День двадцатого января
В половине четвертого утра я кончил писать и вместе с двумя моими
спутниками -- капитаном Васильевым и старшим лейтенантом Кондрашевым --
покинул блиндаж 194-го полка.
Возвращаемся в Красное Село. Огромный пожар за церковью. В городе от
пожара светло как днем.
Мне надо спешить в Ленинград, сделать и отправить корреспонденцию в
ТАСС. Васильев хочет ждать встречи двух фронтов.
Расстаюсь с Васильевым и Кондрашевым, шагаю один.
Время близится к рассвету. Шоссе. В сторону Ленинграда машин нет. В
сторону фронта -- движение все тем же неиссякаемым потоком. Бреду до
Большого Лагеря и дальше -- до Николаевки. Все время огромный пожар за
красносельской церковью, как гигантский факел, он освещает, кажется, весь
мир. Немцы бьют по Красному Селу, недалеко от меня несколько снарядов
ложатся на шоссе. Убит красноармеец. Еще три резких разрыва -- черными
пятнами на снегу. Участок шоссе пуст.
Перекресток у Николаевки. Тылы полков. Везде костры, везде фары,
стойбища машин. Жду на перекрестке с полчаса, устал смертельно. Иду дальше.
Пропускаю несколько не желающих меня брать или не останавливающихся машин.
Наконец грузовик, едущий в Рехколово за снарядами. Забираюсь в кузов, еду,
блаженствуя на ветру. Грозная техника все течет навстречу. Какая гигантская
силища!
Схожу с машины на перекрестке Рехколово -- Пушкин. Под Пушкином идет
бой. Осветительные ракеты чертят небо. Прошусь в остановленный мною на
перекрестке штабной "виллис".
В нем генерал с адъютантом. "Садитесь!" Очень любезен.
Катим полным ходом, дорога почти очистилась от машин. Подскакиваем на
мелких воронках, круто объезжаем крупные, обгоняем грузовики, разминаемся с
редкими теперь встречными. Генерал-майор (как выяснил я у его адъютанта), В.
П. Мжаванадзе -- член Военного совета 42-й армии, расспрашивает меня, где я
был, что видел, что делал. Сообщает: встреча 112-й армии со 2-й Ударной уже
произошла, взяты Петергоф, Стрельна, Урицк; вся эта группировка немцев
окружена, и войска 42-й армии добивают ее[1]. Взято триста пленных, в их
числе сто артиллеристов из обстреливавших Ленинград. Уже были сообщение
Информбюро и приказ Верховного Главнокомандующего о Ропше и Красном Селе.
Сегодня открывается Приморское шоссе на Петергоф -- Ораниенбаум, через пять
дней -- железная дорога на Ораниенбаум. На Волховском фронте тоже победы. В
общем дела великолепны!
Генерал довозит меня до какого-то поворота:
Я сюда. -- И тоном сожаления: -- А как же вы дальше? Пешком?
Как придется!
Благодарю, вылезаю. Оказывается, мы уже в Ленинграде, у трамвайной
петли на Московском шоссе. Половина седьмого утра. Первый вагон "тройки".
Расспрашиваю пассажиров о сообщении Информбюро. Не знают частности. Застава,
все выходят из трамвая. У пропускной будки, проверяя документы, пограничник
весело и точно, пока стоит трамвай, передает мне сообщение Информбюро.
Еду в трамвае, привалясь к стенке, скованный желанием спать, но не
засыпая. Болят глаза, веки, голова -- усталость предельная. Около улицы
Дзержинского решаю: сначала в ЛенТАСС -- может быть, удастся передать
корреспонденцию по телефону в Москву.
[1] "... Наши подвижные танковые части устремились на запад от Красного
Села по дороге к Ропше. Навстречу им двигались части, наступавшие с
Приморского направления.
В 23 часа 19 января 1944 г. наши танкисты с автоматчиками-десантниками,
вырвавшись вперед, достигли Русско-Высоцкого и соединились с частями,
которые начали наступление южнее Ораниенбаума. В ночь на 20 января произошла
встреча и нашей пехоты... "
"... Петергофско-Стрельнинская группировка противника была окружена в
течение 20 января ударом с нескольких направлений, полностью истреблена".
(Генерал-лейтенант Д. И. Холостое, начальник Политуправления Ленинградского
фронта. "Великая победа под Ленинградом". "Пропаганда и агитация", 1945, No
1; Сб. "Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза", т. 2.
Лениздат, 1947, стр. 294. )
ЛенТАСС, любезная дежурная Дагмара. Пишу очерк о Красном Селе и
информацию о его взятии. Томительно долго, с перерывами связи, при плохой
слышимости передаю сам в Москву.
Десять часов утра. Редакция "Ленинградской правды". Дал материал. Потом
путь пешком. Невский проспект, телеграф -- радостные телеграммы родным. По
мокрятине, в тумане, в мокрых валенках иду в штаб. Читаю здесь номер "На
страже Родины", в нем мой очерк о прорыве первой линии вражеской обороны.
Иду домой. Сквозь муть усталости -- мысль, что Ленинград никогда больше
не будет обстреливаться. В сознание это еще не укладывается. Изжить
привычную готовность услышать разрыв трудно. Но это так!
Прохожие обыкновенны, будничны. Радио повторяет приказ Верховного
Главнокомандующего генералу армии Говорову. Из районов Пулково и южнее
Ораниенбаума за пять дней боев пройдено от двенадцати до двадцати
километров, прорыв на каждом участке наступления расширен до тридцати пяти
-- сорока километров по фронту. Наиболее отличившимся соединениям и частям
присвоены наименования "Красносельских" и "Ропшинских". В девять вечера --
салют Москвы войскам Ленинградского фронта двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
Наконец я дома. Сразу не лечь, еще переполнен впечатлениями. В час дня
ложусь спать.
Просыпаюсь -- не понять когда. Часы стоят. Звоню Лихареву. Отвечает его
жена: он уехал вчера в освобожденный Дудергоф. Звоню Прокофьеву. Он уехал
сегодня в Красное Село. Время -- одиннадцать вечера. Пока я спал, по радио
были сообщения о соединении армий, о взятии Стрельны, Лигова (Урицка),
поселка Володарского, многих других деревень и сел. Был приказ Мерецкову по
поводу взятия Новгорода, Москва салютовала волховчанам.
А во вчерашней сводке кроме Красного Села и Ропши перечислены Петергоф,
Константиновка, Финское Койрово, Большое Виттолово, Александровка, Волосово,
Горская, Гостилицы и много других освобожденных пунктов.
Затапливаю печку, сажусь за письменный стол...
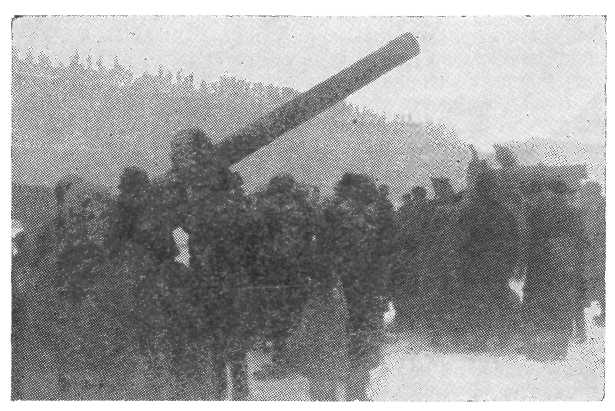 Две первые немецкие дальнобойные пушки, обстреливавшие Ленинград.
Доставлены на Дворцовую площадь в день полного освобождения Ленинграда от
блокады, 21 января 1944 г.
Немецкие пушки на Дворцовой площади
21 января
К семи утра я в редакции "На страже Родины", чтобы ехать в Петергоф. Но
транспорта нет. Мне сообщают неожиданную новость, которая заставляет меня
сразу же поспешить к Дворцовой площади.
Зимнее туманное утро. На изъязвленной обстрелами площади, как на
шершавой ладони, -- вещественное доказательство обвинения: те самые пушки,
которые еще день-два назад несли смерть детям и женщинам Ленинграда и
которые никогда больше не выпустят ни одного снаряда... На том месте, где
недавно разорвался немецкий снаряд, стоят, будто пойманные и окаменелые
Звери, два огромных мрачных орудия. Их привезли из-под Красного Села и
выставили на обозрение ленинградцев.
Это первые экспонаты необыкновенной выставки трофейных дальнобойных
орудий. Их встанет здесь много, когда будут разминированы поля, по которым
нужно перевезти подбитые в бою гитлеровские "берты". Их будет еще больше,
когда исправные, повернутые сейчас против немцев мортиры и гаубицы выпустят
на головы своих бывших хозяев весь запас трофейных снарядов.
Пока их здесь две, и между ними на снегу лежит массивной тушей снаряд,
над которым склонились столпившиеся прохожие.
Разговоры:
Ну хорошо! Из каких же это? Пушечки!..
Снаряд, самое главное -- снаряд!..
Ну как? Нравится? Теперь-то легче стало!..
Гаубица. Эт-то пушка! Вот он угощал Ленинградто чем...
Веселая девушка в ватнике читает вслух надпись, выгравированную на
алюминиевой, привинченной к снаряду табличке:
"Неразорвавшийся снаряд 406-мм гаубичной батареи на железнодорожной
установке в районе Пязелево Х-20190. V-54415. Батарея обстреливала огневые
позиции 3-го Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса в
районе Пулковских высот".
Ну, теперь наши его угощают, паразита! -- радостно добавляет старушка в
платке. -- Такими обстреливал нас! Сумасшедшее дело!
А вот посмотрите на гаубицу! -- кричит голубоглазый парнишка в стеганке
и кепке. -- Здорово наши артиллеристы ее подбили? Прямое попадание в ствол!
Это ж надо попасть! Ведь она километров за двадцать стояла! Такие на
тридцать четыре километра бьют!
Откуда ты знаешь? -- улыбаясь спрашивает парнишку
лейтенант-артиллерист, разглядывая вместе с женщинами и детьми зияющую,
ощеренную стальными лоскутьями пробоину в стволе орудия.
А как же не знать? -- горделиво ответствует юноша. -- Я ведь слесарь на
оборонном заводе, у меня медаль, такая же, как у вас... -- И обернувшись к
гаубице: -- Вот надпись: "Шкода, 1936". Это немцы у чехословаков забрали.
Сто пять миллиметров! Я все системы знаю.
-- Как тебя звать?
-- Быстров Евгений Николаевич! -- А сколько тебе лет?
Тут знаток артиллерийского дела чуть-чуть смущается.
Четырнадцать! -- тихо отвечает он. И как бы оправдываясь: -- Ничего, я
из такой и сам бы по немцам дал!
А я, -- пробиваясь к орудию сквозь толпу, выкрикивает утирающая
платочком слезы пожилая женщина, -- если бы у меня были силы, я эту пушку на
спине сама бы приволокла сюда. Изуверы проклятые!
Ну что вы плачете, гражданка? Веселиться надо теперь!
Милые, да когда я узнала о победе, не знала, куда мне от радости
броситься... А плачу я... Сын мой, Боренька, летчик-бомбардировщик, не
отвечает на письма -- наверное, тоже от немцев погиб. Двадцать седьмого мая
полетел. Был на Черном море, а, как ленинградец, захотел сюда... А второй
сын -- на Волховском, артиллерист, был тяжело ранен, когда Красное немцы
взяли. И жена там у него осталась, жена -- зубной врач... Летчик -- Борис
Сергеевич Ширшин, двадцатого года; у него фамилия такая, потому что он не
родной, а воспитанник мой, сама я -- Минина, Ефросинья Семеновна,
ленинградка с детства. Ночной сторож я, обслуживаю два дома, стараюсь помочь
хоть своим трудом. Дочь моя, Наталья Петровна, на оборонных лесозаготовках и
сейчас работает. А артиллериста, моего сына, зовут Семен Петрович Минин, --
может, узнаете про моих детей, услышите, товарищи офицеры?..
Пробоину внимательно разглядывает красноармеец:
Ох, уж стукнули, так стукнули ему! Веселая девушка:
Залепили бандиту проклятому!
Эту девушку зовут Марией Дмитриевной Шалдо, она секретарь бюро
комсомола эвакогоспиталя.
-- Новогородка я! Всю войну здесь. Медаль получила!
С девушкой заговаривает старик:
-- Теперь наш Новгород освободили!.. Я здесь лет сорок пять, в
Ленинграде, работаю на Фондовой бирже, в Центральном военном музее. Всю
войну здесь, хоть мне шестьдесят восемь лет. И медаль есть... Был уже на
краю смерти от голода... У нас начальника пожарной команды убило; на нашей
территории разорвался снаряд. Рядом больница -- не успели донести, помер...
Я три раза перекрестился, когда наш Великий Новгород... Михайлов меня,
Михаил Михайлович!
Мария Дмитриевна Шалдо и Михаил Михайлович Михайлов тут же у пушки
знакомятся, жмут руки друг другу, делятся воспоминаниями об убитых снарядами
друзьях и знакомых.
К снаряду подходит шофер:
-- Вот такая дура ахнет -- паскудное дело! Другая девушка:
-- Сна-а-ряд! Не верится даже, аж сердце замирает!
Эта девушка -- работница фабрики. Зовут ее Зинаидой Ивановной
Сопруновой. У нее также медаль "За оборону Ленинграда". Постояв у пушки,
девушка с удовлетворением замечает:
-- Хватит! Поозорничал он, больше не будет!.. -- И почти ласково
погладив края пробоины: -- И этим ударом она уже была парализована? Значит,
меткий!
На второй пушке выставлен огромный, на деревянной подошве, валяный
немецкий полусапог. В таких сапогах у немцев стоят в мороз часовые. Мальчик
разглядывает сапог, смеется:
-- Сапог-то фрицев! Модельный! -- Берет его в руки, потряхивает, ставит
на место: -- Килограмм шесть будет! Это -- артиллеристы. Они далеко не
бегают, вот такие и носят...
-- Теперь без сапог побежали! -- смеется кто-то. Вторая пушка --
220-миллиметровая мортира, с маркой "Шнейдер Крезо", кургузая,
темно-оливковая.
-- Какими конфетками угощал! -- восклицает молчавшая до сих пор
женщина. -- Это -- шоколадинка! Ну теперь наши его угощают, ах, ты...
Она ругается.
К мортире подходит ватага детей. Они из соседнего деточага No 20,
Октябрьского района. Разглядывают то орудие, которым, может быть, убиты на
ленинградских улицах их сестры и матери.
Значит, теперь немец не будет по нас из него стрелять?
Не будет, Танечка!
А его самого тоже приволокут сюда? -- не унимается семилетняя Таня.
И девушка в меховой шубке взволнованно отвечает Не ей, а всем
окружающим:
-- Самого бы фашиста сюда! Единственное, чего я хочу: тут его на
площади судить и повесить!
Таня Петрова, Юра Киселев, Мария Коган... Каждому по семь лет. Половина
жизни каждого из них прошла в блокаде!
Народу вокруг фашистских пушек толпится все больше. На несколько минут
возле пушек останавливается автомобиль. Из него выходит генерал-лейтенант,
дает указания офицерам, где и как поставить следующие пушки, которые
привезут сюда завтра. Всего, говорит, будет выставлено полтораста -- двести
орудий.
Уже половина десятого утра. Весть о пушках на площади быстро разносится
по городу. Ленинградцы выскакивают из трамваев, чтобы поглядеть на
необыкновенные эти трофеи.
... Возвращаюсь в здание Штаба. Узнаю: великолепный Константиновский
дворец в Стрельне, построенный архитектором Микетти в 1720 году и
перестроенный Воронихиным в 1803 году, разрушен, от него остались голые
стены. Старинный собор превращен гитлеровцами в конюшню. Историческая
Мальтийская капелла разграблена -- не осталось ни одного украшения на алтаре
и на стенах. Поселок Володарского фашисты приспособили под артиллерийские
огневые позиции, с которых обстреливали Ленинград из дальнобойных пушек. Эти
пушки были скрыты в капонирах, уподобленных бревенчатым срубам дачных домов
и поставленных впритык к дачам. Значительную часть поселка гитлеровцы в
последние часы своего владычества сожгли. Крупный железнодорожный узел
Лигово (Урицк) разрушен, в нем нет ни одного целого дома, все станционные
постройки превращены в груды мусора и кирпичей, полотно железной дороги
взорвано, шпалы сняты... Немецкий гарнизон Урицка был изолирован и в
жестоких уличных боях уничтожен полностью. Могилой для немцев стали и
поселок Володарского, и Стрельна...
Две первые немецкие дальнобойные пушки, обстреливавшие Ленинград.
Доставлены на Дворцовую площадь в день полного освобождения Ленинграда от
блокады, 21 января 1944 г.
Немецкие пушки на Дворцовой площади
21 января
К семи утра я в редакции "На страже Родины", чтобы ехать в Петергоф. Но
транспорта нет. Мне сообщают неожиданную новость, которая заставляет меня
сразу же поспешить к Дворцовой площади.
Зимнее туманное утро. На изъязвленной обстрелами площади, как на
шершавой ладони, -- вещественное доказательство обвинения: те самые пушки,
которые еще день-два назад несли смерть детям и женщинам Ленинграда и
которые никогда больше не выпустят ни одного снаряда... На том месте, где
недавно разорвался немецкий снаряд, стоят, будто пойманные и окаменелые
Звери, два огромных мрачных орудия. Их привезли из-под Красного Села и
выставили на обозрение ленинградцев.
Это первые экспонаты необыкновенной выставки трофейных дальнобойных
орудий. Их встанет здесь много, когда будут разминированы поля, по которым
нужно перевезти подбитые в бою гитлеровские "берты". Их будет еще больше,
когда исправные, повернутые сейчас против немцев мортиры и гаубицы выпустят
на головы своих бывших хозяев весь запас трофейных снарядов.
Пока их здесь две, и между ними на снегу лежит массивной тушей снаряд,
над которым склонились столпившиеся прохожие.
Разговоры:
Ну хорошо! Из каких же это? Пушечки!..
Снаряд, самое главное -- снаряд!..
Ну как? Нравится? Теперь-то легче стало!..
Гаубица. Эт-то пушка! Вот он угощал Ленинградто чем...
Веселая девушка в ватнике читает вслух надпись, выгравированную на
алюминиевой, привинченной к снаряду табличке:
"Неразорвавшийся снаряд 406-мм гаубичной батареи на железнодорожной
установке в районе Пязелево Х-20190. V-54415. Батарея обстреливала огневые
позиции 3-го Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса в
районе Пулковских высот".
Ну, теперь наши его угощают, паразита! -- радостно добавляет старушка в
платке. -- Такими обстреливал нас! Сумасшедшее дело!
А вот посмотрите на гаубицу! -- кричит голубоглазый парнишка в стеганке
и кепке. -- Здорово наши артиллеристы ее подбили? Прямое попадание в ствол!
Это ж надо попасть! Ведь она километров за двадцать стояла! Такие на
тридцать четыре километра бьют!
Откуда ты знаешь? -- улыбаясь спрашивает парнишку
лейтенант-артиллерист, разглядывая вместе с женщинами и детьми зияющую,
ощеренную стальными лоскутьями пробоину в стволе орудия.
А как же не знать? -- горделиво ответствует юноша. -- Я ведь слесарь на
оборонном заводе, у меня медаль, такая же, как у вас... -- И обернувшись к
гаубице: -- Вот надпись: "Шкода, 1936". Это немцы у чехословаков забрали.
Сто пять миллиметров! Я все системы знаю.
-- Как тебя звать?
-- Быстров Евгений Николаевич! -- А сколько тебе лет?
Тут знаток артиллерийского дела чуть-чуть смущается.
Четырнадцать! -- тихо отвечает он. И как бы оправдываясь: -- Ничего, я
из такой и сам бы по немцам дал!
А я, -- пробиваясь к орудию сквозь толпу, выкрикивает утирающая
платочком слезы пожилая женщина, -- если бы у меня были силы, я эту пушку на
спине сама бы приволокла сюда. Изуверы проклятые!
Ну что вы плачете, гражданка? Веселиться надо теперь!
Милые, да когда я узнала о победе, не знала, куда мне от радости
броситься... А плачу я... Сын мой, Боренька, летчик-бомбардировщик, не
отвечает на письма -- наверное, тоже от немцев погиб. Двадцать седьмого мая
полетел. Был на Черном море, а, как ленинградец, захотел сюда... А второй
сын -- на Волховском, артиллерист, был тяжело ранен, когда Красное немцы
взяли. И жена там у него осталась, жена -- зубной врач... Летчик -- Борис
Сергеевич Ширшин, двадцатого года; у него фамилия такая, потому что он не
родной, а воспитанник мой, сама я -- Минина, Ефросинья Семеновна,
ленинградка с детства. Ночной сторож я, обслуживаю два дома, стараюсь помочь
хоть своим трудом. Дочь моя, Наталья Петровна, на оборонных лесозаготовках и
сейчас работает. А артиллериста, моего сына, зовут Семен Петрович Минин, --
может, узнаете про моих детей, услышите, товарищи офицеры?..
Пробоину внимательно разглядывает красноармеец:
Ох, уж стукнули, так стукнули ему! Веселая девушка:
Залепили бандиту проклятому!
Эту девушку зовут Марией Дмитриевной Шалдо, она секретарь бюро
комсомола эвакогоспиталя.
-- Новогородка я! Всю войну здесь. Медаль получила!
С девушкой заговаривает старик:
-- Теперь наш Новгород освободили!.. Я здесь лет сорок пять, в
Ленинграде, работаю на Фондовой бирже, в Центральном военном музее. Всю
войну здесь, хоть мне шестьдесят восемь лет. И медаль есть... Был уже на
краю смерти от голода... У нас начальника пожарной команды убило; на нашей
территории разорвался снаряд. Рядом больница -- не успели донести, помер...
Я три раза перекрестился, когда наш Великий Новгород... Михайлов меня,
Михаил Михайлович!
Мария Дмитриевна Шалдо и Михаил Михайлович Михайлов тут же у пушки
знакомятся, жмут руки друг другу, делятся воспоминаниями об убитых снарядами
друзьях и знакомых.
К снаряду подходит шофер:
-- Вот такая дура ахнет -- паскудное дело! Другая девушка:
-- Сна-а-ряд! Не верится даже, аж сердце замирает!
Эта девушка -- работница фабрики. Зовут ее Зинаидой Ивановной
Сопруновой. У нее также медаль "За оборону Ленинграда". Постояв у пушки,
девушка с удовлетворением замечает:
-- Хватит! Поозорничал он, больше не будет!.. -- И почти ласково
погладив края пробоины: -- И этим ударом она уже была парализована? Значит,
меткий!
На второй пушке выставлен огромный, на деревянной подошве, валяный
немецкий полусапог. В таких сапогах у немцев стоят в мороз часовые. Мальчик
разглядывает сапог, смеется:
-- Сапог-то фрицев! Модельный! -- Берет его в руки, потряхивает, ставит
на место: -- Килограмм шесть будет! Это -- артиллеристы. Они далеко не
бегают, вот такие и носят...
-- Теперь без сапог побежали! -- смеется кто-то. Вторая пушка --
220-миллиметровая мортира, с маркой "Шнейдер Крезо", кургузая,
темно-оливковая.
-- Какими конфетками угощал! -- восклицает молчавшая до сих пор
женщина. -- Это -- шоколадинка! Ну теперь наши его угощают, ах, ты...
Она ругается.
К мортире подходит ватага детей. Они из соседнего деточага No 20,
Октябрьского района. Разглядывают то орудие, которым, может быть, убиты на
ленинградских улицах их сестры и матери.
Значит, теперь немец не будет по нас из него стрелять?
Не будет, Танечка!
А его самого тоже приволокут сюда? -- не унимается семилетняя Таня.
И девушка в меховой шубке взволнованно отвечает Не ей, а всем
окружающим:
-- Самого бы фашиста сюда! Единственное, чего я хочу: тут его на
площади судить и повесить!
Таня Петрова, Юра Киселев, Мария Коган... Каждому по семь лет. Половина
жизни каждого из них прошла в блокаде!
Народу вокруг фашистских пушек толпится все больше. На несколько минут
возле пушек останавливается автомобиль. Из него выходит генерал-лейтенант,
дает указания офицерам, где и как поставить следующие пушки, которые
привезут сюда завтра. Всего, говорит, будет выставлено полтораста -- двести
орудий.
Уже половина десятого утра. Весть о пушках на площади быстро разносится
по городу. Ленинградцы выскакивают из трамваев, чтобы поглядеть на
необыкновенные эти трофеи.
... Возвращаюсь в здание Штаба. Узнаю: великолепный Константиновский
дворец в Стрельне, построенный архитектором Микетти в 1720 году и
перестроенный Воронихиным в 1803 году, разрушен, от него остались голые
стены. Старинный собор превращен гитлеровцами в конюшню. Историческая
Мальтийская капелла разграблена -- не осталось ни одного украшения на алтаре
и на стенах. Поселок Володарского фашисты приспособили под артиллерийские
огневые позиции, с которых обстреливали Ленинград из дальнобойных пушек. Эти
пушки были скрыты в капонирах, уподобленных бревенчатым срубам дачных домов
и поставленных впритык к дачам. Значительную часть поселка гитлеровцы в
последние часы своего владычества сожгли. Крупный железнодорожный узел
Лигово (Урицк) разрушен, в нем нет ни одного целого дома, все станционные
постройки превращены в груды мусора и кирпичей, полотно железной дороги
взорвано, шпалы сняты... Немецкий гарнизон Урицка был изолирован и в
жестоких уличных боях уничтожен полностью. Могилой для немцев стали и
поселок Володарского, и Стрельна...
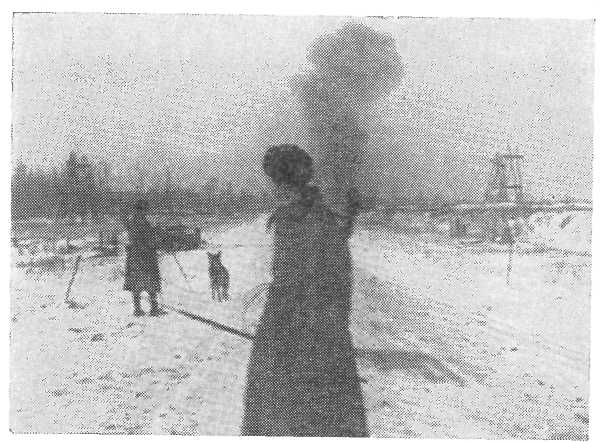 Первый день дороги на Стрельну и Петергоф. Мины! 22 января 1944 г.
Вечер. Сегодня салют Ленинградскому и Волховскому фронтам за Мгу --
двенадцать залпов из ста двадцати четырех орудий. Ленинград ликует!
Еду в Стрельну и Петергоф. Посмотрю на все своими глазами!
В Стрельне и Петергофе
22 января. Петергоф
Вчера тщетно хлопотал о транспорте. Сегодня удалось вместе с А.
Прокофьевым выехать в машине Радиокомитета, оборудованной специальной
аппаратурой для звукозаписи.
Петергоф!.. Сидим в машине. Черноглазый звукооператор Маграчев чуть не
в десятый раз заставляет капитана Максимова повторять выступление перед
микрофоном. Анатолий Никифорович Максимов -- первый ветреченный нами в
безлюдном Петергофе офицер, командир инженерной роты. Лента рвется, звук
пропадает весь в испарине от усилий, но покорный Максимов вновь и вновь
повторяет свой прерванный на полуслове рассказ В машине -- трофеи: финские
выбеленные лыжи (они разбросаны по городу всюду), каски, немецкие полусапоги
на толстенной подошве, какие-то фляги, патроны Их насобирали радиорепортеры.
Первый день дороги на Стрельну и Петергоф. Мины! 22 января 1944 г.
Вечер. Сегодня салют Ленинградскому и Волховскому фронтам за Мгу --
двенадцать залпов из ста двадцати четырех орудий. Ленинград ликует!
Еду в Стрельну и Петергоф. Посмотрю на все своими глазами!
В Стрельне и Петергофе
22 января. Петергоф
Вчера тщетно хлопотал о транспорте. Сегодня удалось вместе с А.
Прокофьевым выехать в машине Радиокомитета, оборудованной специальной
аппаратурой для звукозаписи.
Петергоф!.. Сидим в машине. Черноглазый звукооператор Маграчев чуть не
в десятый раз заставляет капитана Максимова повторять выступление перед
микрофоном. Анатолий Никифорович Максимов -- первый ветреченный нами в
безлюдном Петергофе офицер, командир инженерной роты. Лента рвется, звук
пропадает весь в испарине от усилий, но покорный Максимов вновь и вновь
повторяет свой прерванный на полуслове рассказ В машине -- трофеи: финские
выбеленные лыжи (они разбросаны по городу всюду), каски, немецкие полусапоги
на толстенной подошве, какие-то фляги, патроны Их насобирали радиорепортеры.
 Поэт Александр Прокофьев в Стрельне 22 января 1944 г.
От дороги -- ни на шаг, все минировано, мины рвутся весь день
продырявливая саван снега, укрывающий испепеленный мертвый город. Нам
встречаются только саперы и дорожники. При вступлении наших войск здесь не
оказалось ни одного местного жителя
Мы ехали сюда долго, искали путь. Приморское шоссе минировано-проезда
нет. Саперы перед Стрельной нас не пускали. Они работали с собаками и
миноуловителями, взрывали мины. Машина, однако, пробралась -- осторожно, по
желтым, глубоко врезанным в снег колеям; свернуть хоть на метр -- значило б
нарваться на мину.
С петровских времен славилась Петергофская дорога расположенными вдоль
нее величественной архитектуры дворцами, извилистыми прудами, живописными
рощицами посреди полян, украшенных цветниками. В старину Петергофскую дорогу
сравнивали с прелестным переездом от Парижа до Версаля. Уже при Петре вдоль
этой дороги выстроилось около сотни нарядных дач...
Сейчас на всем пути сюда мы видим только развалины.
В мертвенно-безлюдной Стрельне мы остановились. Вся она -- хаос
древесного, кирпичного и железного лома. Везде -- изорванные металлом и
спиленные деревья, печные трубы среди руин, листы искореженного,
пережженного кровельного железа...
Нет больше знаменитого Стрельнинского парка, только его черная
печальная тень, вздымающая изломанные, оголенные ветви, как подъятые в
проклятии руки. На пути к Константиновскому дворцу -- немецкие
надписиуказатели: "К Ленинграду", "К Красному Селу". В разоренном дворце мы
старательно обходили оставленные гитлеровцами вшивые тюфяки. Дворец
превращен был в склад снарядов. И среди хлама, порнографических открыток,
любовных романов валялись здесь таблицы стрельб, в которых целями были
обозначены улицы Ленинграда.
Из Стрельны мы смотрели на Ленинград, залитый слабыми солнечными
лучами, смотрели с тех немецких огневых позиций, с которых еще несколько
дней назад немцы обстреливали город, так ясно видимый отсюда простым глазом.
При въезде в Петергоф первыми попались нам на глаза два синих царских
вагона, сохранявшихся в парке до войны как музейные экспонаты. Они подтащены
к самому шоссе и прострелены. Павильон за ними побит, парк изрежен, везде
пни, пни...
Против разбитого дома на Красной улице -- немецкое кладбище. Кресты,
надписи. Такая, например:
Поэт Александр Прокофьев в Стрельне 22 января 1944 г.
От дороги -- ни на шаг, все минировано, мины рвутся весь день
продырявливая саван снега, укрывающий испепеленный мертвый город. Нам
встречаются только саперы и дорожники. При вступлении наших войск здесь не
оказалось ни одного местного жителя
Мы ехали сюда долго, искали путь. Приморское шоссе минировано-проезда
нет. Саперы перед Стрельной нас не пускали. Они работали с собаками и
миноуловителями, взрывали мины. Машина, однако, пробралась -- осторожно, по
желтым, глубоко врезанным в снег колеям; свернуть хоть на метр -- значило б
нарваться на мину.
С петровских времен славилась Петергофская дорога расположенными вдоль
нее величественной архитектуры дворцами, извилистыми прудами, живописными
рощицами посреди полян, украшенных цветниками. В старину Петергофскую дорогу
сравнивали с прелестным переездом от Парижа до Версаля. Уже при Петре вдоль
этой дороги выстроилось около сотни нарядных дач...
Сейчас на всем пути сюда мы видим только развалины.
В мертвенно-безлюдной Стрельне мы остановились. Вся она -- хаос
древесного, кирпичного и железного лома. Везде -- изорванные металлом и
спиленные деревья, печные трубы среди руин, листы искореженного,
пережженного кровельного железа...
Нет больше знаменитого Стрельнинского парка, только его черная
печальная тень, вздымающая изломанные, оголенные ветви, как подъятые в
проклятии руки. На пути к Константиновскому дворцу -- немецкие
надписиуказатели: "К Ленинграду", "К Красному Селу". В разоренном дворце мы
старательно обходили оставленные гитлеровцами вшивые тюфяки. Дворец
превращен был в склад снарядов. И среди хлама, порнографических открыток,
любовных романов валялись здесь таблицы стрельб, в которых целями были
обозначены улицы Ленинграда.
Из Стрельны мы смотрели на Ленинград, залитый слабыми солнечными
лучами, смотрели с тех немецких огневых позиций, с которых еще несколько
дней назад немцы обстреливали город, так ясно видимый отсюда простым глазом.
При въезде в Петергоф первыми попались нам на глаза два синих царских
вагона, сохранявшихся в парке до войны как музейные экспонаты. Они подтащены
к самому шоссе и прострелены. Павильон за ними побит, парк изрежен, везде
пни, пни...
Против разбитого дома на Красной улице -- немецкое кладбище. Кресты,
надписи. Такая, например:
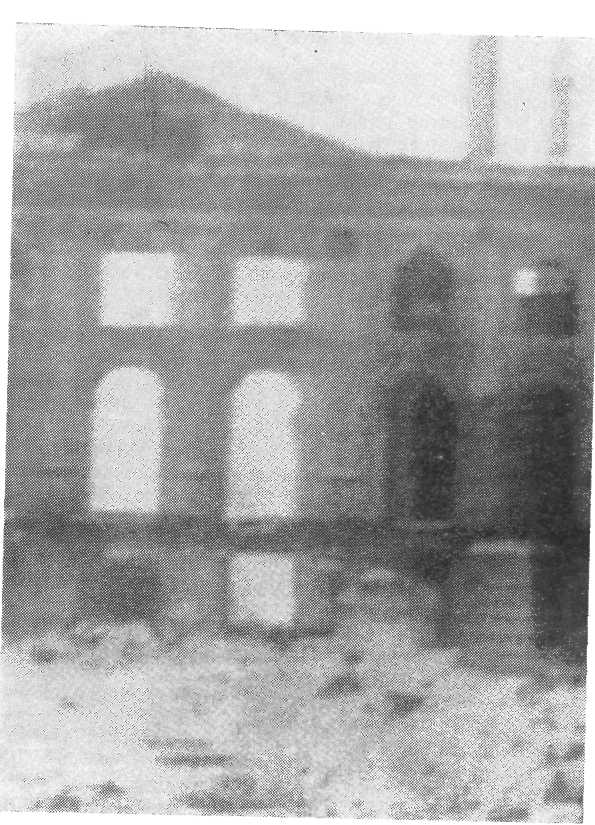 Таким я увидел Петергофский дворец 22 января 1944 г.
Идем к улице Аврова, где мы, въехав в город, оставили машину. Огибаем
разбитые и обезображенные корпуса дома отдыха. Группа моряков на саночках
тянет трофейное имущество. Сворачиваем вправо, в парк. Католический костел
цел, но запоганен. За ним маленький дворец, пуст, полуразбит, тут были
казармы, кухня, склад. Мои трофеи: обрывок немецкой подробнейшей карты
района Петергофа да треугольный выпуклый осколок прекрасной вазы, на осколке
-- синяя птица. Он лежал среди прелых курток, ошметок кованой обуви и
концентратов ржаной каши, рассыпанных гитлеровцами при бегстве.
Немецкий указатель: "К финскому лагерю". Шесть крестов -- еще одно
немецкое кладбище. Справа и слева -- блиндажи, землянки...
Шофер Терентий Иванович включает мотор, сейчас поедем к другой окраине
Петергофа...
В Пушкине
Ночь на 26 января. 2 часа 30 минут
Взят Пушкин!
В 10 часов 30 минут утра с корреспондентом "Правды" Н. И. Вороновым,
взявшим кроме меня в свою "эмку" спецкора газеты 13-й воздушной армии Сожина
и фоторепортера, выезжаю в Пушкин.
Пулковское шоссе. Надолбы, укрепления, сети камуфляжа вдоль шоссе, уже
порванные, ненужные. Огневые позиции. Пушки увезены вперед. Дворец Советов,
издали видны десять огромных дыр от снарядов. Застава на новом месте,
километрах в пяти от города. Вокруг видны изрытые поля. Снежный покров почти
стаял. Впереди -- зубцы остатков Пулковской обсерватории на облысевшей,
голой горе. Под горой уцелел, хоть и изувечен, только портик, превращенный в
блиндаж.
Изрытая Пулковская гора похожа на гигантские, покинутые сейчас соты:
землянки, огромные блиндажи, траншеи, зигзаги ходов сообщения. Ни следа
аллей, дорог, редкие огрызки мертвых деревьев. Руины домов на гребне словно
тысячелетние: иззубренные куски стен, причудливые нагромождения кирпичной
кладки.
Сразу за Пулковской горой -- надолбы, рвы, траншеи, витки спирали
Бруно, нагромождения изорванной колючей проволоки. Широко открывается даль
-- равнина, опустошенная, мертвая. Это недавний немецкий передний край. На
несколько километров в глубину вражеской обороны поле распахано нашей
артподготовкой первого дня наступления: сплошь воронки и между ними --
черные комья выброшенной земли. В этой дикой "вспашке" поле -- до горизонта.
Кое-где разбитые немецкие пушки, танки, ручное оружие. Все исковеркано.
Так до Рехколова. Дальше устрашающий потусторонний пейзаж кончается.
Уже нет впечатления, что по равнине прошелся исполинский плуг. Поле белеет,
но все еще словно в конвульсиях, в ряби прошедшего по нему боя: те же
воронки, те же комья, однако не сплошь, а перемежаясь со снежным покровом,
являющим взору немецкие рвы и траншеи, дзоты, землянки и блиндажи. В них
сейчас много немцев, но ни одного живого: земля еще не приняла эти
оледеневшие трупы гитлеровцев.
От Рехколова к Александровке -- много оборонительных сооружений,
огневые позиции на буграх, разбитые немецкие танки, искореженные пулеметы и
минометы.
Движение по дорогам сегодня уже не густое.
Справа вдали чернеет Воронья гора, впереди виднеется туманная стена
парков Пушкина. День пасмурен.
Въезжаем в Александровку, разбитую и разоренную. За эту неделю она
дважды переходила из рук в руки. Остатки деревьев торчат из причудливых
нагромождений железа. Позади немногих уцелевших домов чернеет "городок"
немецких землянок и блиндажей.
Броневые щитки вдоль дороги -- бывшие огневые точки. Взорванный мостик.
Волокуши. Грузовики со всяческими трофеями.
Сразу за мостиком и уже до самого Пушкина на дороге, вдоль нее и по
всему полю -- бесчисленные трупы гитлеровцев, в позах, в каких их застала
смерть; в куртках, плащах, валенках и сапогах, выбеленных касках. Кровь на
снегу, кровь на дороге. От некоторых, вмурованных гусеницами в снежное
полотно дороги, остались только расплывчатые плоские изображения.
Трупы наших воинов везде уже убраны...
Машина с трудом пробирается по бревнам, которыми саперы перекрыли
взорванные мосты.
Таким я увидел Петергофский дворец 22 января 1944 г.
Идем к улице Аврова, где мы, въехав в город, оставили машину. Огибаем
разбитые и обезображенные корпуса дома отдыха. Группа моряков на саночках
тянет трофейное имущество. Сворачиваем вправо, в парк. Католический костел
цел, но запоганен. За ним маленький дворец, пуст, полуразбит, тут были
казармы, кухня, склад. Мои трофеи: обрывок немецкой подробнейшей карты
района Петергофа да треугольный выпуклый осколок прекрасной вазы, на осколке
-- синяя птица. Он лежал среди прелых курток, ошметок кованой обуви и
концентратов ржаной каши, рассыпанных гитлеровцами при бегстве.
Немецкий указатель: "К финскому лагерю". Шесть крестов -- еще одно
немецкое кладбище. Справа и слева -- блиндажи, землянки...
Шофер Терентий Иванович включает мотор, сейчас поедем к другой окраине
Петергофа...
В Пушкине
Ночь на 26 января. 2 часа 30 минут
Взят Пушкин!
В 10 часов 30 минут утра с корреспондентом "Правды" Н. И. Вороновым,
взявшим кроме меня в свою "эмку" спецкора газеты 13-й воздушной армии Сожина
и фоторепортера, выезжаю в Пушкин.
Пулковское шоссе. Надолбы, укрепления, сети камуфляжа вдоль шоссе, уже
порванные, ненужные. Огневые позиции. Пушки увезены вперед. Дворец Советов,
издали видны десять огромных дыр от снарядов. Застава на новом месте,
километрах в пяти от города. Вокруг видны изрытые поля. Снежный покров почти
стаял. Впереди -- зубцы остатков Пулковской обсерватории на облысевшей,
голой горе. Под горой уцелел, хоть и изувечен, только портик, превращенный в
блиндаж.
Изрытая Пулковская гора похожа на гигантские, покинутые сейчас соты:
землянки, огромные блиндажи, траншеи, зигзаги ходов сообщения. Ни следа
аллей, дорог, редкие огрызки мертвых деревьев. Руины домов на гребне словно
тысячелетние: иззубренные куски стен, причудливые нагромождения кирпичной
кладки.
Сразу за Пулковской горой -- надолбы, рвы, траншеи, витки спирали
Бруно, нагромождения изорванной колючей проволоки. Широко открывается даль
-- равнина, опустошенная, мертвая. Это недавний немецкий передний край. На
несколько километров в глубину вражеской обороны поле распахано нашей
артподготовкой первого дня наступления: сплошь воронки и между ними --
черные комья выброшенной земли. В этой дикой "вспашке" поле -- до горизонта.
Кое-где разбитые немецкие пушки, танки, ручное оружие. Все исковеркано.
Так до Рехколова. Дальше устрашающий потусторонний пейзаж кончается.
Уже нет впечатления, что по равнине прошелся исполинский плуг. Поле белеет,
но все еще словно в конвульсиях, в ряби прошедшего по нему боя: те же
воронки, те же комья, однако не сплошь, а перемежаясь со снежным покровом,
являющим взору немецкие рвы и траншеи, дзоты, землянки и блиндажи. В них
сейчас много немцев, но ни одного живого: земля еще не приняла эти
оледеневшие трупы гитлеровцев.
От Рехколова к Александровке -- много оборонительных сооружений,
огневые позиции на буграх, разбитые немецкие танки, искореженные пулеметы и
минометы.
Движение по дорогам сегодня уже не густое.
Справа вдали чернеет Воронья гора, впереди виднеется туманная стена
парков Пушкина. День пасмурен.
Въезжаем в Александровку, разбитую и разоренную. За эту неделю она
дважды переходила из рук в руки. Остатки деревьев торчат из причудливых
нагромождений железа. Позади немногих уцелевших домов чернеет "городок"
немецких землянок и блиндажей.
Броневые щитки вдоль дороги -- бывшие огневые точки. Взорванный мостик.
Волокуши. Грузовики со всяческими трофеями.
Сразу за мостиком и уже до самого Пушкина на дороге, вдоль нее и по
всему полю -- бесчисленные трупы гитлеровцев, в позах, в каких их застала
смерть; в куртках, плащах, валенках и сапогах, выбеленных касках. Кровь на
снегу, кровь на дороге. От некоторых, вмурованных гусеницами в снежное
полотно дороги, остались только расплывчатые плоские изображения.
Трупы наших воинов везде уже убраны...
Машина с трудом пробирается по бревнам, которыми саперы перекрыли
взорванные мосты.
 25 января 1944 г., сразу после освобождения города Пушкина, у Орловских
ворот, я сфотографировал это немецкое объявление.
Левее дороги снова броневые щитки с отверстиями для автоматов. Далеко в
поле -- несколько разбитых немецких орудий. Впереди, справа, -- разбитый
аэродром, металлические скелеты -- остовы ангаров. Их осматривает группа
наших летчиков.
Слева надвинулись на нас деревья парка. При въезде в Пушкин на
воткнутом в землю шесте крашенный белой краской щит, на нем черными буквами
объявление:
25 января 1944 г., сразу после освобождения города Пушкина, у Орловских
ворот, я сфотографировал это немецкое объявление.
Левее дороги снова броневые щитки с отверстиями для автоматов. Далеко в
поле -- несколько разбитых немецких орудий. Впереди, справа, -- разбитый
аэродром, металлические скелеты -- остовы ангаров. Их осматривает группа
наших летчиков.
Слева надвинулись на нас деревья парка. При въезде в Пушкин на
воткнутом в землю шесте крашенный белой краской щит, на нем черными буквами
объявление:
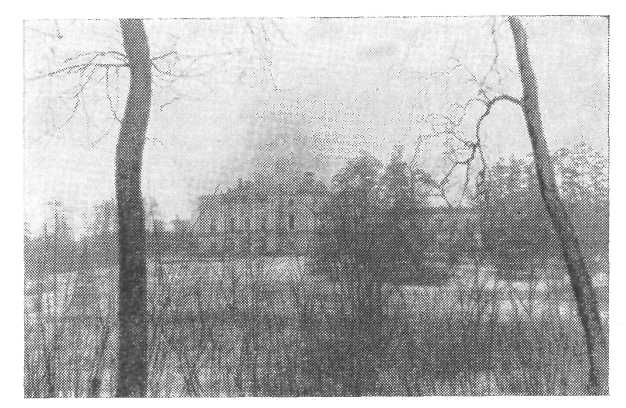 Подожженный отступавшими гитлеровцами, Павловский дворец горит!
25 января 1944 г.
Слышим свист бурлящего пламени, видим, как рушатся, обугливаясь,
неповторимые фрески работы Гонзаго. Оттаскиваем подальше от огня мраморную
скульптуру, вышвырнутую немцами из дворца. Она лежит в груде мусора, среди
кофейных мельниц, мышеловок, плевательниц, всякого отребья, оставшегося
после немецких солдат, которые жили здесь, устроив себе нары из золоченых
багетов и рам...
Что можно сделать, чтобы спасти дворец? Беспомощно оглядываясь, ища
людей, мы замечаем какого-то офицера. Он говорит нам:
-- О пожаре сообщено в Ленинград, и сюда уже мчатся автомобили пожарных
команд, вот-вот будут здесь!
Я тщательно фотографирую этот пожар.
Бой еще идет неподалеку от Павловска, наши воины бьют гитлеровцев с
вдохновением ненависти, которой предела нет. Но Павловский дворец,
драгоценный памятник русского зодчества, на наших глазах горит!
Я слышу чей-то негромкий, негодующий голос:
Подожженный отступавшими гитлеровцами, Павловский дворец горит!
25 января 1944 г.
Слышим свист бурлящего пламени, видим, как рушатся, обугливаясь,
неповторимые фрески работы Гонзаго. Оттаскиваем подальше от огня мраморную
скульптуру, вышвырнутую немцами из дворца. Она лежит в груде мусора, среди
кофейных мельниц, мышеловок, плевательниц, всякого отребья, оставшегося
после немецких солдат, которые жили здесь, устроив себе нары из золоченых
багетов и рам...
Что можно сделать, чтобы спасти дворец? Беспомощно оглядываясь, ища
людей, мы замечаем какого-то офицера. Он говорит нам:
-- О пожаре сообщено в Ленинград, и сюда уже мчатся автомобили пожарных
команд, вот-вот будут здесь!
Я тщательно фотографирую этот пожар.
Бой еще идет неподалеку от Павловска, наши воины бьют гитлеровцев с
вдохновением ненависти, которой предела нет. Но Павловский дворец,
драгоценный памятник русского зодчества, на наших глазах горит!
Я слышу чей-то негромкий, негодующий голос:
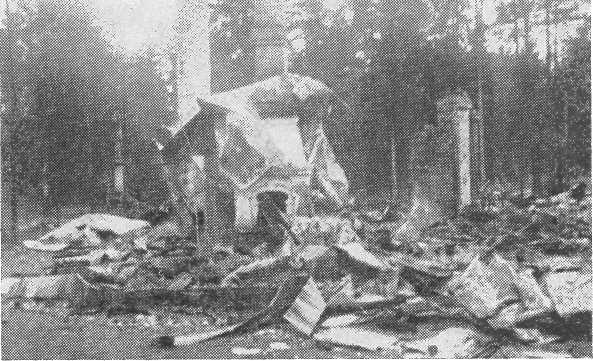 Сожженные репинские "Пенаты". Июнь 1944 г.
Выехали в 8. 30 утра: ходом -- через Парголово, Песочное, Каменку, до
Белоострова. Дождь. Дорога через Сестру размыта, не проехать. Едем вдоль
реки Сестры, налево, к Приморскому шоссе, вдоль первой траншеи бывшего
переднего края. Железная дорога разобрана, насыпь ее давно превращена в
изрытое боями укрепление. Переезд, болотистые разливы. Приморское шоссе.
Передний край взрыт, испепелен.
Едем мимо разрушенной Оллилы к Куоккале. Прошлый раз я не имел
возможности остановить здесь машину. Поэтому сейчас осматриваем погорелье на
месте "Пенат" и могилу Репина. Запущенный сад ярко-зелен.
Горизонт чист. За горизонтом -- Балтика, подступающая к Карельскому
перешейку мелким прибоем голубого Финского залива. Отлогий песчаный берег
усеян гранитными валунами. Кое-где из воды черными точками выступают
отдельные рифы. До войны здесь бывало много купальщиков -- им приходилось
долго идти от берега, чтоб погрузиться в ласковую воду по пояс. Нынче на
тоненькой бесконечной ленте пляжа нет никого -- берег залива минирован,
окаймлен на всем своем протяжении рядами колючей проволоки.
Каждые сто -- двести метров рогатки колючей проволоки выстраиваются в
каре. Внутри каждого каре виднеется дзот; он похож на паука, вытянувшего во
все стороны длинные ножки -- узкие ходы сообщения. В каждом дзоте три года
подряд сидели настороженные наблюдатели. Они видели на горизонте серые
полоски русских фортов, они разглядывали в бинокли купол кронштадтского
собора, они боялись морского десанта и губительного огня советских морских
батарей. Теперь здесь безлюдно.
Вдоль самого берега, сразу за колючей проволокой и рядом деревьев,
бежит, извиваясь, гладкое Приморское шоссе. С обеих сторон стоят веселые,
разноцветные дачи. Они то вытягиваются в линию, прерываемую садами и рощами,
то группируются в маленькие поселки. За ними, направо, сплошною стеной
тянется лес -- ели, березы, осины и ольха с рябиной, жимолостью, калиной,
крушиной и всем многообразием других кустарников. По ветвям деревьев не
прыгают белки, не видно птиц -- животные и пернатые удалились в самую глушь
лесов.
Многие дачи вдоль шоссе сожжены и разбиты. Сегодня в уцелевших
располагаются наши командные пункты, штабы, столовые, госпитали, базы
снабжения. Вокруг них на несколько часов становятся лагерем наступающие
подразделения. Сквозь ветви деревьев повсюду видны бесчисленные танки,
орудия, автомашины.
Им некогда задерживаться надолго: заправятся, перегруппируются, вновь
вытягиваются на шоссе в линию, чтобы двигаться дальше.
Гладь шоссе до Териок. Заезжаем в штаб армии. В оперативном отделе я с
Ганичевым получаю информацию от полковника. 108-й стрелковый корпус
приближается к "линии Маннергейма". Противник оказывает сопротивление. В
числе захваченных в плен -- финский майор. В районе Лаакюля наши войска вели
бой с танками "Лагуса". В пятнадцати километрах от "линии Маннергейма"
противник заканчивает систему оборонительных сооружений -- на них усиленным
темпом ведутся работы.
В час дня выезжаем дальше. Тюрисевя. Киоск военторга. Следы работы
морской артиллерии. Под высоким приберегом у Мятсякюля, в устье
Ваммелсун-йоки, перед временным мостом -- пробка. Все вокруг искрошено
артиллерией. Рядом с руинами старого строятся два новых моста. Пробка
огромная: орудия, автомашины -- почти сплошь тяжелые "студебеккеры".
Генерал, регулирующий пробку, и много помощников. Стоим часа два. Тысячи
людей ждут -- кто спит, кто ведет спокойные разговоры... Перед мостом
тяжелый спуск, за ним -- подъем. Трактор, помогающий грузовикам со снарядами
вылезать наверх. Тут же хаос надолб, частично разбомбленных, разбитых
артогнем. Ломаные стволы деревьев, свороченные камни. Справа от шоссе
песчаный взгорок прибрежья изрыт снарядами.
Сожженные репинские "Пенаты". Июнь 1944 г.
Выехали в 8. 30 утра: ходом -- через Парголово, Песочное, Каменку, до
Белоострова. Дождь. Дорога через Сестру размыта, не проехать. Едем вдоль
реки Сестры, налево, к Приморскому шоссе, вдоль первой траншеи бывшего
переднего края. Железная дорога разобрана, насыпь ее давно превращена в
изрытое боями укрепление. Переезд, болотистые разливы. Приморское шоссе.
Передний край взрыт, испепелен.
Едем мимо разрушенной Оллилы к Куоккале. Прошлый раз я не имел
возможности остановить здесь машину. Поэтому сейчас осматриваем погорелье на
месте "Пенат" и могилу Репина. Запущенный сад ярко-зелен.
Горизонт чист. За горизонтом -- Балтика, подступающая к Карельскому
перешейку мелким прибоем голубого Финского залива. Отлогий песчаный берег
усеян гранитными валунами. Кое-где из воды черными точками выступают
отдельные рифы. До войны здесь бывало много купальщиков -- им приходилось
долго идти от берега, чтоб погрузиться в ласковую воду по пояс. Нынче на
тоненькой бесконечной ленте пляжа нет никого -- берег залива минирован,
окаймлен на всем своем протяжении рядами колючей проволоки.
Каждые сто -- двести метров рогатки колючей проволоки выстраиваются в
каре. Внутри каждого каре виднеется дзот; он похож на паука, вытянувшего во
все стороны длинные ножки -- узкие ходы сообщения. В каждом дзоте три года
подряд сидели настороженные наблюдатели. Они видели на горизонте серые
полоски русских фортов, они разглядывали в бинокли купол кронштадтского
собора, они боялись морского десанта и губительного огня советских морских
батарей. Теперь здесь безлюдно.
Вдоль самого берега, сразу за колючей проволокой и рядом деревьев,
бежит, извиваясь, гладкое Приморское шоссе. С обеих сторон стоят веселые,
разноцветные дачи. Они то вытягиваются в линию, прерываемую садами и рощами,
то группируются в маленькие поселки. За ними, направо, сплошною стеной
тянется лес -- ели, березы, осины и ольха с рябиной, жимолостью, калиной,
крушиной и всем многообразием других кустарников. По ветвям деревьев не
прыгают белки, не видно птиц -- животные и пернатые удалились в самую глушь
лесов.
Многие дачи вдоль шоссе сожжены и разбиты. Сегодня в уцелевших
располагаются наши командные пункты, штабы, столовые, госпитали, базы
снабжения. Вокруг них на несколько часов становятся лагерем наступающие
подразделения. Сквозь ветви деревьев повсюду видны бесчисленные танки,
орудия, автомашины.
Им некогда задерживаться надолго: заправятся, перегруппируются, вновь
вытягиваются на шоссе в линию, чтобы двигаться дальше.
Гладь шоссе до Териок. Заезжаем в штаб армии. В оперативном отделе я с
Ганичевым получаю информацию от полковника. 108-й стрелковый корпус
приближается к "линии Маннергейма". Противник оказывает сопротивление. В
числе захваченных в плен -- финский майор. В районе Лаакюля наши войска вели
бой с танками "Лагуса". В пятнадцати километрах от "линии Маннергейма"
противник заканчивает систему оборонительных сооружений -- на них усиленным
темпом ведутся работы.
В час дня выезжаем дальше. Тюрисевя. Киоск военторга. Следы работы
морской артиллерии. Под высоким приберегом у Мятсякюля, в устье
Ваммелсун-йоки, перед временным мостом -- пробка. Все вокруг искрошено
артиллерией. Рядом с руинами старого строятся два новых моста. Пробка
огромная: орудия, автомашины -- почти сплошь тяжелые "студебеккеры".
Генерал, регулирующий пробку, и много помощников. Стоим часа два. Тысячи
людей ждут -- кто спит, кто ведет спокойные разговоры... Перед мостом
тяжелый спуск, за ним -- подъем. Трактор, помогающий грузовикам со снарядами
вылезать наверх. Тут же хаос надолб, частично разбомбленных, разбитых
артогнем. Ломаные стволы деревьев, свороченные камни. Справа от шоссе
песчаный взгорок прибрежья изрыт снарядами.
 Прорыв "линии Маннергейма" у Мятсякюля. Июнь 1944 г.
Наконец и наша "эмка" выбралаеь из этой гущи, но едем медленно. Все
Приморское шоссе на десятки километров захлестнуто непрерывно движущимся
потоком боерой техники. Все машины полны бойцов, украшены березками. На
борту пятитонного, переполненного солдатами грузовика мелом выведена
аккуратная надпись: "Станция назначения -- Выборг". "Вперед, на Выборг!" --
написано на гигантских стволах самоходных орудий.... "Выборг будет наш" --
на других машинах... Навстречу нескончаемому потоку машин идет группа
пленных в серых каскетках и куртках. Они не могут оторвать испуганных глаз
от нашей боевой техники. Они воочию убеждаются, как обманывало их
начальство, неизменно твердя, что у русских ничего нет и что потому, мол,
продолжение войны с русскими дело далеко не безнадежное... Зато теперь они
до конца понимают всю беспредельную глупость и подлость своего незадачливого
правительства.
Еще два дня назад, выйдя на берег в местечке Тюрисевя, за Териоками, мы
наблюдали, как эшелоны наших самолетов непрерывно бомбили опорный пункт
второй вражеской оборонительной линии -- прибрежный поселок Мятсякюля,
Взрывы поднимались над берегом сплошным каскадом огня и дыма. На шоссе
впереди рушились высокие мосты через рассекающие берег реки Патриккин-йоки и
Ваммелсун-йоки.
Сегодня, включенные в движущуюся колонну, мы проезжаем в автомашине по
новым мостам через эти реки, и Мятсякюля остается далеко позади, в тылу, со
всеми его разбитыми железобетонными дотами, с трупами вражеских солдат,
которых еще не успели убрать. Немного часов назад были взяты Лаутаранта,
Инонниеми и богатый военной историей форт Ино. Только что к нему с моря
подходили три наши канонерские лодки и четыре бронекатера, взаимодействующие
с береговым флангом наступающих войск; балтийцы разминировали берег и,
получив новое задание, отправились дальше, вдоль побережья, поддерживая
своим огнем стремительно наступающую пехоту.
Мы приближаемся к только что взятой Юкколе, которая оказалась мощным
оборонительным узлом сопротивления финнов.
Привожу здесь рассказ командира стрелкового полка С. Ф. Семенова о том,
как батальоном его полка, при поддержке минометчиков и орудий прямой
наводки, этот узел был взят.
Стрелковый полк С. Ф. Семенова вместе с минометным полком майора Шаблия
[1], взяв штурмом Юкколу, ушел вдоль Приморского шоссе вперед и затем,
непрерывно ведя бои, действовал так стремительно, что другие стрелковые
части нашей армии почти до самого Выборга не могли поспеть за ним.
"... При прорыве второй полосы обороны мой полк был в резерве, и в бой
нас ввели только 16 июня -- для штурма Юкколы. Наши бойцы были хорошо
подготовлены задолго до наступления: обучались больше месяца -- около
станции Пери: здесь были созданы укрепления, полностью имитирующие всю
финскую оборону.
Подходя к Юкколе, мы сначала встретили малое сопротивление. Когда
подошли вплотную, вижу: большая высота, укрепленный район, восемь дзотов,
шесть дотов, одна батарея 152-миллиметровок и четыре батареи
76миллиметровок. Я раз сунулся первым батальоном, мне попало. Тогда подтянул
средства и после артподготовки начал через шесть часов штурм с фланга,
справа, обойдя высоту и с нее. После артподготовки "катюш" противник был
ошеломлен, и высотою мы овладели. Тут взяли три морских 152-миллиметровых
орудия на цементных открытых площадках, две батареи 122-миллиметровых гаубиц
открытых, и две батареи 76-миллиметровок открытые, и восемь 81-миллиметровых
минометов, радиостанцию, в дотах -- по пулемету и пушке (личный состав
ушел), а в дзотах -- пулемет (пулеметчик убит был при артподготовке).
Юкколу взяли штурмом за сорок минут. Там была усиленная рота финнов, а
нас -- один батальон. Финны сильным огнем из девяти батарей били. Нас
поддерживал 534-й минометный полк и 394-й артполк подполковника Солодкова --
большую роль сыграл, подавлял дзоты прямой наводкой. Точно!.. Мы шли от
залива, и на полтора километра вглубь, через дорогу... "
В Мятсякюля мы встретились с машиной "Комсомольской правды", фотограф
Кудояров перелез к нам, сказал, что часа два назад взят склад, можно
заправиться бензином. Едем сначала туда, заправляем бак, решив осмотреть
форт Ино на обратном пути. Проехав за Ино
[1] Все подробности боевого пути своих полков рассказали мне: С. Ф.
Семенов -- в часы перед штурмом Выборга (20 июня) и Ф. Е. Шаблий уже в самом
Выборге (21 июня).
километров шесть-семь, слышим все явственней гром боя, видим в лесу
группу штурмовиков в зеленой пятнистой маскировочной робе... Мчимся по шоссе
дальше...
Слева от шоссе, по которому движутся наши части, плещет волнами Финский
залив, в нем множатся дымки кораблей Краснознаменного Балтийского флота,
огибающие мыс Молиниеми и бухту Тамикко. Справа, во всю глубину перешейка,
наступают наши дивизии. А позади, по всем ведущим из Ленинграда дорогам, уже
спешат к освобожденным селениям строители мирной жизни, какая украсит весь
этот обожженный войною край.
На перекрестках лесных дорог еще нет указателей со стрелками, что
ставятся едва успевающими идти по пятам передовых наступающих войск
дорожниками. Здесь из леса выходят одетые в маскировочные пятнистые халаты
группы штурмовиков, только что очистившие лес от разбежавшихся вражеских
автоматчиков. Здесь, за деревней, взятой меньше часа назад, мы натыкаемся на
группы домиков, из которых бойцы трофейной команды выносят, деловито
пересчитывая, кипы белья, ящики с сапогами, тюки с новым серосуконным
обмундированием. Большой склад снабжения достался в полной сохранности --
отступавшие не успели даже поджечь его.
Грохот сражения -- совсем близко. Отходя к третьей оборонительной
линии, к пресловутой, давно знакомой нам "линии Маннергейма", враг ведет
арьергардные бои, стараясь хоть чуточку задержать наши передовые части. Нет,
в этом районе сегодня никак не ждали русских гостей. Ведь нас должна была
остановить вторая оборонительная линия, строившаяся два года подряд
послушными вассалами Гитлера. Разве кто-нибудь из них мог думать, что для
прорыва и сокрушения этой линии советским войскам понадобится только два
дня?
Не доезжая Юккола, возле которого сейчас кипит бой, у деревни Вохнола,
в прибрежном лесу в отдалении виднеется за колючей проволокой, обведенный с
четырех сторон рвом и валом, квадратный холм. Идем туда, видим уходящий под
землю ход и аккуратные двери. Что может быть там, внутри? Еще один дот?
Входим. Нет, это сооружение имеет назначение совсем иное. Это -- большой
офицерский клуб, некое подземное кабаре. В нем несколько залов и отдельных
кабинетов, тщательно отделанных мореным, в узорах выжигания, деревом. Везде
--
чистота. Удобные кресла, стойки, буфеты, диваны, шкафы подобраны в
древнефинском стиле. На столах бумажные цветы, абажуры, бутылки из-под вина
и лимонада, недопитый в фаянсовых чашках кофе, флагштоки с поднятыми на них
шелковыми флажками "великой Финляндии". На потолках -- разрисованные на
картоне, огромные разноцветные гербы. По стенам на картоне неплохим
художником изображены разудало пьянствующие кабатчики, с дудками,
мандолинами, кружками пива в руках. А на буфетных стойках -- только что
откупоренные бутылки вина, посуда с недоеденными бутербродами. Все покинуто
поспешно. Даже электрический свет с ночи еще не выключен...
Беру образцы рисунков, сделанных на картоне.
Едем обратно. Ищем дорогу к форту Ино, движемся по ней в глухом лесу.
Вот в лесной чаще вышка наблюдательного пункта, лестница сожжена. НП
окружен колючей проволокой. Рядом два-три, защищенных рвами и брустверами,
бревенчатых домика. В них абсолютный хаос панического бегства, разлитый суп,
все перевернуто, перепотрошено. Книги, несколько книг стихов. Окна на
ремнях, как в вагонах. Чисто и аккуратно.
Кудояров и Рюмкин ушли искать форт. Я с Ганичевым -- тоже, в другом
направлении. Двухчасовые блужданья по безлюдному лесу, вдвоем по тропинкам,
дорожкам, просекам. Поиски форта. Нашли его, -- старый, взорванный в 1917
году, гигантский форт. Ищем новые укрепления и следы обстрела морской
артиллерией. Ни того, ни другого. Устали. Наконец -- группа пустых домиков
на холме... Был, видимо, только дозорный гарнизон. Поиски дальше. Поленницы
дров в сто пятьдесят -- двести метров длиной. Одна из них горит,
подожженная, очевидно, каким-либо затаившимся в лесу финном.
Бродим вдвоем, кружим, натыкаемся на несколько укреплений форта Ино, на
пустой городок финских блиндажей, на фундаменты бывших здесь когда-то зданий
-- фундаменты, заросшие мхом и елочками, в полтора-два человеческих роста.
Два круглых подземных сооружения, круглые башни из бетона, с колодцами в
центре, в которых были, очевидно, когда-то подающие механизмы для снарядов
дальнобойных орудий. Все это рассеяно в глухом лесу.
18 П Лукницкий
Да, все, что мы увидели в блиндажах и в домиках Ино, свидетельствует о
панике, обуревавшей гарнизон форта. Ему грозило полное окружение, -- по
лесистым холмам к берегу приближались подразделения 108-го стрелкового
корпуса, в море вырастали силуэты приближавшихся для десанта боевых
кораблей. Высаживать десант не понадобилось. Солдаты и офицеры гарнизона
бежали, оставив на столах недоеденную бобовую кашу, не успев подобрать
разбросанные повсюду боеприпасы и оперативные документы.
После долгих поисков НП возвращаемся к нему и к своей машине. Кудоярова
и Рюмкина еще нет. Осмотр блиндажика -- домика возле НП. Сидя на вытащенных
из домика табуретах, едим консервы, разглядываем какие-то артиллерийские
документы финнов на пергаментной бумаге.
Стреляем из пистолетов, давая сигнал нашим фотографам, и они
возвращаются.
Едем на машине назад, уже вечер. Станция Ино. Здесь (об этом мы узнали
в штабе) стояли финские железнодорожные бронеплощадки, -- тяжелые орудия
били отсюда, по ним и вела огонь артиллерия Кронштадта.
Опять мост перед Мятсякюля, и опять огромная пробка. Стоим на
перекрестке часа полтора, пока все тот же генерал распоряжается.
Раздавленная гусеницами телега с военным грузом. Корреспондент "Красной
звезды" в своей машине. Я сплю в "эмке", пока другие болтают. Едва пробка
пробита, едем в Териоки.
На обратном пути в Териоках в восемь вечера опять заехали в оперативный
отдел штаба армии. Выясняем обстановку. Наступление идет отлично. Один танк
-- 998-й -- прорвался уже за Усиккирку и ведет там бой. Другие танки --
перед Перк-ярви. По дорогам идет наша пехота. Встречены спешенные,
посаженные на велосипеды финские кавалеристы.
Записываю местонахождение наших частей: 64-я: стрелковая дивизия 30-го
гвардейского корпуса генерала Симоняка -- 340-й и 176-й полки, в двенадцать
часов были в районе Ирола. 173-й стрелковый полк подошел к Юлис-ярви. 456-й
подошел к Лийкола; хорошо действует и 602-й полк. В 12. 00 98-й танковый
полк вышел на железную дорогу к Лоунатийоки...
Десять вечера. Едем в Ленинград. В машине -- кошка
и котенок, взятые Ганичевым на финском складе амуниции. Кошка удивлена
и испугана. Кошек и собак в Ленинграде теперь появляется все больше,
ленинградцы по домашним животным соскучились...
17 июня. Ленинград
Ехали вчера в город, до угла Невского и Литейного, час сорок пять
минут. При въезде на шоссе видели пленных. В Алакюля осмотрели финский
командный пункт и бомбы. Дальше -- горел торф. Поперек дорог -- проломленные
частоколы, деревянные надолбы, заложенные камнями, много новой колючей
проволоки, которую финны не успели размотать.
Встретились с пограничниками -- они "выносятся вперед". Нигде не видели
разбитой техники, поваленных телеграфных столбов, испорченных дорог. Нигде
не видели жителей. Один из вражеских дотов остался совершенно целым...
Домой мы ехали через Старый Белоостров (исчезнувший город, остатки
печных труб заросли травой, густая сеть траншей, в них -- фашинник; сплошь
воронки), Серболово, Парголово, Юкки, Лесной...
В двадцать три часа тридцать минут в Лесном остановили машину у
радиорупора, услышав "Последние известия": "... Опорные пункты... ", но не
успели: передача оборвалась.
Выйдя из машины на углу Литейного, пошел к дому по Невскому. Ровно в
полночь бьют московские часы. Белая ночь. Слушаю репродуктор, облокотясь на
перила моста через канал Грибоедова. Записываю... Подошел милиционер: я --
пишущий -- "подозрителен". Проверил документы, козырнул, отошел... Я
дослушал До конца гимн...
Радио перечисляло сильные укрепления противника: Кутерселькя, Ярви,
Мустолово, Револомяки, Корпикюля. Сообщало: "... сбито тринадцать самолетов
противника... "
Сводка Информбюро сообщает о взятии сегодня на Карельском перешейке ста
населенных пунктов, семисот пленных, сорока орудий, двух танков. В числе
взятых сегодня пунктов: Юккола, Иоралла, Мастерярви, Путрола, Лейелими,
Хайли, Лоунар-йоки, Хейти, Хийкамяки, ХайДолово, Ависка, Корле, Таннари,
Лоупат, Яппиля...
18*
То самое Яппиля, где после отступления наших войск в 1941 году,
действуя в тылу врага, взрывал аэродром мой друг -- разведчик морской пехоты
Георгий Иониди!
А на других фронтах? "Авиация наносила массированные удары по
аэродромам Брест, Белосток, Барановичи, Пинск, Минск, Бобруйск, Орша... "
Сокрушенно Карельского вала
18 июня
Еще недавно, в зимнем наступлении к югу от Ленинграда, мы изучали
характер поверженных нашими войсками укреплений врага. Топкие болота,
торфяники, гладкие, как скатерть, поля не позволяли немцам ни маскироваться
самою местностью, ни использовать ее особенности для своих укреплений.
Главную надежду возлагали немцы на тщательно продуманную и разработанную
систему всех видов огневого воздействия, насыщения огнем каждого квадратного
метра обороняемой ими площади, изрезанной бесчисленными траншеями. Вся
местность порой просматривалась на десятки километров вокруг: каждый дом
любого населенного пункта, каждый бугорок, каждый ползущий по земле танк,
даже отдельный солдат были далеко видимыми мишенями.
К северу от Ленинграда, на Карельском перешейке, природная обстановка
совсем иная. Врезанные в глубокие каньоны речки и озера, холмы и густые
леса, перепутанные в бесконечном многообразии рельефа, представляют собою
созданную самою природой крепость, идеально замаскированную складками
местности и густым покровом лиственных и хвойных лесов. Наступать в такой
местности трудно, даже если бы она не была укреплена инженерными
сооружениями и не защищена огневыми точками! Один стрелок может оборонять
здесь какое-нибудь узкое дефиле от целой роты противника.
Фашистское командование, по приказу Гитлера, сделало все, чтобы
удесятерить непроходимость и обороноспособность этой природной крепости.
Противотанковые рвы с вертикальными стенами были облицованы бревенчатым
частоколом. Надолбы гранитные и железобетонные и стальные доты, покрытые
дерном, засаженные деревцами, даже на близком расстоянии сливались с
естестпенными буграми местности. Огневые позиции батарей зарывались в
гранитную толщу, на обратных скатах холмов. Все идущие к фронту дороги на
протяжении нескольких километров были пересечены во многих местах высокими
бревенчатыми заборами, проходы в которых можно было мгновенно закрыть. На
каждом повороте дороги высился очередной дот, простреливающий продольно весь
видимый из него участок. На несколько километров в глубину, параллельно
линии фронта, тянулись ряды колючей проволоки. У дорог эта проволока была
накатана во всю ширину заграждения на огромные деревянные барабаны, --
стоило их только перекатить через дорогу, чтоб готовое проволочное
заграждение, смотавшись с барабана, закрыло ее. Множество других барьеров
закрывало доступ к захваченной противником территории Карельского перешейка.
Мудрено ли, что Гитлер и его приспешники рассчитывали на абсолютную
неприступность созданной ими крепости?
10 июня первая оборонительная линия противника была прорвана нашим
непреодолимым ударом за два-три часа. Земля и все укрепления превратились в
бескрайнее сито из смыкающихся краями воронок. Ни леса, ни блиндажей, ни
рядов проволоки здесь не стало. Единственное, что сейчас ласкает здесь глаз,
-- это новые, построенные нашими дорожниками мосты через реку Сестру, новая
железная ферма, по рельсам которой уже на третий день после прорыва катятся
на север составы пассажирских и товарных вагонов, да прогуливающиеся по
обезвреженным минным полям девушки восстановительных отрядов в летних
цветистых платьях.
К северу, вглубь, за первой линией обороны, все свидетельствует о
смятении получивших внезапный и страшный удар сателлитов Гитлера и о спешке,
с которой бежали отсюда те, коим посчастливилось уцелеть. Мы видим
несожженные дома деревень и многие невзорванные мосты. Мы видим среди
воронок случайно не сокрушенные пустые доты, гарнизоны которых могли бы
сопротивляться, не будь они устрашены тем, что совершилось впереди них. Мы
видим барабаны с колючей проволокой не сдвинутыми со своих мест, хотя
выкатить их на дорогу можно было за какую-нибудь одну минуту. На обочинах
всех сохранившихся в полном порядке дорог мы видим
извлеченные нашими саперами из-под полотна фугасы. В первые два дня и
две ночи паника гнала отсюда вражеские войска; только в некоторых искусно
укрепленных населенных пунктах отдельные части оказывали отчаянное
сопротивление. Но оно тотчас же оказывалось сломлено нами. Териоки были
взяты за полтора часа.
Но, отступая, противник хорошо знал: его укроет вторая, еще более
мощная, пересекающая перешеек линия оборонительных укреплений. Надеялся, что
нашему командованию ничего не известно об этой линии, созданной под покровом
строжайшей тайны. Наши части потратили только день, чтоб произвести
окончательные рекогносцировки, подтянуть сквозь леса, холмы, болота и реки
всю громаду боевой техники и дать отдых передовым бойцам.
Здесь, перед этой линией, мы видим новые свидетельства смятения, в
которое повержен враг. Кроме бесчисленных прежних массивных надолб везде
набросаны возле дорог, но не расставлены деревянные эрзац-надолбы с пазами
для гранитных валунов, которыми их надлежало прижать к земле. Всюду -- ряды
новенькой колючей проволоки на свежих, еще не успевших потемнеть, истекающих
сосновым соком кольях. Не успели понадобиться! Пленные солдаты и офицеры
говорят, что такого артиллерийского огня и таких бомбежек, как только что
ими испытанные, они не видали ни разу за всю войну и что выдержать это ни
один человек не может. Не станем спорить!..
Вторая линия оборонительных укреплений противника, проходившая от
приморского опорного пункта Мятсякюля к Сахакюля, Кутерселькя и дальше через
весь Карельский перешеек, представляла собою своеобразную, врытую в землю,
мощную, так сказать, "стоячую" технику врага. Я уже описывал Кутерсельский
участок этой полосы укреплений. Такая же сложная и продуманная система
оборонительных сооружений пересекла весь Карельский перешеек от Мятсякюля до
Ладожского озера. Она была вмурована в естественные препятствия -- в
гранитные скалы, холмы, в ущелья, в крутые лесные берега бесчисленных рек и
озер. Сталь, бетон, гранит, железо, дерево, тол, земля и болотные топи были
сдавлены, сомкнуты, слиты здесь в один сплошной пояс.
В пятый день нашего общего наступления -- 14
июня -- этот пояс был прорван штурмом во многих местах и разлетелся на
мелкие разрушенные нами звенья. Взяв Кутерсельку, Сахакюля, Мятсякюля и
другие опорные пункты, наши войска на следующий день доломали укрепления и
стали стремительно преследовать разрозненные части противника, тщетно
переходившие в отчаянные контратаки, пытавшиеся арьергардными боями
задержать на пути к третьей линии укреплений -- к "линии Маннергейма" --
неумолимую лавину наших танков, самоходной артиллерии и пехоты.
Во взятых нами форте Ино, в Перк-ярви, в Вуооте и сотнях других
населенных пунктов мы находим следы этой безнадежной борьбы. На пути к
Выборгу нам предстоит еще немало усилий, чтобы довершить сокрушение
крепости, созданной фашистскою силой на Карельском перешейке. Но с каждым
часом боев эта крепость, пронизываемая вдоль и поперек змеистыми трещинами,
все быстрей разрушается.
Сквозь "линию Маннергейма"
19 июня
Ночью мне звонил Лезин из Москвы, чтоб я дал корреспонденцию о боях за
"линию Маннергейма". А для сего он нажал на присланного из Москвы
Капланского, дабы тот предоставил мне закрепленную ТАСС за ним машину. Но
Капланский, видимо не желая рисковать своей машиной, все же увильнул,
подсунул меня в машину другого корреспондента ТАСС -- Баранникова (у меня
своей, как известно, несмотря на все обещания ТАСС, нет).
Наступление развивается замечательно! Завтра-послезавтра будет,
конечно, взят Выборг.
Л. А. Говоров вчера получил звание Маршала Советского Союза. А. А.
Жданов и Д. Н. Гусев произведены в генерал-полковники. 21-я армия действует
здорово. Задача 23-й -- второстепенная, однако и 23-я армия движется
неплохо, взяв вчера Рауту. Начавшиеся вчера бои за "линию Маннергейма"
сегодня продолжаются на всем ее протяжении. Кое-где она уже прорвана с ходу,
и подробности прорыва мне сегодня предстоит узнать.
... Мчимся с П. Баранниковым и Е. Ратнером в дряхлой легковой машине. И
вот перед нами укрепленный район Сейвясте, на Приморском шоссе, у моря.
Это на левом, береговом фланге -- предполье "линии Маннергейма", вчера
прорванной с ходу на этом участке (раньше, чем на всех других участках, где
наши войска прорывались вчера и прорываются сегодня) передовым отрядом наших
левофланговых частей.
Сейчас об этих удачливых храбрецах говорят все.
Это -- достигший исключительного успеха стрелковый полк подполковника
С. Ф. Семенова, бравший Юккола в составе 72-й стрелковой дивизии, а здесь,
после ухода дивизии прямо на север, двинувшийся дальше по Приморскому шоссе
на Мустаоя в составе 46-й стрелковой дивизии (108-го стрелкового корпуса),
героя прорыва блокады в 1943 году подполковника С. Н. Борщева.
Это -- поддерживавший его, начиная со штурма Юккола (а раньше, вместе с
72-й дивизией, в числе первых прошедший Белоостров, вступавший в Оллилу,
Куоккалу, Териоки), минометный полк -- тяжелые 120-миллиметровые минометы --
майора Федора Шаблия.
Это -- передовая группа танков и самоходки подполковника И. Д. Котова.
Действуя вместе дружно, стремительно и до удивления бесстрашно, они
вчера прорвали с ходу "линию Маннергейма" на том узеньком перешеечке, где
Приморское шоссе севернее развилка на Карьялайнен и укрепленного района
Сейвясте проходит между Финским заливом и озером Капинолан-ярви. На этом
перешеечке расположено селение Мурила, которое и есть левый, береговой край
"линии Маннергейма", усовершенствованной после войны 1939--1940 года, когда
нашим войскам понадобились месяцы, чтобы разломать и прорвать эту
пресловутую линию, считавшуюся не менее неприступной, чем знаменитая "линия
Мажино".
Семенов, Котов, Шаблий вместе с небольшим подразделением танкистов, с
"катюшами" и при поддержке мощной морской артиллерии, бившей из Кронштадта,
и нашей авиации -- не только за несколько часов проломили все пояса "линии
Маннергейма", взяв Мурилу, но к утру, нацелясь на Роккала, прорвались
дальше, за полосу укреплений, и, вырвавшись с узости на лесисто-болотистый
простор прилегающего к бухте урочища Хумалиоки (у Иля-Кирьола), сегодня
ведут бой дальше.
Прорыв "линии Маннергейма" у Мятсякюля. Июнь 1944 г.
Наконец и наша "эмка" выбралаеь из этой гущи, но едем медленно. Все
Приморское шоссе на десятки километров захлестнуто непрерывно движущимся
потоком боерой техники. Все машины полны бойцов, украшены березками. На
борту пятитонного, переполненного солдатами грузовика мелом выведена
аккуратная надпись: "Станция назначения -- Выборг". "Вперед, на Выборг!" --
написано на гигантских стволах самоходных орудий.... "Выборг будет наш" --
на других машинах... Навстречу нескончаемому потоку машин идет группа
пленных в серых каскетках и куртках. Они не могут оторвать испуганных глаз
от нашей боевой техники. Они воочию убеждаются, как обманывало их
начальство, неизменно твердя, что у русских ничего нет и что потому, мол,
продолжение войны с русскими дело далеко не безнадежное... Зато теперь они
до конца понимают всю беспредельную глупость и подлость своего незадачливого
правительства.
Еще два дня назад, выйдя на берег в местечке Тюрисевя, за Териоками, мы
наблюдали, как эшелоны наших самолетов непрерывно бомбили опорный пункт
второй вражеской оборонительной линии -- прибрежный поселок Мятсякюля,
Взрывы поднимались над берегом сплошным каскадом огня и дыма. На шоссе
впереди рушились высокие мосты через рассекающие берег реки Патриккин-йоки и
Ваммелсун-йоки.
Сегодня, включенные в движущуюся колонну, мы проезжаем в автомашине по
новым мостам через эти реки, и Мятсякюля остается далеко позади, в тылу, со
всеми его разбитыми железобетонными дотами, с трупами вражеских солдат,
которых еще не успели убрать. Немного часов назад были взяты Лаутаранта,
Инонниеми и богатый военной историей форт Ино. Только что к нему с моря
подходили три наши канонерские лодки и четыре бронекатера, взаимодействующие
с береговым флангом наступающих войск; балтийцы разминировали берег и,
получив новое задание, отправились дальше, вдоль побережья, поддерживая
своим огнем стремительно наступающую пехоту.
Мы приближаемся к только что взятой Юкколе, которая оказалась мощным
оборонительным узлом сопротивления финнов.
Привожу здесь рассказ командира стрелкового полка С. Ф. Семенова о том,
как батальоном его полка, при поддержке минометчиков и орудий прямой
наводки, этот узел был взят.
Стрелковый полк С. Ф. Семенова вместе с минометным полком майора Шаблия
[1], взяв штурмом Юкколу, ушел вдоль Приморского шоссе вперед и затем,
непрерывно ведя бои, действовал так стремительно, что другие стрелковые
части нашей армии почти до самого Выборга не могли поспеть за ним.
"... При прорыве второй полосы обороны мой полк был в резерве, и в бой
нас ввели только 16 июня -- для штурма Юкколы. Наши бойцы были хорошо
подготовлены задолго до наступления: обучались больше месяца -- около
станции Пери: здесь были созданы укрепления, полностью имитирующие всю
финскую оборону.
Подходя к Юкколе, мы сначала встретили малое сопротивление. Когда
подошли вплотную, вижу: большая высота, укрепленный район, восемь дзотов,
шесть дотов, одна батарея 152-миллиметровок и четыре батареи
76миллиметровок. Я раз сунулся первым батальоном, мне попало. Тогда подтянул
средства и после артподготовки начал через шесть часов штурм с фланга,
справа, обойдя высоту и с нее. После артподготовки "катюш" противник был
ошеломлен, и высотою мы овладели. Тут взяли три морских 152-миллиметровых
орудия на цементных открытых площадках, две батареи 122-миллиметровых гаубиц
открытых, и две батареи 76-миллиметровок открытые, и восемь 81-миллиметровых
минометов, радиостанцию, в дотах -- по пулемету и пушке (личный состав
ушел), а в дзотах -- пулемет (пулеметчик убит был при артподготовке).
Юкколу взяли штурмом за сорок минут. Там была усиленная рота финнов, а
нас -- один батальон. Финны сильным огнем из девяти батарей били. Нас
поддерживал 534-й минометный полк и 394-й артполк подполковника Солодкова --
большую роль сыграл, подавлял дзоты прямой наводкой. Точно!.. Мы шли от
залива, и на полтора километра вглубь, через дорогу... "
В Мятсякюля мы встретились с машиной "Комсомольской правды", фотограф
Кудояров перелез к нам, сказал, что часа два назад взят склад, можно
заправиться бензином. Едем сначала туда, заправляем бак, решив осмотреть
форт Ино на обратном пути. Проехав за Ино
[1] Все подробности боевого пути своих полков рассказали мне: С. Ф.
Семенов -- в часы перед штурмом Выборга (20 июня) и Ф. Е. Шаблий уже в самом
Выборге (21 июня).
километров шесть-семь, слышим все явственней гром боя, видим в лесу
группу штурмовиков в зеленой пятнистой маскировочной робе... Мчимся по шоссе
дальше...
Слева от шоссе, по которому движутся наши части, плещет волнами Финский
залив, в нем множатся дымки кораблей Краснознаменного Балтийского флота,
огибающие мыс Молиниеми и бухту Тамикко. Справа, во всю глубину перешейка,
наступают наши дивизии. А позади, по всем ведущим из Ленинграда дорогам, уже
спешат к освобожденным селениям строители мирной жизни, какая украсит весь
этот обожженный войною край.
На перекрестках лесных дорог еще нет указателей со стрелками, что
ставятся едва успевающими идти по пятам передовых наступающих войск
дорожниками. Здесь из леса выходят одетые в маскировочные пятнистые халаты
группы штурмовиков, только что очистившие лес от разбежавшихся вражеских
автоматчиков. Здесь, за деревней, взятой меньше часа назад, мы натыкаемся на
группы домиков, из которых бойцы трофейной команды выносят, деловито
пересчитывая, кипы белья, ящики с сапогами, тюки с новым серосуконным
обмундированием. Большой склад снабжения достался в полной сохранности --
отступавшие не успели даже поджечь его.
Грохот сражения -- совсем близко. Отходя к третьей оборонительной
линии, к пресловутой, давно знакомой нам "линии Маннергейма", враг ведет
арьергардные бои, стараясь хоть чуточку задержать наши передовые части. Нет,
в этом районе сегодня никак не ждали русских гостей. Ведь нас должна была
остановить вторая оборонительная линия, строившаяся два года подряд
послушными вассалами Гитлера. Разве кто-нибудь из них мог думать, что для
прорыва и сокрушения этой линии советским войскам понадобится только два
дня?
Не доезжая Юккола, возле которого сейчас кипит бой, у деревни Вохнола,
в прибрежном лесу в отдалении виднеется за колючей проволокой, обведенный с
четырех сторон рвом и валом, квадратный холм. Идем туда, видим уходящий под
землю ход и аккуратные двери. Что может быть там, внутри? Еще один дот?
Входим. Нет, это сооружение имеет назначение совсем иное. Это -- большой
офицерский клуб, некое подземное кабаре. В нем несколько залов и отдельных
кабинетов, тщательно отделанных мореным, в узорах выжигания, деревом. Везде
--
чистота. Удобные кресла, стойки, буфеты, диваны, шкафы подобраны в
древнефинском стиле. На столах бумажные цветы, абажуры, бутылки из-под вина
и лимонада, недопитый в фаянсовых чашках кофе, флагштоки с поднятыми на них
шелковыми флажками "великой Финляндии". На потолках -- разрисованные на
картоне, огромные разноцветные гербы. По стенам на картоне неплохим
художником изображены разудало пьянствующие кабатчики, с дудками,
мандолинами, кружками пива в руках. А на буфетных стойках -- только что
откупоренные бутылки вина, посуда с недоеденными бутербродами. Все покинуто
поспешно. Даже электрический свет с ночи еще не выключен...
Беру образцы рисунков, сделанных на картоне.
Едем обратно. Ищем дорогу к форту Ино, движемся по ней в глухом лесу.
Вот в лесной чаще вышка наблюдательного пункта, лестница сожжена. НП
окружен колючей проволокой. Рядом два-три, защищенных рвами и брустверами,
бревенчатых домика. В них абсолютный хаос панического бегства, разлитый суп,
все перевернуто, перепотрошено. Книги, несколько книг стихов. Окна на
ремнях, как в вагонах. Чисто и аккуратно.
Кудояров и Рюмкин ушли искать форт. Я с Ганичевым -- тоже, в другом
направлении. Двухчасовые блужданья по безлюдному лесу, вдвоем по тропинкам,
дорожкам, просекам. Поиски форта. Нашли его, -- старый, взорванный в 1917
году, гигантский форт. Ищем новые укрепления и следы обстрела морской
артиллерией. Ни того, ни другого. Устали. Наконец -- группа пустых домиков
на холме... Был, видимо, только дозорный гарнизон. Поиски дальше. Поленницы
дров в сто пятьдесят -- двести метров длиной. Одна из них горит,
подожженная, очевидно, каким-либо затаившимся в лесу финном.
Бродим вдвоем, кружим, натыкаемся на несколько укреплений форта Ино, на
пустой городок финских блиндажей, на фундаменты бывших здесь когда-то зданий
-- фундаменты, заросшие мхом и елочками, в полтора-два человеческих роста.
Два круглых подземных сооружения, круглые башни из бетона, с колодцами в
центре, в которых были, очевидно, когда-то подающие механизмы для снарядов
дальнобойных орудий. Все это рассеяно в глухом лесу.
18 П Лукницкий
Да, все, что мы увидели в блиндажах и в домиках Ино, свидетельствует о
панике, обуревавшей гарнизон форта. Ему грозило полное окружение, -- по
лесистым холмам к берегу приближались подразделения 108-го стрелкового
корпуса, в море вырастали силуэты приближавшихся для десанта боевых
кораблей. Высаживать десант не понадобилось. Солдаты и офицеры гарнизона
бежали, оставив на столах недоеденную бобовую кашу, не успев подобрать
разбросанные повсюду боеприпасы и оперативные документы.
После долгих поисков НП возвращаемся к нему и к своей машине. Кудоярова
и Рюмкина еще нет. Осмотр блиндажика -- домика возле НП. Сидя на вытащенных
из домика табуретах, едим консервы, разглядываем какие-то артиллерийские
документы финнов на пергаментной бумаге.
Стреляем из пистолетов, давая сигнал нашим фотографам, и они
возвращаются.
Едем на машине назад, уже вечер. Станция Ино. Здесь (об этом мы узнали
в штабе) стояли финские железнодорожные бронеплощадки, -- тяжелые орудия
били отсюда, по ним и вела огонь артиллерия Кронштадта.
Опять мост перед Мятсякюля, и опять огромная пробка. Стоим на
перекрестке часа полтора, пока все тот же генерал распоряжается.
Раздавленная гусеницами телега с военным грузом. Корреспондент "Красной
звезды" в своей машине. Я сплю в "эмке", пока другие болтают. Едва пробка
пробита, едем в Териоки.
На обратном пути в Териоках в восемь вечера опять заехали в оперативный
отдел штаба армии. Выясняем обстановку. Наступление идет отлично. Один танк
-- 998-й -- прорвался уже за Усиккирку и ведет там бой. Другие танки --
перед Перк-ярви. По дорогам идет наша пехота. Встречены спешенные,
посаженные на велосипеды финские кавалеристы.
Записываю местонахождение наших частей: 64-я: стрелковая дивизия 30-го
гвардейского корпуса генерала Симоняка -- 340-й и 176-й полки, в двенадцать
часов были в районе Ирола. 173-й стрелковый полк подошел к Юлис-ярви. 456-й
подошел к Лийкола; хорошо действует и 602-й полк. В 12. 00 98-й танковый
полк вышел на железную дорогу к Лоунатийоки...
Десять вечера. Едем в Ленинград. В машине -- кошка
и котенок, взятые Ганичевым на финском складе амуниции. Кошка удивлена
и испугана. Кошек и собак в Ленинграде теперь появляется все больше,
ленинградцы по домашним животным соскучились...
17 июня. Ленинград
Ехали вчера в город, до угла Невского и Литейного, час сорок пять
минут. При въезде на шоссе видели пленных. В Алакюля осмотрели финский
командный пункт и бомбы. Дальше -- горел торф. Поперек дорог -- проломленные
частоколы, деревянные надолбы, заложенные камнями, много новой колючей
проволоки, которую финны не успели размотать.
Встретились с пограничниками -- они "выносятся вперед". Нигде не видели
разбитой техники, поваленных телеграфных столбов, испорченных дорог. Нигде
не видели жителей. Один из вражеских дотов остался совершенно целым...
Домой мы ехали через Старый Белоостров (исчезнувший город, остатки
печных труб заросли травой, густая сеть траншей, в них -- фашинник; сплошь
воронки), Серболово, Парголово, Юкки, Лесной...
В двадцать три часа тридцать минут в Лесном остановили машину у
радиорупора, услышав "Последние известия": "... Опорные пункты... ", но не
успели: передача оборвалась.
Выйдя из машины на углу Литейного, пошел к дому по Невскому. Ровно в
полночь бьют московские часы. Белая ночь. Слушаю репродуктор, облокотясь на
перила моста через канал Грибоедова. Записываю... Подошел милиционер: я --
пишущий -- "подозрителен". Проверил документы, козырнул, отошел... Я
дослушал До конца гимн...
Радио перечисляло сильные укрепления противника: Кутерселькя, Ярви,
Мустолово, Револомяки, Корпикюля. Сообщало: "... сбито тринадцать самолетов
противника... "
Сводка Информбюро сообщает о взятии сегодня на Карельском перешейке ста
населенных пунктов, семисот пленных, сорока орудий, двух танков. В числе
взятых сегодня пунктов: Юккола, Иоралла, Мастерярви, Путрола, Лейелими,
Хайли, Лоунар-йоки, Хейти, Хийкамяки, ХайДолово, Ависка, Корле, Таннари,
Лоупат, Яппиля...
18*
То самое Яппиля, где после отступления наших войск в 1941 году,
действуя в тылу врага, взрывал аэродром мой друг -- разведчик морской пехоты
Георгий Иониди!
А на других фронтах? "Авиация наносила массированные удары по
аэродромам Брест, Белосток, Барановичи, Пинск, Минск, Бобруйск, Орша... "
Сокрушенно Карельского вала
18 июня
Еще недавно, в зимнем наступлении к югу от Ленинграда, мы изучали
характер поверженных нашими войсками укреплений врага. Топкие болота,
торфяники, гладкие, как скатерть, поля не позволяли немцам ни маскироваться
самою местностью, ни использовать ее особенности для своих укреплений.
Главную надежду возлагали немцы на тщательно продуманную и разработанную
систему всех видов огневого воздействия, насыщения огнем каждого квадратного
метра обороняемой ими площади, изрезанной бесчисленными траншеями. Вся
местность порой просматривалась на десятки километров вокруг: каждый дом
любого населенного пункта, каждый бугорок, каждый ползущий по земле танк,
даже отдельный солдат были далеко видимыми мишенями.
К северу от Ленинграда, на Карельском перешейке, природная обстановка
совсем иная. Врезанные в глубокие каньоны речки и озера, холмы и густые
леса, перепутанные в бесконечном многообразии рельефа, представляют собою
созданную самою природой крепость, идеально замаскированную складками
местности и густым покровом лиственных и хвойных лесов. Наступать в такой
местности трудно, даже если бы она не была укреплена инженерными
сооружениями и не защищена огневыми точками! Один стрелок может оборонять
здесь какое-нибудь узкое дефиле от целой роты противника.
Фашистское командование, по приказу Гитлера, сделало все, чтобы
удесятерить непроходимость и обороноспособность этой природной крепости.
Противотанковые рвы с вертикальными стенами были облицованы бревенчатым
частоколом. Надолбы гранитные и железобетонные и стальные доты, покрытые
дерном, засаженные деревцами, даже на близком расстоянии сливались с
естестпенными буграми местности. Огневые позиции батарей зарывались в
гранитную толщу, на обратных скатах холмов. Все идущие к фронту дороги на
протяжении нескольких километров были пересечены во многих местах высокими
бревенчатыми заборами, проходы в которых можно было мгновенно закрыть. На
каждом повороте дороги высился очередной дот, простреливающий продольно весь
видимый из него участок. На несколько километров в глубину, параллельно
линии фронта, тянулись ряды колючей проволоки. У дорог эта проволока была
накатана во всю ширину заграждения на огромные деревянные барабаны, --
стоило их только перекатить через дорогу, чтоб готовое проволочное
заграждение, смотавшись с барабана, закрыло ее. Множество других барьеров
закрывало доступ к захваченной противником территории Карельского перешейка.
Мудрено ли, что Гитлер и его приспешники рассчитывали на абсолютную
неприступность созданной ими крепости?
10 июня первая оборонительная линия противника была прорвана нашим
непреодолимым ударом за два-три часа. Земля и все укрепления превратились в
бескрайнее сито из смыкающихся краями воронок. Ни леса, ни блиндажей, ни
рядов проволоки здесь не стало. Единственное, что сейчас ласкает здесь глаз,
-- это новые, построенные нашими дорожниками мосты через реку Сестру, новая
железная ферма, по рельсам которой уже на третий день после прорыва катятся
на север составы пассажирских и товарных вагонов, да прогуливающиеся по
обезвреженным минным полям девушки восстановительных отрядов в летних
цветистых платьях.
К северу, вглубь, за первой линией обороны, все свидетельствует о
смятении получивших внезапный и страшный удар сателлитов Гитлера и о спешке,
с которой бежали отсюда те, коим посчастливилось уцелеть. Мы видим
несожженные дома деревень и многие невзорванные мосты. Мы видим среди
воронок случайно не сокрушенные пустые доты, гарнизоны которых могли бы
сопротивляться, не будь они устрашены тем, что совершилось впереди них. Мы
видим барабаны с колючей проволокой не сдвинутыми со своих мест, хотя
выкатить их на дорогу можно было за какую-нибудь одну минуту. На обочинах
всех сохранившихся в полном порядке дорог мы видим
извлеченные нашими саперами из-под полотна фугасы. В первые два дня и
две ночи паника гнала отсюда вражеские войска; только в некоторых искусно
укрепленных населенных пунктах отдельные части оказывали отчаянное
сопротивление. Но оно тотчас же оказывалось сломлено нами. Териоки были
взяты за полтора часа.
Но, отступая, противник хорошо знал: его укроет вторая, еще более
мощная, пересекающая перешеек линия оборонительных укреплений. Надеялся, что
нашему командованию ничего не известно об этой линии, созданной под покровом
строжайшей тайны. Наши части потратили только день, чтоб произвести
окончательные рекогносцировки, подтянуть сквозь леса, холмы, болота и реки
всю громаду боевой техники и дать отдых передовым бойцам.
Здесь, перед этой линией, мы видим новые свидетельства смятения, в
которое повержен враг. Кроме бесчисленных прежних массивных надолб везде
набросаны возле дорог, но не расставлены деревянные эрзац-надолбы с пазами
для гранитных валунов, которыми их надлежало прижать к земле. Всюду -- ряды
новенькой колючей проволоки на свежих, еще не успевших потемнеть, истекающих
сосновым соком кольях. Не успели понадобиться! Пленные солдаты и офицеры
говорят, что такого артиллерийского огня и таких бомбежек, как только что
ими испытанные, они не видали ни разу за всю войну и что выдержать это ни
один человек не может. Не станем спорить!..
Вторая линия оборонительных укреплений противника, проходившая от
приморского опорного пункта Мятсякюля к Сахакюля, Кутерселькя и дальше через
весь Карельский перешеек, представляла собою своеобразную, врытую в землю,
мощную, так сказать, "стоячую" технику врага. Я уже описывал Кутерсельский
участок этой полосы укреплений. Такая же сложная и продуманная система
оборонительных сооружений пересекла весь Карельский перешеек от Мятсякюля до
Ладожского озера. Она была вмурована в естественные препятствия -- в
гранитные скалы, холмы, в ущелья, в крутые лесные берега бесчисленных рек и
озер. Сталь, бетон, гранит, железо, дерево, тол, земля и болотные топи были
сдавлены, сомкнуты, слиты здесь в один сплошной пояс.
В пятый день нашего общего наступления -- 14
июня -- этот пояс был прорван штурмом во многих местах и разлетелся на
мелкие разрушенные нами звенья. Взяв Кутерсельку, Сахакюля, Мятсякюля и
другие опорные пункты, наши войска на следующий день доломали укрепления и
стали стремительно преследовать разрозненные части противника, тщетно
переходившие в отчаянные контратаки, пытавшиеся арьергардными боями
задержать на пути к третьей линии укреплений -- к "линии Маннергейма" --
неумолимую лавину наших танков, самоходной артиллерии и пехоты.
Во взятых нами форте Ино, в Перк-ярви, в Вуооте и сотнях других
населенных пунктов мы находим следы этой безнадежной борьбы. На пути к
Выборгу нам предстоит еще немало усилий, чтобы довершить сокрушение
крепости, созданной фашистскою силой на Карельском перешейке. Но с каждым
часом боев эта крепость, пронизываемая вдоль и поперек змеистыми трещинами,
все быстрей разрушается.
Сквозь "линию Маннергейма"
19 июня
Ночью мне звонил Лезин из Москвы, чтоб я дал корреспонденцию о боях за
"линию Маннергейма". А для сего он нажал на присланного из Москвы
Капланского, дабы тот предоставил мне закрепленную ТАСС за ним машину. Но
Капланский, видимо не желая рисковать своей машиной, все же увильнул,
подсунул меня в машину другого корреспондента ТАСС -- Баранникова (у меня
своей, как известно, несмотря на все обещания ТАСС, нет).
Наступление развивается замечательно! Завтра-послезавтра будет,
конечно, взят Выборг.
Л. А. Говоров вчера получил звание Маршала Советского Союза. А. А.
Жданов и Д. Н. Гусев произведены в генерал-полковники. 21-я армия действует
здорово. Задача 23-й -- второстепенная, однако и 23-я армия движется
неплохо, взяв вчера Рауту. Начавшиеся вчера бои за "линию Маннергейма"
сегодня продолжаются на всем ее протяжении. Кое-где она уже прорвана с ходу,
и подробности прорыва мне сегодня предстоит узнать.
... Мчимся с П. Баранниковым и Е. Ратнером в дряхлой легковой машине. И
вот перед нами укрепленный район Сейвясте, на Приморском шоссе, у моря.
Это на левом, береговом фланге -- предполье "линии Маннергейма", вчера
прорванной с ходу на этом участке (раньше, чем на всех других участках, где
наши войска прорывались вчера и прорываются сегодня) передовым отрядом наших
левофланговых частей.
Сейчас об этих удачливых храбрецах говорят все.
Это -- достигший исключительного успеха стрелковый полк подполковника
С. Ф. Семенова, бравший Юккола в составе 72-й стрелковой дивизии, а здесь,
после ухода дивизии прямо на север, двинувшийся дальше по Приморскому шоссе
на Мустаоя в составе 46-й стрелковой дивизии (108-го стрелкового корпуса),
героя прорыва блокады в 1943 году подполковника С. Н. Борщева.
Это -- поддерживавший его, начиная со штурма Юккола (а раньше, вместе с
72-й дивизией, в числе первых прошедший Белоостров, вступавший в Оллилу,
Куоккалу, Териоки), минометный полк -- тяжелые 120-миллиметровые минометы --
майора Федора Шаблия.
Это -- передовая группа танков и самоходки подполковника И. Д. Котова.
Действуя вместе дружно, стремительно и до удивления бесстрашно, они
вчера прорвали с ходу "линию Маннергейма" на том узеньком перешеечке, где
Приморское шоссе севернее развилка на Карьялайнен и укрепленного района
Сейвясте проходит между Финским заливом и озером Капинолан-ярви. На этом
перешеечке расположено селение Мурила, которое и есть левый, береговой край
"линии Маннергейма", усовершенствованной после войны 1939--1940 года, когда
нашим войскам понадобились месяцы, чтобы разломать и прорвать эту
пресловутую линию, считавшуюся не менее неприступной, чем знаменитая "линия
Мажино".
Семенов, Котов, Шаблий вместе с небольшим подразделением танкистов, с
"катюшами" и при поддержке мощной морской артиллерии, бившей из Кронштадта,
и нашей авиации -- не только за несколько часов проломили все пояса "линии
Маннергейма", взяв Мурилу, но к утру, нацелясь на Роккала, прорвались
дальше, за полосу укреплений, и, вырвавшись с узости на лесисто-болотистый
простор прилегающего к бухте урочища Хумалиоки (у Иля-Кирьола), сегодня
ведут бой дальше.
 Вперед, на Выборг! Приморское шоссе. Июнь 1944 г.
Когда они вырвались в этот район, то прошли сквозь него в Макслахти,
угрожая гарнизону, оставшемуся левее города Койвисто, отрезать ему все пути
отступления по суше.
И финны из Койвисто и его окрестностей поспешно бежали на север, так
как и отступление морем на острова Бьеркского архипелага им уже тоже было
отрезано: они увидели на горизонте корабли Балтийского флота шедшие
высаживать десант в Койвисто.
Десанта, как я уже говорил, высаживать не пришлось: финны бежали.
Чуть дальше, в пути, мы увидели дымы и силуэты кораблей -- балтийцы
высадились в бухте Хумалиоки уже пройденной передовой группой Семенова,
Котова, Шаблия. Вместе с подоспевающими по Приморскому шоссе сухопутными
частями моряки сейчас входят в опустевшее Койвисто, вылавливая в лесах
последние группы автоматчиков.
Туда же, сквозь проломленную на Приморском шоссе "линию Маннергейма",
спешим и мы. И та обстановка,
о которой я только что рассказал, стала ясной для меня сегодня только
во второй половине дня, когда мы сами, побывав в Койвисто, миновали
Макслахти и поспешили дальше...
Стрелковый полк Семенова, "оседлавший" сегодня вместе с минометчиками
Шаблия самоходки подполковника И. Д. Котова и трофейные автомашины, третий
день никто не может догнать, -- он, с невероятной стремительностью двигаясь
вперед, уничтожая, беря в плен и гоня врага, оторвался от всей нашей
наступающей армии, и в штабе 108-го корпуса Тихонова о нем, как и о его
соратниках, весьма беспокоятся. Семенову радирован приказ: остановиться,
чтоб не попасть в "мешок", и вернуться к нашим, не поспевающим за ним
войскам. Но он выпросил разрешение на свою ответственность, за свой страх и
риск ("Люди рвутся вперед, никто останавливаться не хочет!") двигаться
дальше, как самостоятельный, передовой отряд...
А пока... Стремимся догнать смельчаков и мы, но, задерживаемые на шоссе
пробками, движемся вместе со всем громадным потоком пехоты и боевой
техники... Вот краткие записи в полевой тетради.
... Сейвясте! На Приморском шоссе раздавленные нашими танками немецкие
пушки. Среди полевых цветов, между деревьями девственного леса тянутся ряды
колючей проволоки. Они поднимаются по крутому прибрежному склону. Гранитные
надолбы встают рядами то здесь, то там. Мы движемся в потоке за орудием с
надписью: "Подарок от комсомольцев и молодежи Красноярска". В синем море,
параллельно сухопутным войскам, идут корабли Балтфлота. На высотке, перед
селом Сейвясте, -- наблюдательный пункт, что-то орущее радио. Укрепления:
дот, дзоты, траншеи, проволока. По обочинам шоссе -- наши минеры с собаками.
Сейвясте -- большое село, хибары рыбаков заняты летчиками. Десантные
катера--у берега. Рифы. Бухта. Ярко-цветные новые домики. Катера. Пыль.
Извивы шоссе. Подбитый танк No 409. Песок.
Дальше, за Мустаоя, перед рокадной дорогой, отходящей от берега в глубь
Карельского перешейка (и там пересекающей обе железные дороги на Выборг),
тянутся глубокие траншеи. За ними -- снова надолбы в четыре ряда, за
надолбами противотанковый ров. Широкой полосой дальше темнеют минные поля --
взорванные, Перепаханные, обезвреженные.
Вот над самой дорогой вывороченные стены железобетонного дота, за ним
опять (уже на перешеечке между Финским заливом и озером Капинолан-ярви) ряды
проволочных заграждений, от которых остались только вывороченные колья да
разметанная проволока. Дальше -- бесчисленные бугры свеженарытой земли. Это
очищенные нами ячейки автоматчиков, пулеметные гнезда, дзоты. Здесь вчера
дрался стрелковый полк Семенова.
Таммикко, влево от дороги. Ярки на солнце цветы.
Гранитные верстовые столбы. Финские надписи на деревьях. Старые,
поросшие травой землянки. Танки. Гармонь.
Развилок на Карьялайнен. Регулировщица отдает честь. Траншеи справа,
фронтом вправо. Землянки.
Сирень на машинах. Надолбы. Четыре ряда -- гранит! Ров. Взорванный дот
(старый), вывороченные стены. Проволочные заграждения. Траншеи в песке.
Опять ряды кольев -- уже без проволоки. Стрелковые ячейки -- наши, свежие --
рассеяны в сухом сосновом лесу.
Это Мурила. Здесь после боя под Мустаоя полк Семенова вел следующий
ожесточенный бой, пробивая "линию Маннергейма".
Связь цела. Справа -- озеро. Чистый лес. Наш дзот, старый.
В северном конце перешеечка, там, где сегодня, на месте взорванного
вчера, возник новый мост, где сегодня козыряет проезжающим офицерам
белокурая регулировщица, -- снова россыпь новых ячеек, сплошь усеявших лес.
Вот как -- в полдень 20 июня -- уже в Эмисуомяки, настигнутый мною там,
командир стрелкового полка подполковник С. Ф. Семенов рассказывал мне о
прорыве его полком "линии Маннергейма":
"... Зная отчетную карту противника, командир дивизии предупреждал: на
"линии Маннергейма" не зарываться, быть осторожным. Я приказал первому
батальону капитана Комарова подойти в разведку, а сам с другими батальонами
остался в трех километрах. Группы пошли. Командир батальона не понял задачи,
сообщил: "Ничего особенного, можно атаковать!" Я приказал ему подвести весь
батальон на рубеж сосредоточения, для
атаки. Батальон Комарова этим и занялся. Я с пятью командирами вышел на
гребень высотки вперед, прошел по гребню до указанного мною Комарову места
-- почти до "линии Маннергейма"; наблюдаю сверху за нею. Вдруг вижу: справа
большая группа финнов и две пушки. В чем дело? Пехота Комарова должна быть
впереди?!.. А ее нет, -- здесь только финны!.. Я скорее назад!.. Вижу:
привязан неправильно!.. Оказалось: батальон занялся сосредоточением для а
гаки, не дойдя двух километров до указанного места!.
Построил батальон: "Доложите, кто вам сказал, что вы в двухстах метрах
от противника? Вы -- в двух километрах!.. Голова долой за обман!"
Снимаю Комарова, командира батальона: "Через два часа не выполните
задачи -- расстреляю перед строем!.. -- И к батальону: -- Если любите
командира -- возьмете линию!"
Командир не только выполнил задачу, но и просочился за надолбы и прошел
проволочные заграждения, сделал шесть проходов. И я ввел полк. И стал быстро
развивать наступление, зная, что меня будут накрывать огнем. И "катюши" со
мной!..
А капитан Комаров -- командир опытный, дерзкий. Имеет орден Александра
Невского, за Псков. До этого, в Мустаоя, без моего приказа (так я учил их
изучать и щупать противника) нашел брешь и ввел батальон. Приказ ему был:
стоять, изучать, а он двинулся вперед, вкопался, а раз так, то я ввел два
других батальона и -- пошли! Виноват оказался его заместитель, капитан
Герасимов. Я его хотел расстрелять, но ошибку свою он исправил, теперь
представлен к награде. Герасимов сильно контужен, сегодня ему уже лучше!.. "
... Проезжаем Мурилу. Гладкое поле. Взгорок. Взорванный мост. Береговая
терраса: луг, дома, рожь. Море сверкает. Стоит у шоссе грузовик с милицией в
малиновых фуражках...
"... У Мурила, -- рассказывал дальше Семенов, -- мы поставили дымовую
завесу. Он думал, что мы -- десант, и вся его артиллерия била по дымовой
завесе, а там пусто или финны. А мы тут -- подползли, вступили в гранатный
бой, он швыряется гранатами. И мы тогда -- врукопашную. Финны дрались сильно
-- головорезы. И снова они -- гранатами. Я отвел своих и накрыл финнов
"катюшами".
И через три минуты -- пленные, оглушенные. И пожгло много -- черные
лежали... Двадцать пять самолетов на нас налетели, немецких, бомбили во
время боя. Но и наши самолеты налетели, помогали нам, однако и нам попадало
-- раз шесть... Бойцы наши крепко дрались в Муриле... Артиллерист старшина
Иванов геройски погиб: увидел батарею противника, вытащил пушку
семидесятишестимиллиметровую и бил прямой наводкой с двухсот метров, пока не
расстрелял противника и не погиб сам. Представлен к Герою Советского
Союза... А их пушка пробила самоходку, и командир батареи самоходок тяжело
ранен...
Хорошее взаимодействие было артиллерии и кораблей Балтфлота,
четырнадцать судов, катера, эсминцы, канонерки!..
Мы рассчитывали, что тут сил у него много, а он живой силой не закрепил
линию. Если б я сделал паузу на два часа, не прошел бы, а я на их плечах --
и они не успели даже расставить пушки! Десять станковых пулеметов противник
оставил здесь, да четыре батареи, да ручные пулеметы...
Взяв Мурилу, я стал быстро развивать наступление, и "катюши" -- со
мной. Был приказ: нашей дивизии овладеть Хумалиоки. Эта задача была
поставлена нами в Муриле. Ворвавшись в Хумалиоки, я не стал дожидаться
дивизии, решил силами полка продолжать наступление до перекрестка
Макслахти... "
... И вот мы сегодня движемся от Мурилы к бухте Хумалиоки. Береговой
уступ обрывист, шоссе идет высоко над берегом, вьется над маленькими
полукружиями пляжей, -- нет, кажется, места лучше для обороны, если б оно
даже не было полно похожих на зубы дракона гранитных надолб, дотов, дзотов,
рвов, траншей, рядов колючей проволоки... Вот в трех километрах за Мурилой
они опять пересекают узкий проход, тянутся вдоль всей береговой гряды --
бесчисленные дзоты, со вчерашнего дня опустелые, разбитые, никому больше не
угрожающие. Вот немецкое орудие, брошенное за бруствером вместе с передком,
полным неиспользованных снарядов. Вот огромный ствол другого, уже
извлеченный из разрушенного дзота и положенный на бревенчатые полозья, чтоб
его можно было увезти гусеничным тягачом. Вот две противотанковые пушки...
Здесь полк Семенова преодолел
сильнейшее сопротивление, здесь минометный полк Шаблия выпустил больше
тысячи мин, прежде чем вместе с Семеновым достичь Хумалиоки...
Опять лес, сосна, слева -- мыс, длинный, лесистый. Сплошь россыпью в
мелком лесу -- стрелковые ячейки, оставшиеся от вчерашнего боя. Всюду в
лесу, куда ни обратить взор, видны богатые, взятые нами в бою трофеи.
Идут пэтээровцы [1]. Высота 39. Внизу -- пляж. Мы -- в бухте Хумалиоки.
В начале "линии Маннергейма" техника врага уничтожена, искромсана нашим
огнем, раздавлена танками, разбита. Здесь, в тылу этой линии, как
свидетельство растерянности врага -- невредимые пушки, брошенные застигнутой
врасплох и в панике побежавшей прислугой. Отсюда -- влево -- открыт путь в
Койвисто, прямо вперед, на север, -- к Выборгу, а вправо -- к тылам всей
"линии Маннергейма", которую сегодня еще пробивают во многих местах наши
войска... Семенов, Котов, Шаблий и их соратники в боях за Мустаоя (взятое за
два часа!), за Мурилу, за Хумалиоки смело пренебрегли присутствием у себя в
тылу финнов, не побоялись быть отрезанными от прочих частей, ворвались в
самую глубь вражеской обороны и, не дав финнам времени даже расставить
готовые к бою пушки как надо, кроша прислугу, расчеты пулеметов, минометов,
привели противника в такое смятение, что тот не успел организовать оборону.
Финны метались по своим укреплениям, будто схваченные внезапным пожаром.
"Если б я сделал паузу хотя бы на час, -- повторил мне Семенов, -- я не
прошел бы". Но паузы ни он, ни его боевые товарищи не сделали, помчали свои
полки дальше, несмотря на огонь дальнобойной морской артиллерии противника с
южной оконечности острова Бьерке.
Здесь, у железнодорожной станции Хумалиоки, Семенов, знавший систему
расположения морской артиллерии врага на Бьерке, правильно рассчитал, что
довернуть орудия так, чтобы стрелять по самой станции и севернее ее, финны
не могут -- снаряды ложились не дальше бухты. Поэтому весь передовой отряд
Семенова, Котова, Шаблия вместе с "катюшами" и небольшой группой танков не
задержался и здесь и, не ожидая приказа, поспешил дальше прямиком на
Макслахти, оставив влево за собой Койвисто.
[1] Бойцы с противотанковыми ружьями.
"Все доказывали, что минометчики не могут идти впереди! -- при встрече
в Выборге смеясь говорил мне Федор Шаблий. -- А мы на самоходках, на всяких
машинах вместе с полком Семенова домчались до Макслахти... "
А Семенов в Эмисуомяки рассказал мне:
"Когда я оседлал перекресток Макслахти, слышу, справа подходит наша
Триста четырнадцатая дивизия[1]. Значит, порядок! Я решил продолжать
преследование противника, посадил мою пехоту на тридцать самоходок Котова и
гнал врага в сторону Кирьола. Здесь встречен был ротой финнов и двумя
батареями ("комсомолок", взятых у нас в сорок первом году). Разгромили мы
роту, я забрал батареи -- четыре ствола. Остальное финны бросили и в панике
из-под огня бежали. Тогда я с ходу поставил задачу: преследовать главные
силы отступающего противника, взять Роккала. Мы с боем -- Котов, Шаблий и я
-- прорвались до Роккала. Пройдя двенадцать километров, получаю приказ:
"Назад!" Командир корпуса подумал, что мы попали в "мешок". Решив, что в
случае чего займу круговую оборону, стал просить разрешения двигаться
дальше, даже лишившись поддержки самоходок и минометчиков, -- их у меня
отобрали, повернув в тыл "линии Маннергейма", для штурма ее с южной стороны,
в районе Соммы. И мне разрешили. Я пошел всем полком дальше. Командир
корпуса даже объявил: "Потеряем полк, но узнаем обстановку!"
И когда я взял Роккала, то здесь стал, потому что командир дивизии дал
мне категорический приказ: "Стой, а не то расстреляю! Погубишь полк!" Я
подчинился, притом со спокойной душой, потому что, начиная от Макслахти, я
попал в непосредственное подчинение корпуса, как отдельный отряд, изучающий
противника и с ходу сбивающий его...
Наступление на "линию Маннергейма" я начал в двадцать три часа
семнадцатого июня. До двенадцати часов дня восемнадцатого июня пришел в
Роккала...
Закрепившись в Роккала, стал изучать противника. Артиллерия и часть
людей, вымотанных за эти тринадцать часов наступления таким темпом, от меня
отстали. Только "катюши" со мной шли. От Мурило до Роккала двадцать восемь
километров за тринадцать часов прошли!
[1] Передислоцированная сюда из глубины перешейка отдельная стрелковая
дивизия.
В общем, здесь, на четвертом промежуточном укрепленном рубеже,
противник задержал меня на восемь часов. Оставил четыре батареи (состоявшие
из стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц) и четыре исправные пятитонные
машины. У Мурилы я взял три батареи, у Макслахти две батареи, а четыре
взятых у Роккала батареи состояли из стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц,
Ну, провод, аппараты и прочее... Здесь мне вернули всю технику, и мы стали
форсировать реку Роккалан-йоки.
Бой начался в ночь на девятнадцатое июня, -- весь полк введен. У финнов
был примерно батальон. Мы застрелили в бою финского майора с тремя орденами.
Снами были в бою тридцать самоходок, полк "катюш" (работавший с мгновенной
готовностью: "Куда вам огонек?"), три артполка и полк бронемашин (он мало
мог помочь нам). Самоходки подполковника Котова, как и везде, действовали
отлично!
Бой за Роккалан-йоки кончился, когда противник пошел второй раз в
контратаку. Но я не отдал плацдарм. Приказ был: окопаться и организовать
систему огня (а мне не верили, что я на той стороне, и командир корпуса
прислал проверить, и тогда -- всю технику направили сюда). Здесь я
закрепился, дал людям отдых. Но люди, увлеченные боем, не хотели выходить из
него, шестая рота ушла в бой без приказа, -- подполковник Иван Дмитриевич
Котов захватил ее на свои самоходки. Командир шестой роты, лейтенант
Постолов -- новый. Вернулись, однако, все целы.
В районе Роккала преодолел шесть рядов колючей проволоки,
противотанковый ров, железобетонные доты, минирование, реку. Мост он
взорвал, форсировали реку вплавь...
А всего потерял я сорок офицеров, триста двадцать четыре человека.
Остров Ревансаари пал, когда мы перерезали перекресток. Позже туда
пошла моя рота, седьмая, под командованием старшего лейтенанта Костромина
(новый). Представлен к ордену Отечественной войны первой степени... "
... Этот закончившийся сегодня бой за Роккалан-йоки полк Семенова вел,
как я уже сказал, вместе с другими, подошедшими сюда передовыми частями
наступающих войск, но и здесь Семенов опередил всех, первым форсировав реку
Роккалан-йоки и захватив плацдарм на ее правом берегу.
"... Я предвидел обстановку, -- рассказывает Семенов, -- река сорок
метров ширины. Я приказал двум самоходным пушкам и штурмовому отряду
(тридцать человек), под командой инженера старшего лейтенанта Иванского,
захватить переправу, но они не только захватили, а и обеспечили форсирование
так, что на их плечах весь полк переправился на ту сторону. Противник начал
бить прямой наводкой по наступающим. Тогда я крикнул: "Ввести полный
штурмовой батальон, под командованием капитана Комарова, захватить
плацдарм!" -- для развития успеха дальнейшего наступления по правому берегу
реки Роккалан-йоки. Та группа действовала. Развернулись, окопались и с левой
стороны нашли для нас брод. Самоходки и дивизион "катюш" поддерживали огонь.
Финны прекратили сопротивление. Я ввел полный полк, сам переправился тоже.
Финны попятились в лес, метров на двести от "катюш", за красный дом. Через
тридцать минут мы рассредоточились для боя. Финны двинулись в контратаку с
правого фланга, из леса, -- усиленная рота с четырьмя танками. Мы отбили ее.
Через пятнадцать минут -- вторая контратака двумя усиленными ротами с
четырьмя танками и огнем четырех батарей. Хотели нас замкнуть на плацдарме,
с флангов. А я самоходками и пулеметами прикрыл фланги. Самоходки били по
бегущим в рост людям, покосили человек шестьдесят -- семьдесят, -- вот тут и
убили их майора, который шел на двести метров от нас с людьми... А мост
через эту реку взорвался от детонации -- из-за грома нашей артиллерии.
Провода были перерезаны нашей штурмовой группой, а взрывчатка осталась, --
очень чувствительные были детонаторы, а мы около четырехсот снарядов
"сработали" -- хорошая "сработка" с подполковником Котовым была!.. А капитан
Комаров в этом бою тяжело ранен, отправлен в госпиталь. Теперь, за прорыв
"линии Маннергейма" и за то, что сделал здесь, он представлен к ордену
Красного Знамени... "
... Для нас, добравшихся в Хумалиоки, -- взятые вчера
Макслахти и сегодня ночью правый берег Роккалан-йоки еще впереди. Нам
нужно взглянуть на Койвисто, а по пути побывать в штабе корпуса.
Командир корпуса генерал Тихонов со своим штабом только что перебрался
под Койвисто, -- точные координаты нам указал здесь мчавшийся туда на
мотоцикле офицер-информатор. Мы узнали от него, что сегодня взяты станции
Сомме и Лейпясуо, Муола; что "линия Маннергейма" прорвана сегодня в десятках
мест; что наши автоматчики пробираются повсюду сквозь боевые порядки финнов,
нападают на штабы, захватывают и уничтожают узлы связи; что наши войска с
разных направлений приближаются к Выборгу и что на прорыв последней,
четвертой линии обороны финнов под самым Выборгом конечно же потребуется
немного часов...
Станция Сомме -- крупный узел обороны врага -- взята не только ударом с
севера, но и встречным ударом с юга: этот удар стал возможен отчасти
благодаря стремительному наступлению отряда подполковника С. Ф. Семенова, от
которого для захода в тыл Сомме была в районе Макслахти отделена
поддерживавшая его стремительный рейд боевая техника, ибо направление
главного удара на Выборг было снова внезапно перенесено в центр перешейка --
к Выборгскому шоссе.
Мы приближаемся к Койвисто, взятому вчера почти без боя. Чтобы
оказаться там так неожиданно для противника, наши войска должны были пройти
сквозь приморские укрепления "линии Маннергейма". Со времен сорокового года
всему миру известно, что представляла она собой и как была разрушена тогда.
Но за три года нынешней войны она вновь была насыщена инженерными
сооружениями, множеством огневых точек. Прежние противотанковые рвы были
углублены, леса, холмы и перешейки между озерами оплетены новыми рядами
колючей проволоки, а бреши в бесчисленных рядах надолб закрыты новыми
надолбами. Десятки новых дотов, множество дзотов, минные поля и многие
другие препятствия встали перед нашими войсками в эти два дня барьером,
казавшимся противнику неодолимым.
Наши войска с ходу прорвали обновленную и усиленную "линию Маннергейма"
-- третью линию обороны финнов. Только тот, кто видит воочию гигантскую мощь
нашей техники, непрерывным потоком движущуюся
по всем дорогам к Выборгу, кто вместе с войсками проходит сам сквозь
все укрепления третьей оборонительной полосы врага, может получить ясное
представление о силе, сокрушившей эти укрепления.
"Линия Маннергейма" не задержала наступления наших войск ни на один
день. Вся западная ее часть сокрушена и пройдена. Сегодня войска рвут и
крушат последние опорные пункты ее восточной части. Южное побережье
Суванта-ярви и Вуокси-ярви уже очищено.
Ходит волнами зеленая рожь на полях за "линией Маннергейма". Эту рожь
будем жать и убирать мы, печь хлеб будут русские хлебопеки в Выборге, как
пекли его во время Петра Первого...
Койвисто
19 июня
Маяк в бухте, вышки на рифах (малый островок -- гряда камней). Слева
эта коса -- полуостров Койвисто. Десантные суда. Залив. Мыс Кивиниеми. А
дальше виден остров Бьерке. Противотанковый ров поперек. Пусто. Лес. Валуны.
Сосна. Мох.
Слева все то же море, пенные волны которого сегодня спешат рядом с
наступающими на суше войсками на север. По морю, окутавшись дымовою завесой,
кильватерным строем идут многочисленные десантные суда, эскортируемые
быстроходными боевыми кораблями. Их курс -- на север, туда, где сегодня
будет высажен десант балтийцев. Они огибают взятое вчера Койвисто.
Келлолатен -- деревня на берегу залива, а на том берегу -- Кивикомяки.
Лес мельче. Сосна. Никаких укреплений. Фундаменты сгоревших домов. Надолбы
гранитные в шесть рядов. Дот.
Остановились.
"Karjala" -- газета 1941 года. Железобетонный дот. Под развалинами лаз:
кто-то жил на ветвях.
Финские свежие ячейки -- обстреливали дорогу. На дороге наши пушки.
"А не возьмут ли сегодня Выборг?"... Далекий гул артиллерии.
Здесь никаких войск, тыловые мелкие группы, отдельные бойцы.
Указатель "Выборг 36 километров" у развилка. Влево нет моста, строят.
Объезд. Едем вправо. В бухте тринадцать десантных барж. На горизонте белые
дымы идущих на север судов.
Красивая деревня широко раскинулась по берегам бухты. Железная дорога.
Увидев стрелку с надписью "Хозяйство Тихонова", сворачиваем влево.
Каменный дом с соломенной крышей. Посевы. Железнодорожный мост направо
взорван. У домов мебель и утварь финнов.
Деревня Кивиколайнен. Гранитные хаты.
Хозяйство Тихонова. Генерал. Сутки без перемен. Наши части в
восемнадцати километрах от Выборга. В 4. 00 начинается наступление. Сейчас
-- 4. 06, слышен гул.
Едем в Койвисто. Пленные финны.
Девственная природа. Ярко-зеленые луга. Береза, сосна. Шоссе
прекрасное. Едем вдоль железной дороги. Белое цветение. Березовые дрова
везде; вдоль железной дороги -- поленницы. Шесть километров от Койвисто --
гранитные валуны, грядами; мох. Сосновый лес. Сухо. Целая связь, много
проводов. Разбитый грузовик -- наш.
Понадеявшись на несокрушимость "линии Маннергейма", противник не успел
подготовиться в Койвисто к длительной обороне. Поспешно бежавшие из Койвисто
под угрозой полного окружения многие солдаты и офицеры противника попали в
плен. Мы видим их: по дороге на юг бредут под конвоем.
Вот и Койвисто! Впереди готическая кирка. Слева заливчик, мол,
пристань, трава и валуны до воды. Чистый городок.
Танки. Баркасы. Трофейные винтовки. Бочки. Населения нет. Видим только
наших десантников: серые шинели, черные погоны...
Надпись: "Тарвихартиала".
Койвисто невредимо, никаких следов войны, никаких разрушений и
укреплений, кроме старых заросших травою рвов, домов, взорванных или
сожженных в 1941 году и раньше. Единственный признак войны -- дачи с хаосом
поспешно брошенного имущества и военного снаряжения, сортируемого бойцами
трофейной команды (которых здесь очень мало). Возле одной из дач, увидев
прекрасные кусты сирени, мы остановились, нарвали огромные букеты сирени и
цветов с клумб. Ничего не
взяли отсюда, хотя тут было множество вещей, белья, шелкового и
прочего, домашнего скарба и продуктов (горох, галеты, сало и пр. ) Я
фотографирую все...
На южном мысу, образующем бухту живописного городка, сложены в штабели,
погружены на вагонетки узкоколейки свежие доски, заготовленные на
лесопильном заводе. Сам завод остался невредим -- стоит только мастерам
стать у рабочих мест, чтоб лесопилка заработала полным ходом, снабжая
инженерные части нашей наступающей армии. Осматриваем высокую кирку. На
фасаде цифра "1904". Правее кирки, в которой какой-то наш музыкант-сержант
вдумчиво играет на широкозвучном органе, один большой белый крест, за ним
полуциркульными рядами белеют многие десятки малых. Даты, главным образом --
1941, 1942. Захватчики, сраженные пулями советских воинов, нашли здесь свою
могилу. На могилах -- цветы.
За киркой -- море в купах деревьев. Со стороны моря кирку обводят
гранитные могильные камни, полированные, с надписями. Зеленая лужайка,
ограда из гранитных, грубо тесанных камней. С другой стороны кирки до самого
моря тянутся беспорядочно набросанные холмы свежих могил, -- нужно было бы
много времени, чтобы поставить над ними кресты, а времени не нашлось.
Берег в валунах.
На берегу большой бот. В бухте, с другой стороны мыса, на котором
высятся кирка и лесопильный завод с высокой трубою и штабелями досок, видны
наш мотобот и десантная баржа с грузом.
Буйно разросшиеся кусты персидской сирени везде обступают яркоцветные
дома городка. И везде в них -- хаос, все то же свидетельство торопливости
бегства захватчиков, живших здесь вместе с семьями. В комнатах домов --
груды разбросанного имущества, перевернутая мебель, письма, журналы и
документы. Дома городка, баркасы на берегу, груды брошенного оружия,
оперативные документы финских штабов, все -- наше!..
Едем дальше в сторону Выборга.
"Пантилля" (табличка на шоссе). Слева на берегу тесная деревушка,
дощатая (доски -- вертикально) облицовка домиков, крыша -- дранка. Железная
дорога исчезла в лесу.
Слева остров Ревонсаари. Рябина. Красные домики. Коттерлахти. Чудесная
дача. Сирень. Залив. Дача на самом берегу. Гладь залива. Узкоколейка. Лесной
завод. Белая персидская сирень.
В часы перед штурмом Выборга
20 июня
Вчера вечером, чтобы "отписаться" и передать по назначению наши
корреспонденции, из-за Койвисто прямым ходом примчались в Ленинград. Лег
спать в четыре часа утра, в шесть встал, чтобы поспеть к Выборгу до его
взятия. В 8. 20 проехали Териоки, в 9. 40 заправились бензином у приятеля
нашего шофера -- командира танка KB No 644, гвардии младшего лейтенанта
Эриха Васильевича Соловьева. Коротко беседовали с его экипажем. Этот танк из
полка подполковника Красноштана, подбитый в бою под Тиртулла, во время атаки
полка на восемь противотанковых батарей противника, сейчас, после ремонта,
спешит догнать свой полк.
-- Боюсь, что Выборг уже взят! -- на перекрестке у Хумалиоки говорит
Ратнер.
Баранников смотрит на небо:
-- Нет! Самолеты еще не пошли на бомбежку!
В бухте маневрируют катера с дизель-моторами. Доносится шум,
впечатление от звуков моторов такое, словно по морю идут танки, гремя
гусеницами по булыжнику. Едят комары. Ратнер только что выспался на ходу, в
машине. Я спать на ходу не могу.
Бухта Вихайоки, дюжины две десантных баркасов. Сегодня балтийцы
штурмуют остров Бьеркского архипелага, форсируют проливы. На берегу уже
поставлены зенитки в кольцеобразных укрытиях. Рядом сушатся сети. В лесу
перед бухтой два расстрелянных финна, метрах в ста один от другого. Вчера их
не было. Значит, обстрелявшие наших бойцов "кукушки".
При подъезде к бухте надпись: "КПП"; красят в черно-белые полосы столбы
шлагбаума. Самого КПП пока еще нет.
Взорванный железнодорожный мост на высокой насыпи позади бухты
ремонтируется.
Заезжаем в "Хозяйство Тихонова", где были вчера.
Не узнаем дома -- он разбит, перед ним сгоревшая, перевернутая "эмка".
Мины? Или бомбежка? Никого!.. В другом доме -- связисты. Говорят: ночью
бомбили четыре самолета. А штаб еще вечером уехал вперед...
Едем вперед. 12. 00. Горят дом и лес. А на картофельном и ржаном полях
-- девушки и сельскохозяйственные орудия. Трофейное барахло. Поют птицы.
Дорога пуста, только обозные подводы да коровы. Проносятся редкие грузовики.
Макслахти. Поселок лесозавода. Пирс, вытянутый в пролив, а за проливом
-- остров, на нем деревня.
Село Рейпетти, -- лодки, сельскохозяйственный инвентарь, склады,
охрана. Разбитый дом, другой -- каменный -- взорван. Опять лес, после
ответвления -- дорога вправо. Мы -- прямо на Выборг. Палатки в лесу. Новые
путевые знаки -- желтые с черным. Переезжаем железную дорогу. Горы
древесного угля. Едем вдоль железной дороги. Куккола. Слева залив. Голые
люди среди барахла стирают белье. Валуны справа, несколько домиков слева.
Лужайки. Лес.
"Хозяйство Орлова". Майор. Узнаем: пятьдесят минут назад передовые
части дивизии Н. Г. Лященко 108-го корпуса были в двух с половиной
километрах от Выборга. Противник оказывает огневое сопротивление --
пулеметы, минометы, но без артиллерии. 108-му корпусу было трудно:
форсировал три переправы. 110-й корпус -- в трех с половиной километрах.
Финны вчера, в одиннадцать вечера, бросали бомбы в Куккола, попали в озеро.
"Хозяйство Тихонова", -- говорит майор, -- дальше. Едем туда. Лес становится
многолюдным: войска, машины, ящики с боеприпасами. Опять пусто. Финское
орудие. Кирьола. Переезжаем железную дорогу. Еще финские орудия. Опять лес
полон. Справа, в изгороди, вчерашняя могила. Сосны. Поворот в Иоханнес --
три километра.
Домики. Большое католическое кладбище. Красные ограды с белыми
полосками. Финский путевой знак "Roulu". Белая двухэтажная с красной
черепичной крышей школа -- новая, целая. Группа бензобаков. Слева военное
кладбище, справа развалины кирки. Живописные домики. Пролив. Валуны на
лужайках. Огороды. Дома в гуще берез, финские почтовые ящики.
Ищем штаб армии и штаб 46-й стрелковой дивизии С. Н. Борщева. Узкие
дороги вьются среди гранитных
скал и бугров. Везде в зелени, в цветах -- гранитные валуны. В
заливчиках пролива дачки. На берегу, на зеленой траве большая морская баржа.
Амбар из красноватого гранита с белой дощатой крышей. Пустые автоцистерны в
траве.
Кулома. Тесный поселок -- дачные домики. Огромный бумажно-целлюлозный
завод. Невредим! Разрушенные мосты -- шоссейный и железнодорожный. Роккала
-- десять больших корпусов. Труба стеклянного завода, полуразрушенные белые
дома.
Едем обратно. От бумкомбината тянется деревянный трубопровод.
Остановились у комбината. Ищем. Целые стекла, многоэтажные корпуса,
несколько из них недостроены.
2 часа дня
Вот наконец КП 108-го стрелкового корпуса. На крылечке дачи -- штабные
офицеры, командиры полков. Полковник кричит в телефон:
-- Как только подвезут бензин, отправлю оперативную группу либо на
окраину, либо в Хохтиа-йоки. Маршрутом можно ехать! Уцелел ли мост хоть
единственный? Не доезжали?
Полковнику говорят:
-- Двести шестьдесят восьмая стрелковая дивизия есть!
Полковнику и всем некогда -- горячка:
-- Может быть, через три-четыре часа буду свободен! (то есть возьмут
Выборг!) -- Наспех объясняет: -- Противник упорно сопротивляется. Мы
подчищаем фланги, прежде чем штурмовать город. Пока взошли на его южную
окраину, ведя бой, передовые батальоны дивизий Лященко и Елшинова.
Н. Г. Лященко назначен комендантом Выборга.
На террасе дачи -- две дамы: Вишневецкая в морском кителе и Валентина
Серова в светло-серых суконных галифе и кителе. Симонов и Вишневский
путешествуют с женами. Сами уехали вперед, их оставили здесь, в штабе
корпуса.
... Проехал на "виллисе" генерал-майор Алиев, перевязанный, ранен в
голову, нарвался на мину с машиной...
Видим шофера спецкора "Правды" Ганичева. Рассказывает: Ганичев ранен,
его машина разбита при бомбежке четырьмя самолетами у места вчерашнего
расположения штаба корпуса, возле бухты Кивикомяки. Это ее, перевернутую и
разбитую, мы видели по пути сюда!
Где Ганичев?
Здесь, вот в том доме. Только он отдыхает, просил его не будить. Ранен
легко.
Авиация противника налетала по двадцать пять -- тридцать самолетов,
бомбила в разных местах.
... Мне важно найти полк Семенова. Он сейчас в деревне Эмисуомяки. Едем
туда...
Командир стремительного полка
20 июня. Деревня Эмисуомяки
В маленькой ярко раскрашенной даче, окруженной кустами цветущей сирени,
нахожу штаб стремительного полка.
Так вон он какой -- подполковник Сергей Федорович Семенов! Выходит
навстречу мне: худощавый, голубоглазый, непослушные белокурые волосы
зачесаны назад. Он совсем еще молод (ему 29 лет), лицо у него свежее, ясное,
чистое. Будто и не устал! На левой стороне подбородка шрам (узнаю позже: от
осколка, полученного в бою в деревне Котяжье). Аккуратно затянутая ремнем
гимнастерка, с орденами Александра Невского (за бои под Псковом) и
Отечественной войны 2-й степени (за Красный Бор, в 1943 году). Уже знаю:
сейчас он представлен к Герою Советского Союза. Рядом с ним вьется большая
ласковая породистая собака, она всюду с ним. В дачке -- кажется, совсем
мирная обстановка: финская посуда, журналы, вещи не тронуты, чисто и все на
своих местах.
Полк только что вышел из боя и снова уходит вперед. Семенов приглашает
с ним пообедать, ждем к обеду командира дивизии, подполковника Борщева,
который не раз приезжал к нему (первый раз: "Тебя не догонишь, еле догнал!")
и вот-вот подъедет сейчас...
Усаживает за стол, вынесенный в сад, ведем неторопливо беседу -- между
двумя боями у него пауза. Борщев приедет, поставит задачу, а пока полк к
выступлению, как всегда, готов, ждет только приказа...
Вперед, на Выборг! Приморское шоссе. Июнь 1944 г.
Когда они вырвались в этот район, то прошли сквозь него в Макслахти,
угрожая гарнизону, оставшемуся левее города Койвисто, отрезать ему все пути
отступления по суше.
И финны из Койвисто и его окрестностей поспешно бежали на север, так
как и отступление морем на острова Бьеркского архипелага им уже тоже было
отрезано: они увидели на горизонте корабли Балтийского флота шедшие
высаживать десант в Койвисто.
Десанта, как я уже говорил, высаживать не пришлось: финны бежали.
Чуть дальше, в пути, мы увидели дымы и силуэты кораблей -- балтийцы
высадились в бухте Хумалиоки уже пройденной передовой группой Семенова,
Котова, Шаблия. Вместе с подоспевающими по Приморскому шоссе сухопутными
частями моряки сейчас входят в опустевшее Койвисто, вылавливая в лесах
последние группы автоматчиков.
Туда же, сквозь проломленную на Приморском шоссе "линию Маннергейма",
спешим и мы. И та обстановка,
о которой я только что рассказал, стала ясной для меня сегодня только
во второй половине дня, когда мы сами, побывав в Койвисто, миновали
Макслахти и поспешили дальше...
Стрелковый полк Семенова, "оседлавший" сегодня вместе с минометчиками
Шаблия самоходки подполковника И. Д. Котова и трофейные автомашины, третий
день никто не может догнать, -- он, с невероятной стремительностью двигаясь
вперед, уничтожая, беря в плен и гоня врага, оторвался от всей нашей
наступающей армии, и в штабе 108-го корпуса Тихонова о нем, как и о его
соратниках, весьма беспокоятся. Семенову радирован приказ: остановиться,
чтоб не попасть в "мешок", и вернуться к нашим, не поспевающим за ним
войскам. Но он выпросил разрешение на свою ответственность, за свой страх и
риск ("Люди рвутся вперед, никто останавливаться не хочет!") двигаться
дальше, как самостоятельный, передовой отряд...
А пока... Стремимся догнать смельчаков и мы, но, задерживаемые на шоссе
пробками, движемся вместе со всем громадным потоком пехоты и боевой
техники... Вот краткие записи в полевой тетради.
... Сейвясте! На Приморском шоссе раздавленные нашими танками немецкие
пушки. Среди полевых цветов, между деревьями девственного леса тянутся ряды
колючей проволоки. Они поднимаются по крутому прибрежному склону. Гранитные
надолбы встают рядами то здесь, то там. Мы движемся в потоке за орудием с
надписью: "Подарок от комсомольцев и молодежи Красноярска". В синем море,
параллельно сухопутным войскам, идут корабли Балтфлота. На высотке, перед
селом Сейвясте, -- наблюдательный пункт, что-то орущее радио. Укрепления:
дот, дзоты, траншеи, проволока. По обочинам шоссе -- наши минеры с собаками.
Сейвясте -- большое село, хибары рыбаков заняты летчиками. Десантные
катера--у берега. Рифы. Бухта. Ярко-цветные новые домики. Катера. Пыль.
Извивы шоссе. Подбитый танк No 409. Песок.
Дальше, за Мустаоя, перед рокадной дорогой, отходящей от берега в глубь
Карельского перешейка (и там пересекающей обе железные дороги на Выборг),
тянутся глубокие траншеи. За ними -- снова надолбы в четыре ряда, за
надолбами противотанковый ров. Широкой полосой дальше темнеют минные поля --
взорванные, Перепаханные, обезвреженные.
Вот над самой дорогой вывороченные стены железобетонного дота, за ним
опять (уже на перешеечке между Финским заливом и озером Капинолан-ярви) ряды
проволочных заграждений, от которых остались только вывороченные колья да
разметанная проволока. Дальше -- бесчисленные бугры свеженарытой земли. Это
очищенные нами ячейки автоматчиков, пулеметные гнезда, дзоты. Здесь вчера
дрался стрелковый полк Семенова.
Таммикко, влево от дороги. Ярки на солнце цветы.
Гранитные верстовые столбы. Финские надписи на деревьях. Старые,
поросшие травой землянки. Танки. Гармонь.
Развилок на Карьялайнен. Регулировщица отдает честь. Траншеи справа,
фронтом вправо. Землянки.
Сирень на машинах. Надолбы. Четыре ряда -- гранит! Ров. Взорванный дот
(старый), вывороченные стены. Проволочные заграждения. Траншеи в песке.
Опять ряды кольев -- уже без проволоки. Стрелковые ячейки -- наши, свежие --
рассеяны в сухом сосновом лесу.
Это Мурила. Здесь после боя под Мустаоя полк Семенова вел следующий
ожесточенный бой, пробивая "линию Маннергейма".
Связь цела. Справа -- озеро. Чистый лес. Наш дзот, старый.
В северном конце перешеечка, там, где сегодня, на месте взорванного
вчера, возник новый мост, где сегодня козыряет проезжающим офицерам
белокурая регулировщица, -- снова россыпь новых ячеек, сплошь усеявших лес.
Вот как -- в полдень 20 июня -- уже в Эмисуомяки, настигнутый мною там,
командир стрелкового полка подполковник С. Ф. Семенов рассказывал мне о
прорыве его полком "линии Маннергейма":
"... Зная отчетную карту противника, командир дивизии предупреждал: на
"линии Маннергейма" не зарываться, быть осторожным. Я приказал первому
батальону капитана Комарова подойти в разведку, а сам с другими батальонами
остался в трех километрах. Группы пошли. Командир батальона не понял задачи,
сообщил: "Ничего особенного, можно атаковать!" Я приказал ему подвести весь
батальон на рубеж сосредоточения, для
атаки. Батальон Комарова этим и занялся. Я с пятью командирами вышел на
гребень высотки вперед, прошел по гребню до указанного мною Комарову места
-- почти до "линии Маннергейма"; наблюдаю сверху за нею. Вдруг вижу: справа
большая группа финнов и две пушки. В чем дело? Пехота Комарова должна быть
впереди?!.. А ее нет, -- здесь только финны!.. Я скорее назад!.. Вижу:
привязан неправильно!.. Оказалось: батальон занялся сосредоточением для а
гаки, не дойдя двух километров до указанного места!.
Построил батальон: "Доложите, кто вам сказал, что вы в двухстах метрах
от противника? Вы -- в двух километрах!.. Голова долой за обман!"
Снимаю Комарова, командира батальона: "Через два часа не выполните
задачи -- расстреляю перед строем!.. -- И к батальону: -- Если любите
командира -- возьмете линию!"
Командир не только выполнил задачу, но и просочился за надолбы и прошел
проволочные заграждения, сделал шесть проходов. И я ввел полк. И стал быстро
развивать наступление, зная, что меня будут накрывать огнем. И "катюши" со
мной!..
А капитан Комаров -- командир опытный, дерзкий. Имеет орден Александра
Невского, за Псков. До этого, в Мустаоя, без моего приказа (так я учил их
изучать и щупать противника) нашел брешь и ввел батальон. Приказ ему был:
стоять, изучать, а он двинулся вперед, вкопался, а раз так, то я ввел два
других батальона и -- пошли! Виноват оказался его заместитель, капитан
Герасимов. Я его хотел расстрелять, но ошибку свою он исправил, теперь
представлен к награде. Герасимов сильно контужен, сегодня ему уже лучше!.. "
... Проезжаем Мурилу. Гладкое поле. Взгорок. Взорванный мост. Береговая
терраса: луг, дома, рожь. Море сверкает. Стоит у шоссе грузовик с милицией в
малиновых фуражках...
"... У Мурила, -- рассказывал дальше Семенов, -- мы поставили дымовую
завесу. Он думал, что мы -- десант, и вся его артиллерия била по дымовой
завесе, а там пусто или финны. А мы тут -- подползли, вступили в гранатный
бой, он швыряется гранатами. И мы тогда -- врукопашную. Финны дрались сильно
-- головорезы. И снова они -- гранатами. Я отвел своих и накрыл финнов
"катюшами".
И через три минуты -- пленные, оглушенные. И пожгло много -- черные
лежали... Двадцать пять самолетов на нас налетели, немецких, бомбили во
время боя. Но и наши самолеты налетели, помогали нам, однако и нам попадало
-- раз шесть... Бойцы наши крепко дрались в Муриле... Артиллерист старшина
Иванов геройски погиб: увидел батарею противника, вытащил пушку
семидесятишестимиллиметровую и бил прямой наводкой с двухсот метров, пока не
расстрелял противника и не погиб сам. Представлен к Герою Советского
Союза... А их пушка пробила самоходку, и командир батареи самоходок тяжело
ранен...
Хорошее взаимодействие было артиллерии и кораблей Балтфлота,
четырнадцать судов, катера, эсминцы, канонерки!..
Мы рассчитывали, что тут сил у него много, а он живой силой не закрепил
линию. Если б я сделал паузу на два часа, не прошел бы, а я на их плечах --
и они не успели даже расставить пушки! Десять станковых пулеметов противник
оставил здесь, да четыре батареи, да ручные пулеметы...
Взяв Мурилу, я стал быстро развивать наступление, и "катюши" -- со
мной. Был приказ: нашей дивизии овладеть Хумалиоки. Эта задача была
поставлена нами в Муриле. Ворвавшись в Хумалиоки, я не стал дожидаться
дивизии, решил силами полка продолжать наступление до перекрестка
Макслахти... "
... И вот мы сегодня движемся от Мурилы к бухте Хумалиоки. Береговой
уступ обрывист, шоссе идет высоко над берегом, вьется над маленькими
полукружиями пляжей, -- нет, кажется, места лучше для обороны, если б оно
даже не было полно похожих на зубы дракона гранитных надолб, дотов, дзотов,
рвов, траншей, рядов колючей проволоки... Вот в трех километрах за Мурилой
они опять пересекают узкий проход, тянутся вдоль всей береговой гряды --
бесчисленные дзоты, со вчерашнего дня опустелые, разбитые, никому больше не
угрожающие. Вот немецкое орудие, брошенное за бруствером вместе с передком,
полным неиспользованных снарядов. Вот огромный ствол другого, уже
извлеченный из разрушенного дзота и положенный на бревенчатые полозья, чтоб
его можно было увезти гусеничным тягачом. Вот две противотанковые пушки...
Здесь полк Семенова преодолел
сильнейшее сопротивление, здесь минометный полк Шаблия выпустил больше
тысячи мин, прежде чем вместе с Семеновым достичь Хумалиоки...
Опять лес, сосна, слева -- мыс, длинный, лесистый. Сплошь россыпью в
мелком лесу -- стрелковые ячейки, оставшиеся от вчерашнего боя. Всюду в
лесу, куда ни обратить взор, видны богатые, взятые нами в бою трофеи.
Идут пэтээровцы [1]. Высота 39. Внизу -- пляж. Мы -- в бухте Хумалиоки.
В начале "линии Маннергейма" техника врага уничтожена, искромсана нашим
огнем, раздавлена танками, разбита. Здесь, в тылу этой линии, как
свидетельство растерянности врага -- невредимые пушки, брошенные застигнутой
врасплох и в панике побежавшей прислугой. Отсюда -- влево -- открыт путь в
Койвисто, прямо вперед, на север, -- к Выборгу, а вправо -- к тылам всей
"линии Маннергейма", которую сегодня еще пробивают во многих местах наши
войска... Семенов, Котов, Шаблий и их соратники в боях за Мустаоя (взятое за
два часа!), за Мурилу, за Хумалиоки смело пренебрегли присутствием у себя в
тылу финнов, не побоялись быть отрезанными от прочих частей, ворвались в
самую глубь вражеской обороны и, не дав финнам времени даже расставить
готовые к бою пушки как надо, кроша прислугу, расчеты пулеметов, минометов,
привели противника в такое смятение, что тот не успел организовать оборону.
Финны метались по своим укреплениям, будто схваченные внезапным пожаром.
"Если б я сделал паузу хотя бы на час, -- повторил мне Семенов, -- я не
прошел бы". Но паузы ни он, ни его боевые товарищи не сделали, помчали свои
полки дальше, несмотря на огонь дальнобойной морской артиллерии противника с
южной оконечности острова Бьерке.
Здесь, у железнодорожной станции Хумалиоки, Семенов, знавший систему
расположения морской артиллерии врага на Бьерке, правильно рассчитал, что
довернуть орудия так, чтобы стрелять по самой станции и севернее ее, финны
не могут -- снаряды ложились не дальше бухты. Поэтому весь передовой отряд
Семенова, Котова, Шаблия вместе с "катюшами" и небольшой группой танков не
задержался и здесь и, не ожидая приказа, поспешил дальше прямиком на
Макслахти, оставив влево за собой Койвисто.
[1] Бойцы с противотанковыми ружьями.
"Все доказывали, что минометчики не могут идти впереди! -- при встрече
в Выборге смеясь говорил мне Федор Шаблий. -- А мы на самоходках, на всяких
машинах вместе с полком Семенова домчались до Макслахти... "
А Семенов в Эмисуомяки рассказал мне:
"Когда я оседлал перекресток Макслахти, слышу, справа подходит наша
Триста четырнадцатая дивизия[1]. Значит, порядок! Я решил продолжать
преследование противника, посадил мою пехоту на тридцать самоходок Котова и
гнал врага в сторону Кирьола. Здесь встречен был ротой финнов и двумя
батареями ("комсомолок", взятых у нас в сорок первом году). Разгромили мы
роту, я забрал батареи -- четыре ствола. Остальное финны бросили и в панике
из-под огня бежали. Тогда я с ходу поставил задачу: преследовать главные
силы отступающего противника, взять Роккала. Мы с боем -- Котов, Шаблий и я
-- прорвались до Роккала. Пройдя двенадцать километров, получаю приказ:
"Назад!" Командир корпуса подумал, что мы попали в "мешок". Решив, что в
случае чего займу круговую оборону, стал просить разрешения двигаться
дальше, даже лишившись поддержки самоходок и минометчиков, -- их у меня
отобрали, повернув в тыл "линии Маннергейма", для штурма ее с южной стороны,
в районе Соммы. И мне разрешили. Я пошел всем полком дальше. Командир
корпуса даже объявил: "Потеряем полк, но узнаем обстановку!"
И когда я взял Роккала, то здесь стал, потому что командир дивизии дал
мне категорический приказ: "Стой, а не то расстреляю! Погубишь полк!" Я
подчинился, притом со спокойной душой, потому что, начиная от Макслахти, я
попал в непосредственное подчинение корпуса, как отдельный отряд, изучающий
противника и с ходу сбивающий его...
Наступление на "линию Маннергейма" я начал в двадцать три часа
семнадцатого июня. До двенадцати часов дня восемнадцатого июня пришел в
Роккала...
Закрепившись в Роккала, стал изучать противника. Артиллерия и часть
людей, вымотанных за эти тринадцать часов наступления таким темпом, от меня
отстали. Только "катюши" со мной шли. От Мурило до Роккала двадцать восемь
километров за тринадцать часов прошли!
[1] Передислоцированная сюда из глубины перешейка отдельная стрелковая
дивизия.
В общем, здесь, на четвертом промежуточном укрепленном рубеже,
противник задержал меня на восемь часов. Оставил четыре батареи (состоявшие
из стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц) и четыре исправные пятитонные
машины. У Мурилы я взял три батареи, у Макслахти две батареи, а четыре
взятых у Роккала батареи состояли из стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц,
Ну, провод, аппараты и прочее... Здесь мне вернули всю технику, и мы стали
форсировать реку Роккалан-йоки.
Бой начался в ночь на девятнадцатое июня, -- весь полк введен. У финнов
был примерно батальон. Мы застрелили в бою финского майора с тремя орденами.
Снами были в бою тридцать самоходок, полк "катюш" (работавший с мгновенной
готовностью: "Куда вам огонек?"), три артполка и полк бронемашин (он мало
мог помочь нам). Самоходки подполковника Котова, как и везде, действовали
отлично!
Бой за Роккалан-йоки кончился, когда противник пошел второй раз в
контратаку. Но я не отдал плацдарм. Приказ был: окопаться и организовать
систему огня (а мне не верили, что я на той стороне, и командир корпуса
прислал проверить, и тогда -- всю технику направили сюда). Здесь я
закрепился, дал людям отдых. Но люди, увлеченные боем, не хотели выходить из
него, шестая рота ушла в бой без приказа, -- подполковник Иван Дмитриевич
Котов захватил ее на свои самоходки. Командир шестой роты, лейтенант
Постолов -- новый. Вернулись, однако, все целы.
В районе Роккала преодолел шесть рядов колючей проволоки,
противотанковый ров, железобетонные доты, минирование, реку. Мост он
взорвал, форсировали реку вплавь...
А всего потерял я сорок офицеров, триста двадцать четыре человека.
Остров Ревансаари пал, когда мы перерезали перекресток. Позже туда
пошла моя рота, седьмая, под командованием старшего лейтенанта Костромина
(новый). Представлен к ордену Отечественной войны первой степени... "
... Этот закончившийся сегодня бой за Роккалан-йоки полк Семенова вел,
как я уже сказал, вместе с другими, подошедшими сюда передовыми частями
наступающих войск, но и здесь Семенов опередил всех, первым форсировав реку
Роккалан-йоки и захватив плацдарм на ее правом берегу.
"... Я предвидел обстановку, -- рассказывает Семенов, -- река сорок
метров ширины. Я приказал двум самоходным пушкам и штурмовому отряду
(тридцать человек), под командой инженера старшего лейтенанта Иванского,
захватить переправу, но они не только захватили, а и обеспечили форсирование
так, что на их плечах весь полк переправился на ту сторону. Противник начал
бить прямой наводкой по наступающим. Тогда я крикнул: "Ввести полный
штурмовой батальон, под командованием капитана Комарова, захватить
плацдарм!" -- для развития успеха дальнейшего наступления по правому берегу
реки Роккалан-йоки. Та группа действовала. Развернулись, окопались и с левой
стороны нашли для нас брод. Самоходки и дивизион "катюш" поддерживали огонь.
Финны прекратили сопротивление. Я ввел полный полк, сам переправился тоже.
Финны попятились в лес, метров на двести от "катюш", за красный дом. Через
тридцать минут мы рассредоточились для боя. Финны двинулись в контратаку с
правого фланга, из леса, -- усиленная рота с четырьмя танками. Мы отбили ее.
Через пятнадцать минут -- вторая контратака двумя усиленными ротами с
четырьмя танками и огнем четырех батарей. Хотели нас замкнуть на плацдарме,
с флангов. А я самоходками и пулеметами прикрыл фланги. Самоходки били по
бегущим в рост людям, покосили человек шестьдесят -- семьдесят, -- вот тут и
убили их майора, который шел на двести метров от нас с людьми... А мост
через эту реку взорвался от детонации -- из-за грома нашей артиллерии.
Провода были перерезаны нашей штурмовой группой, а взрывчатка осталась, --
очень чувствительные были детонаторы, а мы около четырехсот снарядов
"сработали" -- хорошая "сработка" с подполковником Котовым была!.. А капитан
Комаров в этом бою тяжело ранен, отправлен в госпиталь. Теперь, за прорыв
"линии Маннергейма" и за то, что сделал здесь, он представлен к ордену
Красного Знамени... "
... Для нас, добравшихся в Хумалиоки, -- взятые вчера
Макслахти и сегодня ночью правый берег Роккалан-йоки еще впереди. Нам
нужно взглянуть на Койвисто, а по пути побывать в штабе корпуса.
Командир корпуса генерал Тихонов со своим штабом только что перебрался
под Койвисто, -- точные координаты нам указал здесь мчавшийся туда на
мотоцикле офицер-информатор. Мы узнали от него, что сегодня взяты станции
Сомме и Лейпясуо, Муола; что "линия Маннергейма" прорвана сегодня в десятках
мест; что наши автоматчики пробираются повсюду сквозь боевые порядки финнов,
нападают на штабы, захватывают и уничтожают узлы связи; что наши войска с
разных направлений приближаются к Выборгу и что на прорыв последней,
четвертой линии обороны финнов под самым Выборгом конечно же потребуется
немного часов...
Станция Сомме -- крупный узел обороны врага -- взята не только ударом с
севера, но и встречным ударом с юга: этот удар стал возможен отчасти
благодаря стремительному наступлению отряда подполковника С. Ф. Семенова, от
которого для захода в тыл Сомме была в районе Макслахти отделена
поддерживавшая его стремительный рейд боевая техника, ибо направление
главного удара на Выборг было снова внезапно перенесено в центр перешейка --
к Выборгскому шоссе.
Мы приближаемся к Койвисто, взятому вчера почти без боя. Чтобы
оказаться там так неожиданно для противника, наши войска должны были пройти
сквозь приморские укрепления "линии Маннергейма". Со времен сорокового года
всему миру известно, что представляла она собой и как была разрушена тогда.
Но за три года нынешней войны она вновь была насыщена инженерными
сооружениями, множеством огневых точек. Прежние противотанковые рвы были
углублены, леса, холмы и перешейки между озерами оплетены новыми рядами
колючей проволоки, а бреши в бесчисленных рядах надолб закрыты новыми
надолбами. Десятки новых дотов, множество дзотов, минные поля и многие
другие препятствия встали перед нашими войсками в эти два дня барьером,
казавшимся противнику неодолимым.
Наши войска с ходу прорвали обновленную и усиленную "линию Маннергейма"
-- третью линию обороны финнов. Только тот, кто видит воочию гигантскую мощь
нашей техники, непрерывным потоком движущуюся
по всем дорогам к Выборгу, кто вместе с войсками проходит сам сквозь
все укрепления третьей оборонительной полосы врага, может получить ясное
представление о силе, сокрушившей эти укрепления.
"Линия Маннергейма" не задержала наступления наших войск ни на один
день. Вся западная ее часть сокрушена и пройдена. Сегодня войска рвут и
крушат последние опорные пункты ее восточной части. Южное побережье
Суванта-ярви и Вуокси-ярви уже очищено.
Ходит волнами зеленая рожь на полях за "линией Маннергейма". Эту рожь
будем жать и убирать мы, печь хлеб будут русские хлебопеки в Выборге, как
пекли его во время Петра Первого...
Койвисто
19 июня
Маяк в бухте, вышки на рифах (малый островок -- гряда камней). Слева
эта коса -- полуостров Койвисто. Десантные суда. Залив. Мыс Кивиниеми. А
дальше виден остров Бьерке. Противотанковый ров поперек. Пусто. Лес. Валуны.
Сосна. Мох.
Слева все то же море, пенные волны которого сегодня спешат рядом с
наступающими на суше войсками на север. По морю, окутавшись дымовою завесой,
кильватерным строем идут многочисленные десантные суда, эскортируемые
быстроходными боевыми кораблями. Их курс -- на север, туда, где сегодня
будет высажен десант балтийцев. Они огибают взятое вчера Койвисто.
Келлолатен -- деревня на берегу залива, а на том берегу -- Кивикомяки.
Лес мельче. Сосна. Никаких укреплений. Фундаменты сгоревших домов. Надолбы
гранитные в шесть рядов. Дот.
Остановились.
"Karjala" -- газета 1941 года. Железобетонный дот. Под развалинами лаз:
кто-то жил на ветвях.
Финские свежие ячейки -- обстреливали дорогу. На дороге наши пушки.
"А не возьмут ли сегодня Выборг?"... Далекий гул артиллерии.
Здесь никаких войск, тыловые мелкие группы, отдельные бойцы.
Указатель "Выборг 36 километров" у развилка. Влево нет моста, строят.
Объезд. Едем вправо. В бухте тринадцать десантных барж. На горизонте белые
дымы идущих на север судов.
Красивая деревня широко раскинулась по берегам бухты. Железная дорога.
Увидев стрелку с надписью "Хозяйство Тихонова", сворачиваем влево.
Каменный дом с соломенной крышей. Посевы. Железнодорожный мост направо
взорван. У домов мебель и утварь финнов.
Деревня Кивиколайнен. Гранитные хаты.
Хозяйство Тихонова. Генерал. Сутки без перемен. Наши части в
восемнадцати километрах от Выборга. В 4. 00 начинается наступление. Сейчас
-- 4. 06, слышен гул.
Едем в Койвисто. Пленные финны.
Девственная природа. Ярко-зеленые луга. Береза, сосна. Шоссе
прекрасное. Едем вдоль железной дороги. Белое цветение. Березовые дрова
везде; вдоль железной дороги -- поленницы. Шесть километров от Койвисто --
гранитные валуны, грядами; мох. Сосновый лес. Сухо. Целая связь, много
проводов. Разбитый грузовик -- наш.
Понадеявшись на несокрушимость "линии Маннергейма", противник не успел
подготовиться в Койвисто к длительной обороне. Поспешно бежавшие из Койвисто
под угрозой полного окружения многие солдаты и офицеры противника попали в
плен. Мы видим их: по дороге на юг бредут под конвоем.
Вот и Койвисто! Впереди готическая кирка. Слева заливчик, мол,
пристань, трава и валуны до воды. Чистый городок.
Танки. Баркасы. Трофейные винтовки. Бочки. Населения нет. Видим только
наших десантников: серые шинели, черные погоны...
Надпись: "Тарвихартиала".
Койвисто невредимо, никаких следов войны, никаких разрушений и
укреплений, кроме старых заросших травою рвов, домов, взорванных или
сожженных в 1941 году и раньше. Единственный признак войны -- дачи с хаосом
поспешно брошенного имущества и военного снаряжения, сортируемого бойцами
трофейной команды (которых здесь очень мало). Возле одной из дач, увидев
прекрасные кусты сирени, мы остановились, нарвали огромные букеты сирени и
цветов с клумб. Ничего не
взяли отсюда, хотя тут было множество вещей, белья, шелкового и
прочего, домашнего скарба и продуктов (горох, галеты, сало и пр. ) Я
фотографирую все...
На южном мысу, образующем бухту живописного городка, сложены в штабели,
погружены на вагонетки узкоколейки свежие доски, заготовленные на
лесопильном заводе. Сам завод остался невредим -- стоит только мастерам
стать у рабочих мест, чтоб лесопилка заработала полным ходом, снабжая
инженерные части нашей наступающей армии. Осматриваем высокую кирку. На
фасаде цифра "1904". Правее кирки, в которой какой-то наш музыкант-сержант
вдумчиво играет на широкозвучном органе, один большой белый крест, за ним
полуциркульными рядами белеют многие десятки малых. Даты, главным образом --
1941, 1942. Захватчики, сраженные пулями советских воинов, нашли здесь свою
могилу. На могилах -- цветы.
За киркой -- море в купах деревьев. Со стороны моря кирку обводят
гранитные могильные камни, полированные, с надписями. Зеленая лужайка,
ограда из гранитных, грубо тесанных камней. С другой стороны кирки до самого
моря тянутся беспорядочно набросанные холмы свежих могил, -- нужно было бы
много времени, чтобы поставить над ними кресты, а времени не нашлось.
Берег в валунах.
На берегу большой бот. В бухте, с другой стороны мыса, на котором
высятся кирка и лесопильный завод с высокой трубою и штабелями досок, видны
наш мотобот и десантная баржа с грузом.
Буйно разросшиеся кусты персидской сирени везде обступают яркоцветные
дома городка. И везде в них -- хаос, все то же свидетельство торопливости
бегства захватчиков, живших здесь вместе с семьями. В комнатах домов --
груды разбросанного имущества, перевернутая мебель, письма, журналы и
документы. Дома городка, баркасы на берегу, груды брошенного оружия,
оперативные документы финских штабов, все -- наше!..
Едем дальше в сторону Выборга.
"Пантилля" (табличка на шоссе). Слева на берегу тесная деревушка,
дощатая (доски -- вертикально) облицовка домиков, крыша -- дранка. Железная
дорога исчезла в лесу.
Слева остров Ревонсаари. Рябина. Красные домики. Коттерлахти. Чудесная
дача. Сирень. Залив. Дача на самом берегу. Гладь залива. Узкоколейка. Лесной
завод. Белая персидская сирень.
В часы перед штурмом Выборга
20 июня
Вчера вечером, чтобы "отписаться" и передать по назначению наши
корреспонденции, из-за Койвисто прямым ходом примчались в Ленинград. Лег
спать в четыре часа утра, в шесть встал, чтобы поспеть к Выборгу до его
взятия. В 8. 20 проехали Териоки, в 9. 40 заправились бензином у приятеля
нашего шофера -- командира танка KB No 644, гвардии младшего лейтенанта
Эриха Васильевича Соловьева. Коротко беседовали с его экипажем. Этот танк из
полка подполковника Красноштана, подбитый в бою под Тиртулла, во время атаки
полка на восемь противотанковых батарей противника, сейчас, после ремонта,
спешит догнать свой полк.
-- Боюсь, что Выборг уже взят! -- на перекрестке у Хумалиоки говорит
Ратнер.
Баранников смотрит на небо:
-- Нет! Самолеты еще не пошли на бомбежку!
В бухте маневрируют катера с дизель-моторами. Доносится шум,
впечатление от звуков моторов такое, словно по морю идут танки, гремя
гусеницами по булыжнику. Едят комары. Ратнер только что выспался на ходу, в
машине. Я спать на ходу не могу.
Бухта Вихайоки, дюжины две десантных баркасов. Сегодня балтийцы
штурмуют остров Бьеркского архипелага, форсируют проливы. На берегу уже
поставлены зенитки в кольцеобразных укрытиях. Рядом сушатся сети. В лесу
перед бухтой два расстрелянных финна, метрах в ста один от другого. Вчера их
не было. Значит, обстрелявшие наших бойцов "кукушки".
При подъезде к бухте надпись: "КПП"; красят в черно-белые полосы столбы
шлагбаума. Самого КПП пока еще нет.
Взорванный железнодорожный мост на высокой насыпи позади бухты
ремонтируется.
Заезжаем в "Хозяйство Тихонова", где были вчера.
Не узнаем дома -- он разбит, перед ним сгоревшая, перевернутая "эмка".
Мины? Или бомбежка? Никого!.. В другом доме -- связисты. Говорят: ночью
бомбили четыре самолета. А штаб еще вечером уехал вперед...
Едем вперед. 12. 00. Горят дом и лес. А на картофельном и ржаном полях
-- девушки и сельскохозяйственные орудия. Трофейное барахло. Поют птицы.
Дорога пуста, только обозные подводы да коровы. Проносятся редкие грузовики.
Макслахти. Поселок лесозавода. Пирс, вытянутый в пролив, а за проливом
-- остров, на нем деревня.
Село Рейпетти, -- лодки, сельскохозяйственный инвентарь, склады,
охрана. Разбитый дом, другой -- каменный -- взорван. Опять лес, после
ответвления -- дорога вправо. Мы -- прямо на Выборг. Палатки в лесу. Новые
путевые знаки -- желтые с черным. Переезжаем железную дорогу. Горы
древесного угля. Едем вдоль железной дороги. Куккола. Слева залив. Голые
люди среди барахла стирают белье. Валуны справа, несколько домиков слева.
Лужайки. Лес.
"Хозяйство Орлова". Майор. Узнаем: пятьдесят минут назад передовые
части дивизии Н. Г. Лященко 108-го корпуса были в двух с половиной
километрах от Выборга. Противник оказывает огневое сопротивление --
пулеметы, минометы, но без артиллерии. 108-му корпусу было трудно:
форсировал три переправы. 110-й корпус -- в трех с половиной километрах.
Финны вчера, в одиннадцать вечера, бросали бомбы в Куккола, попали в озеро.
"Хозяйство Тихонова", -- говорит майор, -- дальше. Едем туда. Лес становится
многолюдным: войска, машины, ящики с боеприпасами. Опять пусто. Финское
орудие. Кирьола. Переезжаем железную дорогу. Еще финские орудия. Опять лес
полон. Справа, в изгороди, вчерашняя могила. Сосны. Поворот в Иоханнес --
три километра.
Домики. Большое католическое кладбище. Красные ограды с белыми
полосками. Финский путевой знак "Roulu". Белая двухэтажная с красной
черепичной крышей школа -- новая, целая. Группа бензобаков. Слева военное
кладбище, справа развалины кирки. Живописные домики. Пролив. Валуны на
лужайках. Огороды. Дома в гуще берез, финские почтовые ящики.
Ищем штаб армии и штаб 46-й стрелковой дивизии С. Н. Борщева. Узкие
дороги вьются среди гранитных
скал и бугров. Везде в зелени, в цветах -- гранитные валуны. В
заливчиках пролива дачки. На берегу, на зеленой траве большая морская баржа.
Амбар из красноватого гранита с белой дощатой крышей. Пустые автоцистерны в
траве.
Кулома. Тесный поселок -- дачные домики. Огромный бумажно-целлюлозный
завод. Невредим! Разрушенные мосты -- шоссейный и железнодорожный. Роккала
-- десять больших корпусов. Труба стеклянного завода, полуразрушенные белые
дома.
Едем обратно. От бумкомбината тянется деревянный трубопровод.
Остановились у комбината. Ищем. Целые стекла, многоэтажные корпуса,
несколько из них недостроены.
2 часа дня
Вот наконец КП 108-го стрелкового корпуса. На крылечке дачи -- штабные
офицеры, командиры полков. Полковник кричит в телефон:
-- Как только подвезут бензин, отправлю оперативную группу либо на
окраину, либо в Хохтиа-йоки. Маршрутом можно ехать! Уцелел ли мост хоть
единственный? Не доезжали?
Полковнику говорят:
-- Двести шестьдесят восьмая стрелковая дивизия есть!
Полковнику и всем некогда -- горячка:
-- Может быть, через три-четыре часа буду свободен! (то есть возьмут
Выборг!) -- Наспех объясняет: -- Противник упорно сопротивляется. Мы
подчищаем фланги, прежде чем штурмовать город. Пока взошли на его южную
окраину, ведя бой, передовые батальоны дивизий Лященко и Елшинова.
Н. Г. Лященко назначен комендантом Выборга.
На террасе дачи -- две дамы: Вишневецкая в морском кителе и Валентина
Серова в светло-серых суконных галифе и кителе. Симонов и Вишневский
путешествуют с женами. Сами уехали вперед, их оставили здесь, в штабе
корпуса.
... Проехал на "виллисе" генерал-майор Алиев, перевязанный, ранен в
голову, нарвался на мину с машиной...
Видим шофера спецкора "Правды" Ганичева. Рассказывает: Ганичев ранен,
его машина разбита при бомбежке четырьмя самолетами у места вчерашнего
расположения штаба корпуса, возле бухты Кивикомяки. Это ее, перевернутую и
разбитую, мы видели по пути сюда!
Где Ганичев?
Здесь, вот в том доме. Только он отдыхает, просил его не будить. Ранен
легко.
Авиация противника налетала по двадцать пять -- тридцать самолетов,
бомбила в разных местах.
... Мне важно найти полк Семенова. Он сейчас в деревне Эмисуомяки. Едем
туда...
Командир стремительного полка
20 июня. Деревня Эмисуомяки
В маленькой ярко раскрашенной даче, окруженной кустами цветущей сирени,
нахожу штаб стремительного полка.
Так вон он какой -- подполковник Сергей Федорович Семенов! Выходит
навстречу мне: худощавый, голубоглазый, непослушные белокурые волосы
зачесаны назад. Он совсем еще молод (ему 29 лет), лицо у него свежее, ясное,
чистое. Будто и не устал! На левой стороне подбородка шрам (узнаю позже: от
осколка, полученного в бою в деревне Котяжье). Аккуратно затянутая ремнем
гимнастерка, с орденами Александра Невского (за бои под Псковом) и
Отечественной войны 2-й степени (за Красный Бор, в 1943 году). Уже знаю:
сейчас он представлен к Герою Советского Союза. Рядом с ним вьется большая
ласковая породистая собака, она всюду с ним. В дачке -- кажется, совсем
мирная обстановка: финская посуда, журналы, вещи не тронуты, чисто и все на
своих местах.
Полк только что вышел из боя и снова уходит вперед. Семенов приглашает
с ним пообедать, ждем к обеду командира дивизии, подполковника Борщева,
который не раз приезжал к нему (первый раз: "Тебя не догонишь, еле догнал!")
и вот-вот подъедет сейчас...
Усаживает за стол, вынесенный в сад, ведем неторопливо беседу -- между
двумя боями у него пауза. Борщев приедет, поставит задачу, а пока полк к
выступлению, как всегда, готов, ждет только приказа...
 Командир стремительного полка подполковник Семенов за четыре часа до
штурма Выборга. 20 июня 1944 г.
Семенов рассказывает мне весь боевой путь полка по Карельскому
перешейку, начиная с последнего боя, который закончил сегодня, на пути сюда.
За четверо суток он с боями (и какими боями!) прошел без отдыха больше
шестидесяти километров. Начиная с Юккола, где, кстати взял два финских
штаба, шел с поддерживающей его техникой впереди всех; взял кроме прочих
трофеев семнадцать батарей -- сорок восемь орудий.
-- Я бы так дошел и до Выборга, если бы мой полк не был после
Роккалан-йоки сменен Тысяча семьдесят восьмым полком майора Яненко, а сейчас
мне ставят вспомогательную задачу! Но бойцы не хотят выходить из боя, пример
тому -- шестая рота, она и сейчас в бою!..
А кем же был до войны Семенов? Родился в 1915 году под Кингисеппом, в
деревне Хревицы. Мать -- прачка, умерла за семь лет до этой войны, отец --
стрелочник, железнодорожник, умер, когда сынишке Сереже было два года.
Сережа восемь лет пастушил, учился в школе комсомольской молодежи, потом
девять месяцев в областном институте потребкооперации и стал директором
волосовского районного универмага. Этой мирной работой занимался два года. А
потом попал в Военно-морское училище имени Орджоникидзе, но не окончил его,
потому что, плавая в первой бригаде подводных лодок на Балтике, заболел
ревматизмом... А еще через два года началась Отечественная война; в Эстонии
он стал командиром роты, и затем -- Гдов, Нева, Синявино, Красный Бор --
тяжкие боевые годы блокады, наступление к Пскову, и вот -- сюда...
Не дождавшись командира дивизии, мы садимся обедать. В саду на столе
водка, жареная щука, американская колбаса, молоко, хлеб. И только выпили по
стопке с тостом: "За Выборг!" -- подкатывает машина, и в ней С. Н. Борщев.
Садится за стол и сразу, без долгих предисловий, хватив стопку и сунув в рот
кусок колбасы, выкладывает перед нами свою "пятидесятитысячную" карту:
-- Вот тебе задача! -- Рисует, куда выйти. -- Один батальон! --
очерчивает красным карандашом берег и мыс. -- Другой батальон (то же). А
сюда можешь поставить свое боевое охранение!
Считает квадраты.
Вот так тебе идти!
Товарищ подполковник, -- произносит Семенов, -- здесь мостя нет!
Пусть плот сделают.
А я лучше вот тут пойду...
Куда? Да тут сколько тебе идти!
А немного скорее буду, и хоть полк свой посмотрю сам...
Борщев считает километры:
Один. Два. Три лишних!
Но это лучше, чем переправа... Тут подсказывают: скорее будет!
Ну ладно... Иди тут. Успеешь? Сколько тебе дать? Час?
Что вы, за час!..
Считает километры. Выходит -- десять. Надо снять батальоны с прежних
рубежей, провести их. На всю операцию дается четыре часа.
Успеешь?
Вполне!
Ну и все! -- бросает карандаш, складывает карту. -- Выполняй!
Встает, уходит. Мы остаемся: три корреспондента ТАСС, корреспондент
армейской газеты Леонов, майор Дертин из Политуправления фронта и командир
полка Семенов. Семенов уже отдал распоряжение поднять полк, приготовить к
переходу, сам -- тут же.
Рассматриваем финское деревянное кресло, раскладывающееся в кровать.
Все это -- после обеда с сервировкой из финской посуды.
Борщев, только что приехав из корпуса, сообщил нам: 314-я и 90-я
дивизии на окраинах. Одна -- на острове, юго-восточнее Выборга, другая ведет
бой на южной окраине.
... Теперь мне не по пути с Ратнером и Баранниковым: хочу обязательно
попасть в минометный полк Федора Шаблия, поддерживающий сейчас уже не полк
Семенова, а 1078-й, штурмующий сейчас Выборг полк майора Яненко (314-й
дивизии).
Где увидимся?
В Выборге, конечно! У коменданта города!..
Миномет Степана Клочкова
20 июня. Коса у Выборга. День
Четвертая линия вражеской обороны, проходящая в семи-восьми километрах
от Выборга, проломлена прямотаки с ходу, на всем ее (сравнительно небольшом)
протяжении. Приблизившись по Приморскому шоссе к Выборгу, минометчики майора
Шаблия преодолели сопротивление врага на высоте 33. 0 -- в горловине
протянувшегося к Выборгу мыса. Прибыв сюда на полуторках, они уже знали, что
штурм города начался -- со стороны юга. Они прибыли к Выборгу -- на косу,
опередив тех, кто наступал с юга, но поддерживаемый ими 1078-й стрелковый
полк Яненко ворвался в город раньше их -- с юга. Расположив свои огневые
позиции на косе, с северной стороны, они (связанные с командиром 314-й
дивизии по радио) повели по городу огонь из своих 120-миллиметровых
минометов.
Перед тем, на подступах к Выборгу, 19 июня полк Шаблия, дойдя до
Кайслахти, преодолев здесь на ручье сопротивление растрепанного финского
полка, поддерживал полк Яненко, который вел бой на излучине шоссе у станции
Сомме -- в узком проходе в лесу, где по сторонам было болото и где, до
поддержки минометами Шаблия, Яненко задержался на два часа. По станции Сомме
минометчики дали до ста выстрелов.
Сейчас майор Шаблий, ведя бой, находится на командном пункте своего
полка -- ему не до корреспондентов.
У него непосредственная радиосвязь с 1078-м стрелковым полком Яненко: в
каждый из батальонов он выслал своих наблюдателей-корректировщиков;
начальники взводов управления пошли: лейтенант Лысенко -- во второй батальон
1078-го сп; капитан Грязное с командиром батареи старшим лейтенантом
Коровиным и начальником разведки лейтенантом Носовым -- в третий батальон
(он первым ворвался в Выборг с южной стороны), начальник разведки первого
дивизиона лейтенант Шамшин и командир батареи лейтенант Ерохин -- в первый
батальон, штурмующий город со стороны Хутиала, вместе с третьим батальоном.
Наши позиции на косе находятся в полутора километрах от города. Полк
дает огонь по вызовам с юга, и много огня, обеспечивая сохранность моста и
предупреждая контратаки во фланг батальонам...
Командир стремительного полка подполковник Семенов за четыре часа до
штурма Выборга. 20 июня 1944 г.
Семенов рассказывает мне весь боевой путь полка по Карельскому
перешейку, начиная с последнего боя, который закончил сегодня, на пути сюда.
За четверо суток он с боями (и какими боями!) прошел без отдыха больше
шестидесяти километров. Начиная с Юккола, где, кстати взял два финских
штаба, шел с поддерживающей его техникой впереди всех; взял кроме прочих
трофеев семнадцать батарей -- сорок восемь орудий.
-- Я бы так дошел и до Выборга, если бы мой полк не был после
Роккалан-йоки сменен Тысяча семьдесят восьмым полком майора Яненко, а сейчас
мне ставят вспомогательную задачу! Но бойцы не хотят выходить из боя, пример
тому -- шестая рота, она и сейчас в бою!..
А кем же был до войны Семенов? Родился в 1915 году под Кингисеппом, в
деревне Хревицы. Мать -- прачка, умерла за семь лет до этой войны, отец --
стрелочник, железнодорожник, умер, когда сынишке Сереже было два года.
Сережа восемь лет пастушил, учился в школе комсомольской молодежи, потом
девять месяцев в областном институте потребкооперации и стал директором
волосовского районного универмага. Этой мирной работой занимался два года. А
потом попал в Военно-морское училище имени Орджоникидзе, но не окончил его,
потому что, плавая в первой бригаде подводных лодок на Балтике, заболел
ревматизмом... А еще через два года началась Отечественная война; в Эстонии
он стал командиром роты, и затем -- Гдов, Нева, Синявино, Красный Бор --
тяжкие боевые годы блокады, наступление к Пскову, и вот -- сюда...
Не дождавшись командира дивизии, мы садимся обедать. В саду на столе
водка, жареная щука, американская колбаса, молоко, хлеб. И только выпили по
стопке с тостом: "За Выборг!" -- подкатывает машина, и в ней С. Н. Борщев.
Садится за стол и сразу, без долгих предисловий, хватив стопку и сунув в рот
кусок колбасы, выкладывает перед нами свою "пятидесятитысячную" карту:
-- Вот тебе задача! -- Рисует, куда выйти. -- Один батальон! --
очерчивает красным карандашом берег и мыс. -- Другой батальон (то же). А
сюда можешь поставить свое боевое охранение!
Считает квадраты.
Вот так тебе идти!
Товарищ подполковник, -- произносит Семенов, -- здесь мостя нет!
Пусть плот сделают.
А я лучше вот тут пойду...
Куда? Да тут сколько тебе идти!
А немного скорее буду, и хоть полк свой посмотрю сам...
Борщев считает километры:
Один. Два. Три лишних!
Но это лучше, чем переправа... Тут подсказывают: скорее будет!
Ну ладно... Иди тут. Успеешь? Сколько тебе дать? Час?
Что вы, за час!..
Считает километры. Выходит -- десять. Надо снять батальоны с прежних
рубежей, провести их. На всю операцию дается четыре часа.
Успеешь?
Вполне!
Ну и все! -- бросает карандаш, складывает карту. -- Выполняй!
Встает, уходит. Мы остаемся: три корреспондента ТАСС, корреспондент
армейской газеты Леонов, майор Дертин из Политуправления фронта и командир
полка Семенов. Семенов уже отдал распоряжение поднять полк, приготовить к
переходу, сам -- тут же.
Рассматриваем финское деревянное кресло, раскладывающееся в кровать.
Все это -- после обеда с сервировкой из финской посуды.
Борщев, только что приехав из корпуса, сообщил нам: 314-я и 90-я
дивизии на окраинах. Одна -- на острове, юго-восточнее Выборга, другая ведет
бой на южной окраине.
... Теперь мне не по пути с Ратнером и Баранниковым: хочу обязательно
попасть в минометный полк Федора Шаблия, поддерживающий сейчас уже не полк
Семенова, а 1078-й, штурмующий сейчас Выборг полк майора Яненко (314-й
дивизии).
Где увидимся?
В Выборге, конечно! У коменданта города!..
Миномет Степана Клочкова
20 июня. Коса у Выборга. День
Четвертая линия вражеской обороны, проходящая в семи-восьми километрах
от Выборга, проломлена прямотаки с ходу, на всем ее (сравнительно небольшом)
протяжении. Приблизившись по Приморскому шоссе к Выборгу, минометчики майора
Шаблия преодолели сопротивление врага на высоте 33. 0 -- в горловине
протянувшегося к Выборгу мыса. Прибыв сюда на полуторках, они уже знали, что
штурм города начался -- со стороны юга. Они прибыли к Выборгу -- на косу,
опередив тех, кто наступал с юга, но поддерживаемый ими 1078-й стрелковый
полк Яненко ворвался в город раньше их -- с юга. Расположив свои огневые
позиции на косе, с северной стороны, они (связанные с командиром 314-й
дивизии по радио) повели по городу огонь из своих 120-миллиметровых
минометов.
Перед тем, на подступах к Выборгу, 19 июня полк Шаблия, дойдя до
Кайслахти, преодолев здесь на ручье сопротивление растрепанного финского
полка, поддерживал полк Яненко, который вел бой на излучине шоссе у станции
Сомме -- в узком проходе в лесу, где по сторонам было болото и где, до
поддержки минометами Шаблия, Яненко задержался на два часа. По станции Сомме
минометчики дали до ста выстрелов.
Сейчас майор Шаблий, ведя бой, находится на командном пункте своего
полка -- ему не до корреспондентов.
У него непосредственная радиосвязь с 1078-м стрелковым полком Яненко: в
каждый из батальонов он выслал своих наблюдателей-корректировщиков;
начальники взводов управления пошли: лейтенант Лысенко -- во второй батальон
1078-го сп; капитан Грязное с командиром батареи старшим лейтенантом
Коровиным и начальником разведки лейтенантом Носовым -- в третий батальон
(он первым ворвался в Выборг с южной стороны), начальник разведки первого
дивизиона лейтенант Шамшин и командир батареи лейтенант Ерохин -- в первый
батальон, штурмующий город со стороны Хутиала, вместе с третьим батальоном.
Наши позиции на косе находятся в полутора километрах от города. Полк
дает огонь по вызовам с юга, и много огня, обеспечивая сохранность моста и
предупреждая контратаки во фланг батальонам...
 Работа кончена. Выборг наш! 20 июня 1944 г.
Смотрю на Выборг. Он весь в дыму пожаров и бомбежек, артогня, и от
взрывов, которыми сами финны уничтожают, отступая, все, что могут успеть.
Город ясно виден и без бинокля. Тяжелый миномет Степана Клочкова стоит меж
двумя гранитными валунами на овальной, поросшей строгими соснами высоте. Эта
высота венчает собою оконечность узкой и длинной косы, примыкающей с
юго-запада вплотную к окраине Выборга. Город и косу разделяет только узкий
пролив. Приморское шоссе перекидывается через него мостом, воздвигнутым на
трех гранитных быках. Наступающим частям стоит только перейти мост, чтоб
оказаться в городе. И возле моста уже два часа подряд шумит бой, хотя
основное направление удара штурмующих войск совсем не здесь, а отсюда далеко
вправо -- с той юго-восточной окраины Выборга, где не нужно форсировать
водных преград, где свободно вступают в город магистральное Выборгское шоссе
и три, слившиеся в одну, железные дороги: от Кексгольма, от Ленинграда и от
Койвисто. Там, давя
сопротивляющегося врага, к городу все ближе приливает громада наших
вышедших на штурм войск -- танки, самоходные орудия и пехота.
А здесь, у моста через пролив, нужно только способствовать главному
удару. Город отсюда ближе, каждый дом и каждая улица с высоты виднеются
отчетливо, огонь отсюда жжет противника с фланга, все боевые порядки
обороняющихся просматриваются, как сквозь увеличительное стекло. И важно
также заградить огнем подходы к этому мосту, чтобы противник не мог
устремить сюда свой контрудар, ни подпалить шнуры к взрывчатке,
заблаговременно заложенной в мост.
Завесу непрерывных разрывов, ограждающую мост, держат другие минометы,
а Степан Клочков из своего посылает пудовые мины точно по тем перекресткам
улиц, на которые вражеских солдат выдавливают наши наступающие справа части.
Точность нужна исключительная. Ясно видны наши танки, внезапно
выкатывающиеся из переулков, видны пехотинцы, спрыгивающие с брони на
асфальт, видно, как они рассыпаются и, стреляя из автоматов, бегут вперед, а
одновременно видны и группы солдат противника, которые, таясь за углами
домов, выжидают, не стреляя, подпуская атакующих ближе.
Нужно не прозевать! Посланная Степаном Клочковым мина, выгнув с воем
двухкилометровую дугу, плюхается в самую середочку такой, готовой открыть
стрельбу группы -- и уже некому встретить огнем подскочивших к углу дома
наших десантников-автоматчиков.
Малейшая ошибка во времени или в прицеле грозит ударом по своим, потому
что свои оказываются на том месте, где была группа вражеских солдат, через
какиенибудь секунды после разрыва очередной мины.
... Мост окаймлен огнем. Но штурм города с этой стороны продолжается и
вброд, силы штурмующих увеличиваются с каждой минутой, силы сдающего квартал
за кварталом противника постепенно слабеют.
Время близится к семи часам вечера. Розовые лучи снижающегося солнца
подсвечивают темную тучу, что образовалась над городом от дыма многих
пожаров. Пикируя из этой тучи, наши самолеты-штурмовики носятся низко над
самыми улицами. Танки и самоходки катятся по городу уже во всех
направлениях, стреляя в те окна домов, откуда вырываются пулеметные очереди.
Разгоряченного, обливающегося потом Степана Клочкова сзади хватает за
плечо лейтенант:
-- Ты что же, не слышишь?.. Все... все... Прекрати огонь! Выборг наш!..
Воспаленными глазами Степан Клочков глядит на своего командира.
А вон там... в порту... дерутся еще!..
Это уже не драка, -- усмехается командир, -- это просто наглядное
пособие для желающих наблюдателей. Без нас теперь обойдется. А нам приказ --
сниматься да квартирочку выбрать в городе!
В самом деле -- пора. Скорее -- в Выборг!..
Выборг, двадцатое июня
20 июня. Вечер
-- Донесение в штаб Двадцать первой армии, -- говорит мне встретившийся
у первой же "пробки" генералмайор танковых войск Хасин: -- Выборг полностью
взят в девятнадцать часов сорок пять минут! Первыми в Выборг вошли танки
полковника Проценко и подполковника Ковалевского. С ними Триста
четырнадцатая и Девяностая стрелковые дивизии Елшинова и Лященко. И конечно,
саперы, минометчики, артиллеристы, в том числе самоходки Котова[1].
И добавляет:
-- Саперы обеспечили наступление, это бесспорно!.. А Котов Иван
Дмитриевич был раньше моим командиром батальона -- в Двадцать пятом танковом
полку. Я в Латвии был, а он не дошел тогда...
[1] "... В 10. 45 утра 20 июня по Приморскому шоссе на окраинные улицы
Выборга вступили авангардные подразделения 90-й стрелковой дивизии под
командованием генерал-майора Н. Г. Лященко... Следом за 90-й стрелковой
дивизией южной окраины города достигло соединение полковника М. С. Елшинова
(т. е. 314-я сд. -- П. Л. ). По Выборгскому шоссе входили части
генерал-майора П. И. Радыгина. Им помогали танки и самоходная артиллерия. В
обход города с востока командование направило стрелковый корпус
генерал-лейтенанта И. П. Алферова (109-й. -- П. Л. )... " (Г. Н. Караев и
др. По местам боевой славы. Лениздат, 1963, стр. 417. В цитируемой сноске --
неточность: инициалы Алферова в действительности: Н. И. Кроме того, П. И.
Радыгин в тот момент еще был полковником. -- П. Л. ).
Все дороги заминированы финнами. Немало автомашин и танков подорвалось.
Какая-то "эмка" разорвана в куски.
А "пробки" такие, что лучше идти пешком. Проспав в пути часа два на
траве, иду, обходя город. Переправляюсь в город на подвернувшейся
простреленной лодке, миную насыпь и второй мост -- взорванный. Белый дом.
Белая сирень вдоль дороги. Руины, заросшие белыми цветами... Я -- в Выборге!
Ночь
Белая ночь еще больше способствует ощущению, что ночи и вообще нет.
Светло как днем. Голубое небо и розовые полоски зари заволакиваются клубами
черного дыма. Пламя пожаров и взрывов вздымается здесь и там. С острова
Линносаари по северной части города бьют тяжелые вражеские батареи, но их
все меньше, скоро, подавленные и уничтоженные нашим огнем, они замолкнут
совсем, и сам остров, взятый прошедшими и форсировавшими пролив
подразделениями, очищен от врага.
А вот и Баранников с Ратнером. Беседуют с солдатами, осматривая руины.
Тоже пришли пешком. Идем дальше вместе.
К середине ночи в городе воцаряется тишина, нарушаемая только взрывами
заложенных врагами мин и фугасов, обнаруживаемых нашими саперами. Всюду
расставлены наши зенитки. Наши летчики барражируют в воздухе, и всякий
осмелившийся приблизиться к Выборгу вражеский самолет либо немедленно
спасается от множества наших истребителей, либо пылающим факелом
низвергается на приморский гранит. Записываю на ходу... Рабочая часть
Выборга. Пусто. Сохранились дватри дома. Слева впереди на подъеме ряд
высоких сосен. Шоссе взорвано, сходим... Территория портовой железнодорожной
станции. Окружена проволокой. Надпись: "Заминировано". Железный лом.
Пересекли шоссе опять. Воронки. Идем к центру. Слева впереди, на фоне моря,
две фабричные трубы, корпуса заводов. Справа, за высокими соснами, труба
свечной фабрики. Налево, в автомастерских, -- лязг. Идет работа. Из трубы
фургона -- дым.
19 П Лукницкий
Шоссе, окаймленное валунами, поднимается к роще. В асфальт заделаны
авиабомбы -- вертикально, так, что хвостовые крыльчатки торчат. Это --
своеобразное противотанковое препятствие. В цоколе здания -- гранитный дот.
Мраморные лестницы. Трофейные велосипеды. Заросшая травой улица. По
трамвайным рельсам идут красноармейцы. Стадион. Красные беговые дорожки
расчищены.
На асфальте станковый пулемет "максим". В асфальт врезаны следы
гусениц. Узкоколейные рельсы трамвая. Асфальт в черных дырах. Пятиэтажное
разбомбленное здание. Над ним красное полотнище. Массив кирпича!
Квартал за кварталом обходим мы город. В южной части, так называемой
рабочей окраине, домов почти нет. Большая часть их сожжена и взорвана
финнами еще при их отступлении в 1940 году. Заросшие травою фундаменты и
подвалы служили нынче врагу очагами сопротивления. Здесь наши танки,
самоходные орудия и штурмовые группы пехоты несколько часов назад уничтожали
вражеские огневые точки.
Широкое асфальтированное шоссе, становясь главною улицей, ведет в
центральную часть города. Узкоколейные трамвайные рельсы заржавлены -- в
период оккупации города трамвай здесь, видимо, не ходил. По обочинам и
посреди мостовой в лунках, вскрытых нашими саперами, и здесь видны хвостовые
оперения еще не извлеченных минометных мин и авиабомб -- их закладывали в
мостовую стоймя, торчком, выводя наружу только чуть заметные проволочки,
соединенные со взрывателями.
"Vaestosuoja" -- красная стрелка на желтой доске. Гранитная стена --
скала, улицы наверху. Убитые. От разбомбленного пятиэтажного здания спуск --
центр улицы, первый перекресток. Скелет здания. Воронки, там и здесь
наблюдаем взрывы в асфальте. В стенах -- проломы от снарядов. Улица, по
которой идем, Linnakatu, дом с вывеской "Patterimaen Sauna". Переулок.
Kullervonnatu -- бульвар.
На гранитных, обрамляющих улицу скалах высятся чередой сосны, а под
ними лежат трупы солдат -- тех, кто пытались держать под огнем эту улицу.
Слева, в примыкающей к заливу низине, протянулось гигантское кладбище
автомашин. Здесь были ремонтные мастерские, и враг, отступая, не успел
уничтожить их. Оттуда уже доносится методический стук по металлу, а над
узкой трубой вздымается мирный дымок. Это водители наших машин заменяют
изношенные в наступлении детали запасными частями.
Минуем несколько дотов, сооруженных в гранитных массивах. Они взорваны,
и кровь врага еще не застыла на развалинах. Здание стадиона, к
восстановлению которого было приступлено перед войной, стоит все в тех же,
потемневших лесах. Вскоре мы убеждаемся в том, что в городе за период
оккупации не построено решительно ничего, что созидательный труд в городе
отсутствовал вовсе. К старым разрушениям только прибавились новые и на наших
глазах догорают дома, подожженные оставленными в городе врагом
поджигателями.
В центре города горит огромный семиэтажный дом, горит ресторан в том же
квартале.
Американский семиэтажный дом, строившийся для шюцкоровцев, в переулке
-- цел, второй высокий дом дымится. Заходим: лифт, маскировка. Высоко в
облаках идут самолеты противника, бьют зенитки. Самолеты разворачиваются,
уходят. Минеры с собакой. Гастрономический магазин. Горшки с цветами на
углу.
Vaasancatu ("кату", как я уже понял, значит: улица). Бульвары в сирени.
Прется по асфальту KB "Грозный". В сирени -- зенитки. Католический собор,
разбомбленный в 1940 году, под его потолком нашли большую подвешенную мину.
Братское кладбище с белыми мраморными досками и -- золотом -- фамилиями.
Четыре ряда, сотни две. Рядом спят бойцы.
Против городского почтамта, около мэрии -- штаб 72-й стрелковой
дивизии. Все спят.
Выйдя к центральному городскому скверу, мы видим: против бронзовой
фигуры дикого лося (1924 год, скульптор Manynen) догорающее крыло здания
выборгской библиотеки. Возле библиотеки чирикают птички. У самого входа
лежит труп не успевшего бежать и пытавшегося отстреливаться поджигателя.
Горит газ. Эта библиотека была частной, Иванова, потом стала советской.
Осматриваем библиотеку. Ящики, адрес: "Helsinki, Opelusminiskum
vuoristo". Кровь. Перед библиотекой финский ручной пулемет.
19*
Городской парк. У памятника пасутся лошади. Всюду разбросаны амуниция
финнов и какие-то бумаги...
Четыре финских самолета. Зенитки.
Площадь. Кинотеатр в семиэтажном универмаге. Ravintola Ritari Kahvila
-- гостиница. Стекла целы. Желто-бежевая аптека.
Улица Forkkelincatu, на углу магазин хозяйственных товаров. Мальчик с
собакой -- бронза на мраморном пьедестале. В бульваре городского сквера
полевые кухни. Костер. На бульваре, на траве два самоходных орудия из полка
полковника Бирюкова. Беседую с экипажем СУ-1560. Командир самоходной
установки младший лейтенант Н. И. Глаголев. Старшина Перекрест Василий
"Хведотович", механик-водитель, говорит:
-- Мне как дали вчера машину, так я и пошел сразу в бой! Шли за
танками. Не дойдя одного километра до города, подверглись сильному
минометно-пулеметному огню, дорога была пристреляна. На самой окраине он бил
из пушки по нас... Когда в три часа дня вслед за самыми передовыми
подразделениями мы вошли в город...
Рассказывает, как его машина шла первой и как вели бой в городе, и
сколько взяли пленных.
... Mannerheiminicatu (улица Маннергейма). На наших глазах из подвала
жилого дома начинает клубами вздыматься черный дым. Бойцы спешат сюда
затушить возникающий пожар и вдруг выводят из закоулков двора молодого парня
в финской солдатской форме. Он попался с поличным, его отводят в только что
учрежденное Управление военного коменданта города.
Северная, основная часть Выборга сохранилась. Но противник все еще
обстреливает ее дальнобойными -- с островов. Снаряды ложатся то здесь, то
там. Выбитые отсюда стремительным штурмом фашисты не успели сделать свое
черное дело. Целы примыкающие к порту кварталы, целы пристани и все
сооружения. Но разорить город, распотрошить наспех квартиры и магазины
фашисты, отступая, успели. С возмущением рассказывает командир вступившего
сюда первым полка о том, как, выбивая из домов последних фашистов, бойцы
полка везде наталкивались на хаос полного опустошения. Враг ломал, рушил,
портил все, что попадалось под руку. Даже горшки с цветами из цветочных
магазинов выброшены на улицу. Разбитая мебель, посуда, кипы бумаги, обломки
различных товаров и предметов домашнего обихода валяются грудами и внутри
домов и на улицах.
Сейчас еще нет времени выбрать из этих груд и рассортировать случайно
уцелевшее, и все только тщательно охраняется. Населения в городе нет.
Пленные неохотно признаются: фашистские власти насильственно эвакуировали из
Выборга все гражданское население, гнали мирных жителей из города, не
позволяя им брать никаких вещей. Тех, кто противился угону, убивали тут же.
Большая часть городских квартир еще не осмотрена -- бой только что откипел;
из подвалов и темных углов наши бойцы еще вылавливают одного за другим
прячущихся вражеских солдат...
Солнце всходит над Выборгом
21 июня
Передовые подразделения штурмовавших Выборг войск ворвались в его
юго-восточную часть вчера в два часа дня. К шести часам дня наши войска
приблизились к центру города. К вечеру в наших руках оказалась и северная,
портовая часть. Почти до полуночи город очищался от последних вражеских
автоматчиков, подрывников, поджигателей.
А сейчас, ровно в ноль часов тридцать минут, радисты наших
расположившихся в городе войск слушают приказ Верховного Главнокомандующего
о взятии Выборга.
Воины, взявшие Выборг, не спали по трое, по четверо суток, не знали
отдыха, не имели передышки, но в эту минуту никто не задумывается о сне.
Радость солдат и офицеров необычайна. Все поздравляют друг друга, все
говорят о стремительности, о темпе, о воодушевлении, об умении, благодаря
которым только и можно было пройти за десять суток весь огромный путь от
Сестрорецка и Белоострова до Выборга и на одиннадцатые великолепным штурмом
взять этот прославленный в истории России город.
... А вот уже и солнце всходит над освобожденным Выборгом. Звенят пилы
и стучат молотки саперов, восстанавливающих взорванные мосты. С первого же
часа после победы советские люди начинают созидательную работу. Действующие
части, пройдя сквозь город, уже ведут бой за несколько километров от него,
продолжая в том же стремительном темпе наступление. В город входят воинские
тылы, размещаются в очищенных от мин домах и приводят их в элементарный
порядок.
И снова, проспав часа два на какой-то кровати в доме, занятом
комендантом города Н. Г. Лященко, я брожу по городу, чтоб смотреть,
смотреть...
Выборг -- наш! Там и здесь над самыми высокими зданиями вздымаются
красные флаги.
... Порт. Шесть кранов. Гранитная набережная. Пакгаузы целы. У причалов
лодки -- разбитые и целые. В проливе силуэты катеров. На железнодорожных
путях вагонов и паровозов нет. Склады пусты. Навалью железноскобяные товары.
Часовые и патрули на пустынной набережной. Мост на остров Линносаари
взорван, фотографирую орудия ПТО, наведенные на этот мост. Водокачка, кран,
работающий вручную. Афиша: "Марица".
Linnancatu -- улица к мосту. Разгром. Отдых солдат. Бульвар сквера.
Одинокий раскрытый зонтик.
Банк, разрушенный давно. Кафе горит, и дымятся затухающие пожары в
квартале на улице Маннергейма, бывшей Карьянкату. Отель. Разбиты окна. Сюда
падали бомбы. Большое здание, -- из окна второго этажа кто-то выбрасывает на
улицу пачки бумаги. Они горой загромоздили улицу. Солдаты подносят пачки к
нашим грузовикам. Я взял две пачки хорошей бумаги, перекинул их через плечо.
Армейцы из трофейной команды роются везде... В ясном небе продолжаются
воздушные бои. Бьют зенитки.
Встреча с Федором Шаблием
21 июня. Раннее утро
На бульваре в центре города расположилась на короткий отдых группа
минометчиков со своими 120-миллиметровыми минометами. Оказывается: того
самого полка майора Ф. Е. Шаблия, один из минометов которого при мне вел
огонь вчера. Радостно, будто уже давно знаком, здороваюсь с командиром
полка, гвардии майором Федором Елисеевичем Шаблием, с которым вчера
познакомиться не довелось. Он зовет меня в пустой дом, где пристроился его
штаб. Беседуем...
Федор Шаблий -- кадровый артиллерист. Он украинец, из Кривого Рога, в
юности работал на шахте и на заводе "Коммунист" и, как говорят, "мальчишкой"
ушел в армию. Женился, стал преподавателем артиллерии в Ростовском
артиллерийском училище. Жена преподавала математику в том же училище. В
начале войны эвакуировалась с детьми в Узбекистан. Из двух старших братьев
Федора Шаблия один -- политрук танковой роты -- убит на Южном фронте, второй
недавно демобилизован, как горный техник, вернулся работать на свою шахту.
Федор Шаблий награжден четырьмя орденами: за оборону Ростова в 1941 году, за
взятие станицы Чернышковской на Дону, за взятие Запорожья и за прорыв
обороны врага под Красным Селом.
Ф. Е. Шаблий рассказывает о своем пути вместе с полком Семенова до боя
за перекресток, после которого оба полка прорвались дальше до реки
Роккалан-йоки -- "Досюда шли без приказов".
-- Под Роккалан-йоки, в момент сильного сопротивления финнов, у
стрелкового полка Семенова по недоразумению забрали самоходные орудия,
"катюши" и наш минометный полк, поэтому пехотинцы Семенова вынуждены были
задержаться...
Шаблий подробно описывает бой у станции Сомме, где его полк поддерживал
1078-й полк Яненко (бой за Сомме длился четыре часа), и свое дальнейшее
наступление до Выборгской косы...
-- Мы не знали, что наступление на Выборг ведется с юга. Свой полк мы
поставили первым. Вели огонь по мосту, соединяющему город с косой, и по
Выборгу через залив со стороны косы. Это вы знаете -- сами видели... Огня
давали столько, сколько просили нас. Всего вчера по Выборгу, по южной части
дали штук четыреста мин.
Ночью сегодня противник вел огонь только по северной части города.
После вступления пехоты в Выборг, когда успех был обеспечен, мы
оставили на косе одну батарею старшего лейтенанта Кузнецова (он и сейчас
там), а пять батарей перебросили на юг, для закрепления уже взятой части
города. Когда уходили с косы, в начале ее я встретил Елшинова. Он
сказал: "Молодец! Езжай, правильно!"
Дорога с косы в обход, к южной части города -- каменистая, местами
болотистая. По тридцать человек наваливались на машину и толкали вперед.
Очень помогла наша партийно-комсомольская организация... А сегодня я послал
разведку в обход залива Папуланлахти (с северной части города), где мостов
нет. Они ищут путь, -- как только найдут, мы отсюда, из Выборга, двинемся
туда. А пехота сейчас -- за каналом Сайман-канава -- почти не встречает
сопротивления.
В чем суть успеха при штурме Выборга? Только быстрота! Брали буквально
с ходу. Быстрота действий пехоты совместно с минометным огнем. Без
минометного огня враг не ушел бы! Он был измотан, организовать оборону не
мог, а резервов у него не было. Батальон перешел болото по горло в воде. А
потом много частей -- другого корпуса -- пошло по Выборгскому шоссе.
Батальоны вошли в город, в восемнадцать часов двадцатого и к исходу дня, к
двадцати четырем часам, Выборг они уже прошли. В двадцать четыре часа я со
своим полком был уже на южной окраине...
В городе 1078-й полк Яненко взял более сорока пленных, двух человек
извлек из подвалов. Мы нашли одну женщину, сидящую в кресле, убитую, и
больше ни одного человека: всех эвакуировали в Хельсинки. В результате
насильственного угона населения в любой квартире все перевернуто,
перепотрошено. Если б мы зашли часа через четыре, можно было бы подумать,
что это наши безобразничали, но я убедился сам: все это сделали финны, и
больше всего -- оставленные в городе команды "факельщиков", которые даже при
нас подожгли часть домов... Наш полк имеет сейчас задачу, пройдя через
Выборг, действовать с правой стороны залива Суоменведенпохья. Задача
стрелкового полка Яненко -- закрепиться за каналом. Мы сейчас выходим тоже в
этот район, и так, по "Приморью", пойдем до Хельсинки.
Имеем отзывы Семьдесят второй стрелковой дивизии (о действиях на реке
Сестре), -- лучше не напишешь! И от полка Семенова: восемьдесят километров
прошли за два дня. Благодарности от командира Серок шестой стрелковой
дивизии и от командира Сто восьмого стрелкового корпуса генерал-лейтенанта
Тихонова.
Мы обгоняли противотанковую артиллерию своими минометами, чего не
положено. Это я брал на свой риск. А танков... мы только один брошенный
финский танк встретили -- в Кайслахти. Это был Т-26 -- со свастикой, бывший
наш. Он был в болоте, его вытащили наши танкисты и повели в бой, так со
свастикой он и пошел!
Наш начальник разведки дивизиона лейтенант Носов вообще "имеет
традицию" водить пехоту в атаку (так было под Псковом, он пять раз ранен
там). Сюда, в город, с первой же ротой в цепях шел. Его я обязал быть
глазами нашими и корректировать. Это он блестяще исполнил!
В общем, такая война мне нравится: подвижная и хорошая!..
От реки Сестры и до Выборга я сам шел пешком, в боевых порядках пехоты.
Двигались хорошо. Я доволен пехотой, но финны не боятся пехоты... От
Роккалан-йоки до самого Выборга -- характерно: финны минируют вразброску, а
не по уставному положению. Песком, кстати говоря, легко маскировать!..
... Познакомившись тут же с начальником разведки первого дивизиона,
лейтенантом Александром Васильевичем Носовым, я поговорил с ним, прочитал
отзыв о нем командира батальона капитана Грязнова: "Корректировал огонь
дивизиона, обеспечил беспрерывное продвижение пехоты, уничтожил прямой
наводкой десять станковых пулеметов, подавил четыре минометные батареи и два
орудия, чем обеспечил овладение вторым батальоном южной части Выборга.
Находился в стрелковой роте. Его батареей подавлено пять станковых
пулеметов, две минометные батареи -- одна прямой наводкой... "
... Расставшись с Федором Шаблием и его минометчиками, возвращаюсь в
комендатуру города.
Сегодня наше наступление продолжается -- уже за Выборгом.
Не спит Настенька...
21 июня. Утро. Северней Выборга
У коменданта города я условился с Баранниковым и Ратнером, что мы
соберемся там же, к часу дня, и вместе поедем в Ленинград, -- наши задачи
выполнены. Но
мне хотелось еще найти ушедший вперед 1078-й стрелковый полк Яненко и
узнать обстановку северней Выборга. На попутной машине я выехал в
продолжающие наступать части, километров за десять. Полк Яненко найти мне не
удалось, а обстановку узнал и сразу же возвращаюсь.
В подхватившей меня случайной "эмке" нас пятеро: майор Михаил
Степанович (фамилии его я не спросил), две розовощекие, веселые девушки --
старший сержант Вера и сержант, которая с улыбкой назвала мне себя
Настенькой. Да солдат-шофер, да я...
Внизу, под холмом, саперы восстанавливали мост, взорванный только что
отступившим противником. В ожидании мы поставили нашу машину меж кустами
сирени. Всем очень хотелось спать, и мы решили воспользоваться вынужденной
задержкой. Девушки, подстелив под себя шинели, ложатся на сочную траву под
отдельным кустом сирени; слева от меня, под другим, укладывается на
плащ-палатку майор, а справа, под следующим кустом, -- девушки-сержанты.
Шофер, положив руки и голову на баранку руля, спит в машине. Но мне спать не
удается, и вот почему...
Вера лежит на траве спиною ко мне, лицом к подруге. Настенька на спине,
ладони под затылок и отдохновенно, мечтательно, словно воркуя, что-то
говорит и говорит подруге, должно быть не замечая, что та уже задремала...
Настенька говорит, говорит без умолку, так, как может говорить только
девушка. Я прислушался и, выложив на полевую сумку листки бумаги, стал
записывать... И вот что записано мной...
"... Ну вот... Они уже спят... Конечно... Когда мы последний раз спали?
Сегодня совсем не пришлось. Вчера?.. Михаил Степанович вчера очень смешно
спал в машине. Голова от тряски кругом ходит, а ко мне на плечо все-таки
голову не положил, стеснялся... А почему я не могу спать в машине? Никогда
не засну. Михаил Степанович говорит: "Потому, что ты нервная". А какая я
нервная? Вот уж действительно, пальцем в небо!.. Я даже не знаю, почему у
меня нервы такие крепкие, уж кажется, чего ни навидалась!.. Я просто
внимательная, предусмотрительная... Вот и сейчас он бы просто так на траву
завалился, мужчинам ведь все равно. А я плащ-палатку ему подстелила, шинелью
прикрыла его, хоть и лето, а сыро все-та]
ки здесь. Вон какие следы пушки вдавили -- если б сухо было, траву
примяли б, а колеи не осталось бы...
Как все-таки странно устроено в мире! Подумать только, что тут, где мы
спим сейчас, три часа назад вражеская пушка стояла, вон -- ящики в кустах,
не тронутые еще... Если внимательно поглядеть, все можно понять, -- и как
они бегали тут, и как сначала стреляли туда, за мост, а наши оттуда шли.
Судя по этим стаканам, здесь были противотанковые. Конечно, неплохая позиция
-- на пригорочке, за деревьями, с того берега и не видно, попробуй-ка сунься
к мосту! Вот оттуда -- одна; здесь, где лежу я, -- вторая; третья ниже
стояла, за бруствером, -- они, наверное, только вчера нарыли его, земля
совсем свежая... Десять, двадцать, сколько тут гильз, ну, стаканов этих?
Больше сотни, наверное. Упрямились. Защищались крепко. А все-таки наша
взяла. И как быстро все это делается! Три часа назад тут бой шел, а сейчас
-- мир, тишина, и вот можно уже лежать на травке и мечтать о чем хочешь!.. А
наши уже куда как далеко ушли -- этот гул, должно быть, километров за
десять, не ближе... А это самолеты летят -- р-р... ррр-рр, будто собаки
вдали рычат... Наши, наверное, летят. Все наши, наши теперь, круглые сутки
небо ходуном ходит. Чего ж не летать -- и днем светло и ночи белые, еще
удобнее -- солнце глаза не слепит... Р-ррр, ррр... Сюда приближаются... А
может быть, это немцы? Все-таки и фашистские появляются! В первые дни нашего
наступления здесь совсем не было их, а теперь Гитлер, видно, поднатужился,
малость подкинул им... Сволочи, сегодня все-таки наш аэростат наблюдения
сбили. Как он горел! Небо такое голубое-голубое, солнечное, воздух такой
чудесный... Хорошо, наверное, наблюдателю было покачиваться в гондоле...
пока не налетели они... И всего-то три "мессера". Как они прорвались, черт
их знает!.. Первый раз, когда зенитки их отогнали, я подумала: ну обошлось,
а они -- второй заход и -- такая белая полоска, как нитка, перед "мессером"
вдруг протянулась. Эту очередь он, наверное, пустил зажигательными... И
сразу вспыхнул аэростат. Какое пламя красное было -- огромное. И черный
дым... У меня сердце сжалось, но смотрю: ниже пламени белая точка
покачивается, -- молодец наблюдатель, не растерялся, раскрыл парашют... И
отлегло от сердца у меня сразу. И вдруг --
радость, вижу: одного "мессера" сбили МЫ, потом Другого... Третий,
наверное, ушел, а может быть, дальше поймали его...
В самом деле, сюда летят... Раз, два... Три... Четыре, пять, шесть...
Бомбардировщики. Заход делают... Ну конечно, не наши -- вон зенитки забили.
И вон, и вон... Прямо как фейерверк, трассирующими... Эх, ты, черт,
наверное, этих саперов у моста увидели, -- вот работа саперная, всегда на
самых опасных местах!.. Разбудить, что ли, моих? Ведь если в мост не
попадут, сюда попасть могут, -- сколько от меня до моста, метров двести не
будет?.. А у них рассеивание с такой высоты на пятьсот может быть... Теперь
уже поздно, да мои все равно и не перешли бы на другое место. Авось
пронесет, пусть выспятся... Сволочи, кружат, кружат... Ага, испугались
разрывов все-таки, стороной пошли!.. Ах, вот в чем дело: наши встречают их,
раз, два, три, четыре эскадрильи, ну теперь будет охота!.. Р-рр, ррр....
Уходят, с воздушным боем... А саперы как работали, так и работают, даже
головы никто не поднял, -- измучились, наверное, бревна таскать, торопятся;
а часа через два, пожалуй, мост готов будет, и даже с перильцами. И тогда --
прощай тишина, шумно тут будет, все движенье по этой дороге пойдет, а
сейчас, наверное, километров пять лишних обходом делают, и времени сколько
лишнего, и бензина. Если по четверть литра на машину, так и то несколько
тысяч лишних литров. Не зря немцы мосты взрывают, все-таки хоть чем-нибудь
напакостить нам хотят!.. Знаешь, а ведь "кукушек", наверное, в окружении по
этому лесу немало шатается. Подползет да прирежет... Стрелять-то побоится,
саперы наши внизу услышат, смерть ему тогда... Все-таки автомат я вот так
положу, этот куст опасен, уж очень он близко. А те далекие -- ничего, всегда
снять успею... Вот так... Смешно, куст сирени, а остерегаться надо его! И
сирень-то какая прекрасная -- персидская это. Поедем -- надо будет полную
"эмку" набрать... Сирень!.. Ах, какой же я теперь стала девушкой, что могу
глядеть издали на сирень и полениться встать, чтобы нарвать ее! А было...
Ну, положим, три года назад совсем девчонкой была, только косички срезала...
Нет, не я это была, другой это был человек -- темноты боялась, в лес одна
заходить боялась, каждого мужчины боялась -- вдруг скажет мне что-нибудь
такое, что покраснею!.. А ребята меня нарочно всегда в краску вгоняли:
"Настенька, щечки розовые, носик тоненький, губы бантиком, -- улыбнись!" Ах,
как я злилась тогда! Сержусь на них, а они опять: "Настенька, чем ресницы
растишь, сами по себе ведь такие не вырастают!", "Настенька, влюблен я в
твои голубые глаза!.. " Смеются, проклятые, до слез доведут, я и повернусь,
и убегу, и стыдно мне, и обидно... Неужели всего три года назад я такою
была?.. И когда на войну попала, всего боялась. Смешно, до винтовки боялась
дотронуться, думала -- вдруг выстрелит? Помню, когда приехала на машине
первый раз под Пушкин окопы рыть, к командиру меня подводят, а я ему:
"Товарищ командир, а где тут умыться можно?" -- "А зачем тебе мыться,
вишенка?" -- говорит. И смутилась я: "Да ведь пыль по дороге была!" -- "Ах,
пыль! -- только сказал и весело так засмеялся он. -- Ну ничего не поделаешь,
воды у нас и для питья-то нет, война ведь все-таки, девочка! -- Потом
обернулся к политруку, нахмурился и тихо так -- думал, я не услышу: -- Зачем
только нам таких присылают?!"
Да... А потом... Эх!.. Нет, не три... Кажется, тридцать три года я с
тех пор прожила. Сержант. Автоматчица. Две медали. И все говорят: молода, и
все говорят: красивая девушка... А уважают. Довольны, что никаких ссор из-за
меня, никаких ревностей... И Михаил Степанович давно бы отчислил меня в тыл,
если б я другою была. Говорят: "Молодец, зубастая". Это я-то, "Настенька --
щечки розовые", зубастая? А ведь и впрямь, за словом в карман теперь не
полезу...
А что это за звук?.. Ах, это Ванюшка в машине храпит. Что за интерес за
баранкой спать, скрючившись, когда так на траве хорошо... Впрочем, все
шоферы таковы -- попробуй оторвать его от машины, скажет: "А вдруг угонят,
да мало ли что?.. " Есть у него чувство ответственности -- не ляжет спать,
пока машину не замаскировал... Бродит по кустам, срезает ветки, а сам кричит
мне: "Не ходи тут -- может, минировано!" Мины, конечно, кругом есть, а
только не здесь, не на самой их огневой позиции. По трупам, можно сказать,
видно -- на бегу от наших пуль падали. Не разбегались бы так по собственным
минам, ползком уползали бы... Эх, ведь какие мы стали: кругом трупы
валяются, и мы здесь спим... И ничего... А если б мне три года назад так это
сюда попасть? С ума бы, наверное, от страха сошла... Вон этот вражий солдат
-- его гранатой, наверное, разнесло... В общем, хоть нервы и закалились, а
даже и рассказать кому-нибудь неприятно... Сирень -- и трупы! А в душе --
радость, что это враги так кончают... И что мы наступаем -- радость. И что
все небо в наших самолетах -- радость. И что грохот этот, как перекаты
грозы, гонит и гонит фашистов -- все радость! И что теперь вот и Выборг уже
позади, и мы едем в него, как в тыловой наш город, -- и в этом радость...
Хорошо все-таки жить на свете... Замечательно жить!
И совсем не устала я... А вон то озеро -- какая тоненькая, тоненькая
полоска -- сегодня тоже станет нашим, и завтра я, наверное, буду купаться в
нем!.. И на его бережку -- посплю... Какие красивые здесь места!.. "
Возвращение
21 июня. Вечер. Ленинград
К часу дня я вернулся в Выборг, встретился с Ратнером и Баранниковым,
сразу же выехал с ними в Ленинград. В четыре часа дня мы проехали Териоки
(где у генералов был победный банкет), за Териоками попали под бомбежку, но
благополучно ее проскочили; любовались эскадрой в составе двадцати восьми
единиц, шедшей полным ходом с десантом брать острова Бьеркского архипелага и
Тронгсунда. К вечеру я уже был дома, в своей квартире на канале Грибоедова.
Еще в Выборге, встретившись с полковником П. И. Радыгиным, узнал
новости, сообщенные по радио: сегодня перешел в наступление Карельский фронт
генерала армии К. А. Мерецкова, наши войска, освобождая Медвежегорск,
завязали бои на его окраинах. Между Онежским и Ладожским озерами идет
наступление 7-й армии, на плацдарме южнее Свири занято больше ста населенных
пунктов, в том числе Вознесенье, Ганино, Ерофенко, Петровский Посад,
Мителька, Свирьстрой. У Лодейного Поля Свирь форсирована, создан плацдарм на
северном ее берегу...
Значит, военная сила Финляндии стремительно сокрушается и там. Полный
разгром противника и выход Финляндии в самые ближайшие дни из войны --
обеспечены!.. Вот к чему привело упорство прогитлеровского правительства
этой страны в недавних переговорах с нами! Мы предлагали мир, и скольких же
лишних жертв с той и с другой стороны можно было бы избежать!.. Но... "ву ля
вулю, Жорж Данден... " [1]
Вступление в четвертый год
22 июня. Ленинград.
Сегодня трехлетие со дня начала войны. Как изменились мы! Как
изменилась сама война! Все было к горю тогда, все теперь -- к радости!
23 июня
В Ленинграде -- совсем уже мирная жизнь. Довоенный быт
восстанавливается. В одиночку, семьями и целыми коллективами возвращаются в
Ленинград -- пока еще по специальным вызовам и разрешениям -- эвакуированные
в сорок первом и сорок втором годах жители. Рабочие заводов и фабрик,
инженеры и техники, коллективы театров и многих учреждений прибывают в
Ленинград каждый день. И все хлопочут, устраиваются в своих квартирах и
ремонтируют их. Другие, чьи квартиры разбиты или заселены по ордерам
переселенцами из разбитых квартир и разобранных на дрова домов, добиваются
новых комнат и квартир. Есть среди вернувшихся и такие, кляузные,
недостойные люди, которые обращают свое нелепое негодование на жильцов их
прежней квартиры, хотя те ни в чем и никак не виноваты, потому что в
условиях блокады Ленсоветом, райжилотделами были вынесены вполне
справедливые решения: всех, чье жилье приведено в негодность, сожжено,
разбомблено, разбито вражескими снарядами, переселять в пустующие, брошенные
квартиры.
Тех, кто вернулся в Ленинград по вызову, кто получил пропуск, дающий
право вернуться из эвакуации, городские власти обеспечивают новым жильем. Но
многие возвращаются самовольно, и, конечно, обеспечить их жильем в разбитом
фашистами городе сразу невозможно. Среди этих-то людей и попадаются
"буйствующие".
[1] "Вы этого хотели, Жорж Данден!.. " -- фраза из комедии Мольера
"Жорж Данден" (1668 г. ) В маниакальной погоне за аристократическим званием
женившийся на дочери прогоревших аристократов, обманутый, осмеянный,
униженный герой комедии глубоко раскаивается в совершенной им глупости... но
-- поздно!..
Все, однако, постепенно уладится, жизнь войдет в нормальную колею.
Сегодня я навестил А. А. Ахматову, недавно вернувшуюся в Ленинград из
эвакуации. Видел ее впервые после сентября 1941 года, когда попрощался с нею
перед ее отлетом в Ташкент в подвале бомбоубежища, в момент ожесточенной
бомбежки.
За свои патриотические стихи А. А. Ахматова награждена медалью "За
оборону Ленинграда". Она выглядит бодрой и спокойной, была приветлива,
читала стихи.
Завтра -- день ее рождения, и она шутливо спросила меня:
Что подарят мне завтра -- Шербур?
Наверно, Медвежегорск! -- ответил я. --В Карелии идет наступление наших
войск по всему фронту!
26 июня
Вчера вечером у отца был сердечный приступ. Ночью -- второй. Утром
сегодня -- третий. Вызывал врача. Днем сегодня я увез отца на санитарной
машине в Военно-морской госпиталь на улице Газа.
29 июня
Навещаю отца. Лежать ему долго. У него -- инфаркт. Это второй инфаркт,
после прошлогоднего. Волнуюсь...
... Вчера по Невскому прошли троллейбусы. Первые -- после блокады!
30 июня
Позавчера 7-й армией вместе с десантом Онежской флотилии освобожден
Петрозаводск. 26 июня эта же армия вместе с Ладожской флотилией освободила
Олонец. Еще только 21 июня было сообщение о форсировании реки Свирь, и вот
уже большая часть Карелии очищена от врага.
В 7-й армии я начинал войну, был впервые в бою В Петрозаводске испытал
первую бомбежку. Главным инженером, помощником Г. О. Графтио, на
строительстве Свирской ГЭС был мой отец. Сколько воспоминаний!...
Сегодня -- день жаркий. Впервые за войну я оделся? в штатское,
прогуливался по городу с ощущением, что Ленинград становится совсем мирным
городом.
1 июля
Состояние отца -- тяжелое. Но он не может, не умеет, даже в такой
болезни, лежать без дела. На листочках почтовой бумаги он начал писать свои
мемуары, в которых много внимания уделит истории русской инженерии! и первым
послеоктябрьским стройкам -- железным дорогам, Волховстрою, Свирьстрою. Опыт
и знания у него огромные, им воспитаны несколько поколений
инженеров-строителей, и то, что может рассказать он, никто другой рассказать
не мог бы... [1]
6 июля
Наблюдаю разборку руин на Невском, у площади Восстания. Работает сотни
полторы девушек -- служащих Телефонной станции, Треста столовых и других
городских учреждений. Ходят с носилками, носят кирпич, грузят его на
платформы трамвайных вагонов, которые увозят свой груз к Охтенскому мосту --
там возводится насыпь. Наблюдает за работами девушка-инженер. На полторы
сотни работающих женщин и девушек всего дватри юноши. Жарко. Девушки -- в
коротких юбках, в майках, почти полураздеты, но ничуть не стесняются, им
весело, одна, поднимая носилки, поет: "Та-тарарам-та, таратина-там-там!",
другая, заметив, что я обратил внимание на ее калоши, надетые на босу ногу,
смеется: "Модельные порвала!.. "
По Невскому и Лиговке, вокруг -- обычное городское движение.
[1] За долгие месяцы болезни отец, лежа в госпитале, исписал более
тысячи страничек воспоминаний. И не только личное, а -- историю русской
инженерии с начала века. Прервал записи на 1940 годе, когда, выписавшись из
госпиталя, вновь с прежним трудолюбием взялся за свою преподавательскую и
военно-академическую работу.
А вечером сижу в кафе "Буфф", на Фонтанке, пью пиво. Все будто как
прежде, как до войны. Тихо. Мало народу. Сад почти пуст. Против меня на
скамейке две интеллигентные девушки воркуют с курсантами военноморского
училища. Обсуждают, когда поехать в парк культуры, чтоб потанцевать,
покататься на лодке.
Все ленинградские женщины участвуют в общественной работе по приведению
города в порядок. Например, бригада жен писателей работает в ЦПКО.
7 июля
А реэвакуанты все съезжаются и съезжаются. Сегодня встречал Людмилу
Федоровну и ее сына, вернувшихся с Урала, помог им устраиваться в ее
квартире, на Боровой. Она всем довольна, хотя в уцелевших при разрушении
дома авиабомбой комнатах -- развал и запустение, и потребуется много усилий,
чтобы привести все в порядок.
Общий обзор
Уже накануне взятия нами Выборга финское прогитлеровское правительство
окончательно убедилось, что полное поражение Финляндии неизбежно, и, боясь,
что наши войска войдут в Хельсинки, стало просить Гитлера немедленно
прислать на помощь шесть немецких дивизий и крупные силы авиации. Гитлер в
этой помощи отказал, переправил из Эстонии только одну дивизию, немного
самолетов и одну бригаду штурмовых орудий. 22 июня в Хельсинки явился
Риббентроп уговаривать финнов не заключать сепаратного мира без согласия
Германии. Уговорил продолжать войну. На двухсоткилометровый фронт -- от
окрестностей Выборга до Ладожского озера -- финское командование стянуло все
свои силы. Здесь, в группе "Карельский перешеек", набралось четырнадцать
соединений. Сопротивление нашим войскам усилилось.
С нашей стороны на Карельском перешейке по-прежнему находились 21-я и
23-я армии, они продолжали ожесточенные бои за северные берега Вуоксинской
системы озер и северо-западнее -- за выход к довоенной границе.
Но острова БьерксКого архипелага и множество других островов в
северо-восточном бассейне Финского залива все еще удерживались финскими
войсками. Оголилась от наших, ушедших вперед частей и северная часть
приморского побережья.
Поэтому ставка Верховного Командования приказала силами Балтийского
флота перебросить сюда кроме морской пехоты и мощную 59-ю армию
генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, наступавшую в начале года от Новгорода
и озера Ильмень на соединение с частями Ленинградского фронта, которые
вместе с Волховским фронтом, сняв с Ленинграда блокаду, с боями энергично
преследовали спасавшиеся от "котла" гитлеровские войска, отходившие к Нарве,
Луге и Пскову.
59-я армия вместе с войсками Кронштадтского морского района,
высаживаясь десантом на побережье и острова, вела в конце июня и в начале
июля сильнейшие бои. Корабли Балтфлота одновременно вели бои более чем с
сотней всякого типа вражеских кораблей на морских коммуникациях.
В начале июля никакое вражеское вторжение на очищенные территории
островов и побережья Финского залива уже не могло быть осуществлено. В этот
период, с 21 июня по 14 июля, Карельский перешеек был окаймлен огнем морской
и сухопутной артиллерии, бомбовыми ударами авиации. Только за два дня 4 и 5
июля артиллерией флота и 59-й армии было выпущено более четырнадцати тысяч
снарядов... В этот период 21-я и 23-я армии вели жестокие бои за южные
берега Вуоксинской системы озер (продолжение к востоку "линии ВКТ"), не
преодоленные до того 23-й армией, и за выход к довоенной границе с
Финляндией.
В июльские дни в боях участвовать мне не пришлось. Вместе с А.
Прокофьевым, М. Дудиным, И. Авраменко и П. Журбой я оказался в 30-м
гвардейском корпусе Н. П. Симоняка, выведенном 15--16 июня в резерв фронта,
а с 25 июня вновь переданном в состав 21-й армии. После упорных боев
восточнее Выборга в районе Тали и далее к северу корпус был оставлен на,
отдых, для пополнения и войсковых учений с влившейся в него молодежью.
Несколько дней я провел в дружеских беседах с четырежды краснознаменным
гвардии полковником Н. Г. Арсеньевым, который, оправившись от тяжелого ра-
нения под Нарвой, был назначен в Зб-й корпус командовать одним из
гвардейских полков (197-м сп 64-й дивизии). Корпус располагался в нескольких
километрах от Выборга.
Этот корпус, действовавший в начале Выборгской операции на направлении
главного удара (которое, как я уже говорил, по ходу операции трижды
менялось), понес тогда значительные потери [1].
С 14 июля, по приказу командующего Ленинградским фронтом, войска 21-й и
59-й армий прекратили наступательные действия на Карельском перешейке и
перешли к жесткой обороне[2]. Смысла наступать, проливая лишнюю кровь, здесь
больше не было. Поражение Финляндии было предопределено, и никто не
сомневался, что она выйдет из войны, как только гитлеровские войска окажутся
изгнанными из Прибалтики... Весь удар всех сил Ленинградского фронта
надлежало направить туда. Крупные соединения с 14 июля стали постепенно
уходить на юг с Карельского перешейка и концентрироваться в назначенных
местах для новой крупнейшей наступательной операции...
[1] Допустимый объем книги заставил меня исключить из нее большую
(около трех печатных листов) главу, описывающую боевой путь корпуса и
происходившие при мне учения.
[2] Битва за Ленинград. М., Воениздат, 1964, стр. 472--490, в частности
стр. 484. Также: К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., Изд-во
иностранной литературы, 1956, стр. 439 и др.
Работа кончена. Выборг наш! 20 июня 1944 г.
Смотрю на Выборг. Он весь в дыму пожаров и бомбежек, артогня, и от
взрывов, которыми сами финны уничтожают, отступая, все, что могут успеть.
Город ясно виден и без бинокля. Тяжелый миномет Степана Клочкова стоит меж
двумя гранитными валунами на овальной, поросшей строгими соснами высоте. Эта
высота венчает собою оконечность узкой и длинной косы, примыкающей с
юго-запада вплотную к окраине Выборга. Город и косу разделяет только узкий
пролив. Приморское шоссе перекидывается через него мостом, воздвигнутым на
трех гранитных быках. Наступающим частям стоит только перейти мост, чтоб
оказаться в городе. И возле моста уже два часа подряд шумит бой, хотя
основное направление удара штурмующих войск совсем не здесь, а отсюда далеко
вправо -- с той юго-восточной окраины Выборга, где не нужно форсировать
водных преград, где свободно вступают в город магистральное Выборгское шоссе
и три, слившиеся в одну, железные дороги: от Кексгольма, от Ленинграда и от
Койвисто. Там, давя
сопротивляющегося врага, к городу все ближе приливает громада наших
вышедших на штурм войск -- танки, самоходные орудия и пехота.
А здесь, у моста через пролив, нужно только способствовать главному
удару. Город отсюда ближе, каждый дом и каждая улица с высоты виднеются
отчетливо, огонь отсюда жжет противника с фланга, все боевые порядки
обороняющихся просматриваются, как сквозь увеличительное стекло. И важно
также заградить огнем подходы к этому мосту, чтобы противник не мог
устремить сюда свой контрудар, ни подпалить шнуры к взрывчатке,
заблаговременно заложенной в мост.
Завесу непрерывных разрывов, ограждающую мост, держат другие минометы,
а Степан Клочков из своего посылает пудовые мины точно по тем перекресткам
улиц, на которые вражеских солдат выдавливают наши наступающие справа части.
Точность нужна исключительная. Ясно видны наши танки, внезапно
выкатывающиеся из переулков, видны пехотинцы, спрыгивающие с брони на
асфальт, видно, как они рассыпаются и, стреляя из автоматов, бегут вперед, а
одновременно видны и группы солдат противника, которые, таясь за углами
домов, выжидают, не стреляя, подпуская атакующих ближе.
Нужно не прозевать! Посланная Степаном Клочковым мина, выгнув с воем
двухкилометровую дугу, плюхается в самую середочку такой, готовой открыть
стрельбу группы -- и уже некому встретить огнем подскочивших к углу дома
наших десантников-автоматчиков.
Малейшая ошибка во времени или в прицеле грозит ударом по своим, потому
что свои оказываются на том месте, где была группа вражеских солдат, через
какиенибудь секунды после разрыва очередной мины.
... Мост окаймлен огнем. Но штурм города с этой стороны продолжается и
вброд, силы штурмующих увеличиваются с каждой минутой, силы сдающего квартал
за кварталом противника постепенно слабеют.
Время близится к семи часам вечера. Розовые лучи снижающегося солнца
подсвечивают темную тучу, что образовалась над городом от дыма многих
пожаров. Пикируя из этой тучи, наши самолеты-штурмовики носятся низко над
самыми улицами. Танки и самоходки катятся по городу уже во всех
направлениях, стреляя в те окна домов, откуда вырываются пулеметные очереди.
Разгоряченного, обливающегося потом Степана Клочкова сзади хватает за
плечо лейтенант:
-- Ты что же, не слышишь?.. Все... все... Прекрати огонь! Выборг наш!..
Воспаленными глазами Степан Клочков глядит на своего командира.
А вон там... в порту... дерутся еще!..
Это уже не драка, -- усмехается командир, -- это просто наглядное
пособие для желающих наблюдателей. Без нас теперь обойдется. А нам приказ --
сниматься да квартирочку выбрать в городе!
В самом деле -- пора. Скорее -- в Выборг!..
Выборг, двадцатое июня
20 июня. Вечер
-- Донесение в штаб Двадцать первой армии, -- говорит мне встретившийся
у первой же "пробки" генералмайор танковых войск Хасин: -- Выборг полностью
взят в девятнадцать часов сорок пять минут! Первыми в Выборг вошли танки
полковника Проценко и подполковника Ковалевского. С ними Триста
четырнадцатая и Девяностая стрелковые дивизии Елшинова и Лященко. И конечно,
саперы, минометчики, артиллеристы, в том числе самоходки Котова[1].
И добавляет:
-- Саперы обеспечили наступление, это бесспорно!.. А Котов Иван
Дмитриевич был раньше моим командиром батальона -- в Двадцать пятом танковом
полку. Я в Латвии был, а он не дошел тогда...
[1] "... В 10. 45 утра 20 июня по Приморскому шоссе на окраинные улицы
Выборга вступили авангардные подразделения 90-й стрелковой дивизии под
командованием генерал-майора Н. Г. Лященко... Следом за 90-й стрелковой
дивизией южной окраины города достигло соединение полковника М. С. Елшинова
(т. е. 314-я сд. -- П. Л. ). По Выборгскому шоссе входили части
генерал-майора П. И. Радыгина. Им помогали танки и самоходная артиллерия. В
обход города с востока командование направило стрелковый корпус
генерал-лейтенанта И. П. Алферова (109-й. -- П. Л. )... " (Г. Н. Караев и
др. По местам боевой славы. Лениздат, 1963, стр. 417. В цитируемой сноске --
неточность: инициалы Алферова в действительности: Н. И. Кроме того, П. И.
Радыгин в тот момент еще был полковником. -- П. Л. ).
Все дороги заминированы финнами. Немало автомашин и танков подорвалось.
Какая-то "эмка" разорвана в куски.
А "пробки" такие, что лучше идти пешком. Проспав в пути часа два на
траве, иду, обходя город. Переправляюсь в город на подвернувшейся
простреленной лодке, миную насыпь и второй мост -- взорванный. Белый дом.
Белая сирень вдоль дороги. Руины, заросшие белыми цветами... Я -- в Выборге!
Ночь
Белая ночь еще больше способствует ощущению, что ночи и вообще нет.
Светло как днем. Голубое небо и розовые полоски зари заволакиваются клубами
черного дыма. Пламя пожаров и взрывов вздымается здесь и там. С острова
Линносаари по северной части города бьют тяжелые вражеские батареи, но их
все меньше, скоро, подавленные и уничтоженные нашим огнем, они замолкнут
совсем, и сам остров, взятый прошедшими и форсировавшими пролив
подразделениями, очищен от врага.
А вот и Баранников с Ратнером. Беседуют с солдатами, осматривая руины.
Тоже пришли пешком. Идем дальше вместе.
К середине ночи в городе воцаряется тишина, нарушаемая только взрывами
заложенных врагами мин и фугасов, обнаруживаемых нашими саперами. Всюду
расставлены наши зенитки. Наши летчики барражируют в воздухе, и всякий
осмелившийся приблизиться к Выборгу вражеский самолет либо немедленно
спасается от множества наших истребителей, либо пылающим факелом
низвергается на приморский гранит. Записываю на ходу... Рабочая часть
Выборга. Пусто. Сохранились дватри дома. Слева впереди на подъеме ряд
высоких сосен. Шоссе взорвано, сходим... Территория портовой железнодорожной
станции. Окружена проволокой. Надпись: "Заминировано". Железный лом.
Пересекли шоссе опять. Воронки. Идем к центру. Слева впереди, на фоне моря,
две фабричные трубы, корпуса заводов. Справа, за высокими соснами, труба
свечной фабрики. Налево, в автомастерских, -- лязг. Идет работа. Из трубы
фургона -- дым.
19 П Лукницкий
Шоссе, окаймленное валунами, поднимается к роще. В асфальт заделаны
авиабомбы -- вертикально, так, что хвостовые крыльчатки торчат. Это --
своеобразное противотанковое препятствие. В цоколе здания -- гранитный дот.
Мраморные лестницы. Трофейные велосипеды. Заросшая травой улица. По
трамвайным рельсам идут красноармейцы. Стадион. Красные беговые дорожки
расчищены.
На асфальте станковый пулемет "максим". В асфальт врезаны следы
гусениц. Узкоколейные рельсы трамвая. Асфальт в черных дырах. Пятиэтажное
разбомбленное здание. Над ним красное полотнище. Массив кирпича!
Квартал за кварталом обходим мы город. В южной части, так называемой
рабочей окраине, домов почти нет. Большая часть их сожжена и взорвана
финнами еще при их отступлении в 1940 году. Заросшие травою фундаменты и
подвалы служили нынче врагу очагами сопротивления. Здесь наши танки,
самоходные орудия и штурмовые группы пехоты несколько часов назад уничтожали
вражеские огневые точки.
Широкое асфальтированное шоссе, становясь главною улицей, ведет в
центральную часть города. Узкоколейные трамвайные рельсы заржавлены -- в
период оккупации города трамвай здесь, видимо, не ходил. По обочинам и
посреди мостовой в лунках, вскрытых нашими саперами, и здесь видны хвостовые
оперения еще не извлеченных минометных мин и авиабомб -- их закладывали в
мостовую стоймя, торчком, выводя наружу только чуть заметные проволочки,
соединенные со взрывателями.
"Vaestosuoja" -- красная стрелка на желтой доске. Гранитная стена --
скала, улицы наверху. Убитые. От разбомбленного пятиэтажного здания спуск --
центр улицы, первый перекресток. Скелет здания. Воронки, там и здесь
наблюдаем взрывы в асфальте. В стенах -- проломы от снарядов. Улица, по
которой идем, Linnakatu, дом с вывеской "Patterimaen Sauna". Переулок.
Kullervonnatu -- бульвар.
На гранитных, обрамляющих улицу скалах высятся чередой сосны, а под
ними лежат трупы солдат -- тех, кто пытались держать под огнем эту улицу.
Слева, в примыкающей к заливу низине, протянулось гигантское кладбище
автомашин. Здесь были ремонтные мастерские, и враг, отступая, не успел
уничтожить их. Оттуда уже доносится методический стук по металлу, а над
узкой трубой вздымается мирный дымок. Это водители наших машин заменяют
изношенные в наступлении детали запасными частями.
Минуем несколько дотов, сооруженных в гранитных массивах. Они взорваны,
и кровь врага еще не застыла на развалинах. Здание стадиона, к
восстановлению которого было приступлено перед войной, стоит все в тех же,
потемневших лесах. Вскоре мы убеждаемся в том, что в городе за период
оккупации не построено решительно ничего, что созидательный труд в городе
отсутствовал вовсе. К старым разрушениям только прибавились новые и на наших
глазах догорают дома, подожженные оставленными в городе врагом
поджигателями.
В центре города горит огромный семиэтажный дом, горит ресторан в том же
квартале.
Американский семиэтажный дом, строившийся для шюцкоровцев, в переулке
-- цел, второй высокий дом дымится. Заходим: лифт, маскировка. Высоко в
облаках идут самолеты противника, бьют зенитки. Самолеты разворачиваются,
уходят. Минеры с собакой. Гастрономический магазин. Горшки с цветами на
углу.
Vaasancatu ("кату", как я уже понял, значит: улица). Бульвары в сирени.
Прется по асфальту KB "Грозный". В сирени -- зенитки. Католический собор,
разбомбленный в 1940 году, под его потолком нашли большую подвешенную мину.
Братское кладбище с белыми мраморными досками и -- золотом -- фамилиями.
Четыре ряда, сотни две. Рядом спят бойцы.
Против городского почтамта, около мэрии -- штаб 72-й стрелковой
дивизии. Все спят.
Выйдя к центральному городскому скверу, мы видим: против бронзовой
фигуры дикого лося (1924 год, скульптор Manynen) догорающее крыло здания
выборгской библиотеки. Возле библиотеки чирикают птички. У самого входа
лежит труп не успевшего бежать и пытавшегося отстреливаться поджигателя.
Горит газ. Эта библиотека была частной, Иванова, потом стала советской.
Осматриваем библиотеку. Ящики, адрес: "Helsinki, Opelusminiskum
vuoristo". Кровь. Перед библиотекой финский ручной пулемет.
19*
Городской парк. У памятника пасутся лошади. Всюду разбросаны амуниция
финнов и какие-то бумаги...
Четыре финских самолета. Зенитки.
Площадь. Кинотеатр в семиэтажном универмаге. Ravintola Ritari Kahvila
-- гостиница. Стекла целы. Желто-бежевая аптека.
Улица Forkkelincatu, на углу магазин хозяйственных товаров. Мальчик с
собакой -- бронза на мраморном пьедестале. В бульваре городского сквера
полевые кухни. Костер. На бульваре, на траве два самоходных орудия из полка
полковника Бирюкова. Беседую с экипажем СУ-1560. Командир самоходной
установки младший лейтенант Н. И. Глаголев. Старшина Перекрест Василий
"Хведотович", механик-водитель, говорит:
-- Мне как дали вчера машину, так я и пошел сразу в бой! Шли за
танками. Не дойдя одного километра до города, подверглись сильному
минометно-пулеметному огню, дорога была пристреляна. На самой окраине он бил
из пушки по нас... Когда в три часа дня вслед за самыми передовыми
подразделениями мы вошли в город...
Рассказывает, как его машина шла первой и как вели бой в городе, и
сколько взяли пленных.
... Mannerheiminicatu (улица Маннергейма). На наших глазах из подвала
жилого дома начинает клубами вздыматься черный дым. Бойцы спешат сюда
затушить возникающий пожар и вдруг выводят из закоулков двора молодого парня
в финской солдатской форме. Он попался с поличным, его отводят в только что
учрежденное Управление военного коменданта города.
Северная, основная часть Выборга сохранилась. Но противник все еще
обстреливает ее дальнобойными -- с островов. Снаряды ложатся то здесь, то
там. Выбитые отсюда стремительным штурмом фашисты не успели сделать свое
черное дело. Целы примыкающие к порту кварталы, целы пристани и все
сооружения. Но разорить город, распотрошить наспех квартиры и магазины
фашисты, отступая, успели. С возмущением рассказывает командир вступившего
сюда первым полка о том, как, выбивая из домов последних фашистов, бойцы
полка везде наталкивались на хаос полного опустошения. Враг ломал, рушил,
портил все, что попадалось под руку. Даже горшки с цветами из цветочных
магазинов выброшены на улицу. Разбитая мебель, посуда, кипы бумаги, обломки
различных товаров и предметов домашнего обихода валяются грудами и внутри
домов и на улицах.
Сейчас еще нет времени выбрать из этих груд и рассортировать случайно
уцелевшее, и все только тщательно охраняется. Населения в городе нет.
Пленные неохотно признаются: фашистские власти насильственно эвакуировали из
Выборга все гражданское население, гнали мирных жителей из города, не
позволяя им брать никаких вещей. Тех, кто противился угону, убивали тут же.
Большая часть городских квартир еще не осмотрена -- бой только что откипел;
из подвалов и темных углов наши бойцы еще вылавливают одного за другим
прячущихся вражеских солдат...
Солнце всходит над Выборгом
21 июня
Передовые подразделения штурмовавших Выборг войск ворвались в его
юго-восточную часть вчера в два часа дня. К шести часам дня наши войска
приблизились к центру города. К вечеру в наших руках оказалась и северная,
портовая часть. Почти до полуночи город очищался от последних вражеских
автоматчиков, подрывников, поджигателей.
А сейчас, ровно в ноль часов тридцать минут, радисты наших
расположившихся в городе войск слушают приказ Верховного Главнокомандующего
о взятии Выборга.
Воины, взявшие Выборг, не спали по трое, по четверо суток, не знали
отдыха, не имели передышки, но в эту минуту никто не задумывается о сне.
Радость солдат и офицеров необычайна. Все поздравляют друг друга, все
говорят о стремительности, о темпе, о воодушевлении, об умении, благодаря
которым только и можно было пройти за десять суток весь огромный путь от
Сестрорецка и Белоострова до Выборга и на одиннадцатые великолепным штурмом
взять этот прославленный в истории России город.
... А вот уже и солнце всходит над освобожденным Выборгом. Звенят пилы
и стучат молотки саперов, восстанавливающих взорванные мосты. С первого же
часа после победы советские люди начинают созидательную работу. Действующие
части, пройдя сквозь город, уже ведут бой за несколько километров от него,
продолжая в том же стремительном темпе наступление. В город входят воинские
тылы, размещаются в очищенных от мин домах и приводят их в элементарный
порядок.
И снова, проспав часа два на какой-то кровати в доме, занятом
комендантом города Н. Г. Лященко, я брожу по городу, чтоб смотреть,
смотреть...
Выборг -- наш! Там и здесь над самыми высокими зданиями вздымаются
красные флаги.
... Порт. Шесть кранов. Гранитная набережная. Пакгаузы целы. У причалов
лодки -- разбитые и целые. В проливе силуэты катеров. На железнодорожных
путях вагонов и паровозов нет. Склады пусты. Навалью железноскобяные товары.
Часовые и патрули на пустынной набережной. Мост на остров Линносаари
взорван, фотографирую орудия ПТО, наведенные на этот мост. Водокачка, кран,
работающий вручную. Афиша: "Марица".
Linnancatu -- улица к мосту. Разгром. Отдых солдат. Бульвар сквера.
Одинокий раскрытый зонтик.
Банк, разрушенный давно. Кафе горит, и дымятся затухающие пожары в
квартале на улице Маннергейма, бывшей Карьянкату. Отель. Разбиты окна. Сюда
падали бомбы. Большое здание, -- из окна второго этажа кто-то выбрасывает на
улицу пачки бумаги. Они горой загромоздили улицу. Солдаты подносят пачки к
нашим грузовикам. Я взял две пачки хорошей бумаги, перекинул их через плечо.
Армейцы из трофейной команды роются везде... В ясном небе продолжаются
воздушные бои. Бьют зенитки.
Встреча с Федором Шаблием
21 июня. Раннее утро
На бульваре в центре города расположилась на короткий отдых группа
минометчиков со своими 120-миллиметровыми минометами. Оказывается: того
самого полка майора Ф. Е. Шаблия, один из минометов которого при мне вел
огонь вчера. Радостно, будто уже давно знаком, здороваюсь с командиром
полка, гвардии майором Федором Елисеевичем Шаблием, с которым вчера
познакомиться не довелось. Он зовет меня в пустой дом, где пристроился его
штаб. Беседуем...
Федор Шаблий -- кадровый артиллерист. Он украинец, из Кривого Рога, в
юности работал на шахте и на заводе "Коммунист" и, как говорят, "мальчишкой"
ушел в армию. Женился, стал преподавателем артиллерии в Ростовском
артиллерийском училище. Жена преподавала математику в том же училище. В
начале войны эвакуировалась с детьми в Узбекистан. Из двух старших братьев
Федора Шаблия один -- политрук танковой роты -- убит на Южном фронте, второй
недавно демобилизован, как горный техник, вернулся работать на свою шахту.
Федор Шаблий награжден четырьмя орденами: за оборону Ростова в 1941 году, за
взятие станицы Чернышковской на Дону, за взятие Запорожья и за прорыв
обороны врага под Красным Селом.
Ф. Е. Шаблий рассказывает о своем пути вместе с полком Семенова до боя
за перекресток, после которого оба полка прорвались дальше до реки
Роккалан-йоки -- "Досюда шли без приказов".
-- Под Роккалан-йоки, в момент сильного сопротивления финнов, у
стрелкового полка Семенова по недоразумению забрали самоходные орудия,
"катюши" и наш минометный полк, поэтому пехотинцы Семенова вынуждены были
задержаться...
Шаблий подробно описывает бой у станции Сомме, где его полк поддерживал
1078-й полк Яненко (бой за Сомме длился четыре часа), и свое дальнейшее
наступление до Выборгской косы...
-- Мы не знали, что наступление на Выборг ведется с юга. Свой полк мы
поставили первым. Вели огонь по мосту, соединяющему город с косой, и по
Выборгу через залив со стороны косы. Это вы знаете -- сами видели... Огня
давали столько, сколько просили нас. Всего вчера по Выборгу, по южной части
дали штук четыреста мин.
Ночью сегодня противник вел огонь только по северной части города.
После вступления пехоты в Выборг, когда успех был обеспечен, мы
оставили на косе одну батарею старшего лейтенанта Кузнецова (он и сейчас
там), а пять батарей перебросили на юг, для закрепления уже взятой части
города. Когда уходили с косы, в начале ее я встретил Елшинова. Он
сказал: "Молодец! Езжай, правильно!"
Дорога с косы в обход, к южной части города -- каменистая, местами
болотистая. По тридцать человек наваливались на машину и толкали вперед.
Очень помогла наша партийно-комсомольская организация... А сегодня я послал
разведку в обход залива Папуланлахти (с северной части города), где мостов
нет. Они ищут путь, -- как только найдут, мы отсюда, из Выборга, двинемся
туда. А пехота сейчас -- за каналом Сайман-канава -- почти не встречает
сопротивления.
В чем суть успеха при штурме Выборга? Только быстрота! Брали буквально
с ходу. Быстрота действий пехоты совместно с минометным огнем. Без
минометного огня враг не ушел бы! Он был измотан, организовать оборону не
мог, а резервов у него не было. Батальон перешел болото по горло в воде. А
потом много частей -- другого корпуса -- пошло по Выборгскому шоссе.
Батальоны вошли в город, в восемнадцать часов двадцатого и к исходу дня, к
двадцати четырем часам, Выборг они уже прошли. В двадцать четыре часа я со
своим полком был уже на южной окраине...
В городе 1078-й полк Яненко взял более сорока пленных, двух человек
извлек из подвалов. Мы нашли одну женщину, сидящую в кресле, убитую, и
больше ни одного человека: всех эвакуировали в Хельсинки. В результате
насильственного угона населения в любой квартире все перевернуто,
перепотрошено. Если б мы зашли часа через четыре, можно было бы подумать,
что это наши безобразничали, но я убедился сам: все это сделали финны, и
больше всего -- оставленные в городе команды "факельщиков", которые даже при
нас подожгли часть домов... Наш полк имеет сейчас задачу, пройдя через
Выборг, действовать с правой стороны залива Суоменведенпохья. Задача
стрелкового полка Яненко -- закрепиться за каналом. Мы сейчас выходим тоже в
этот район, и так, по "Приморью", пойдем до Хельсинки.
Имеем отзывы Семьдесят второй стрелковой дивизии (о действиях на реке
Сестре), -- лучше не напишешь! И от полка Семенова: восемьдесят километров
прошли за два дня. Благодарности от командира Серок шестой стрелковой
дивизии и от командира Сто восьмого стрелкового корпуса генерал-лейтенанта
Тихонова.
Мы обгоняли противотанковую артиллерию своими минометами, чего не
положено. Это я брал на свой риск. А танков... мы только один брошенный
финский танк встретили -- в Кайслахти. Это был Т-26 -- со свастикой, бывший
наш. Он был в болоте, его вытащили наши танкисты и повели в бой, так со
свастикой он и пошел!
Наш начальник разведки дивизиона лейтенант Носов вообще "имеет
традицию" водить пехоту в атаку (так было под Псковом, он пять раз ранен
там). Сюда, в город, с первой же ротой в цепях шел. Его я обязал быть
глазами нашими и корректировать. Это он блестяще исполнил!
В общем, такая война мне нравится: подвижная и хорошая!..
От реки Сестры и до Выборга я сам шел пешком, в боевых порядках пехоты.
Двигались хорошо. Я доволен пехотой, но финны не боятся пехоты... От
Роккалан-йоки до самого Выборга -- характерно: финны минируют вразброску, а
не по уставному положению. Песком, кстати говоря, легко маскировать!..
... Познакомившись тут же с начальником разведки первого дивизиона,
лейтенантом Александром Васильевичем Носовым, я поговорил с ним, прочитал
отзыв о нем командира батальона капитана Грязнова: "Корректировал огонь
дивизиона, обеспечил беспрерывное продвижение пехоты, уничтожил прямой
наводкой десять станковых пулеметов, подавил четыре минометные батареи и два
орудия, чем обеспечил овладение вторым батальоном южной части Выборга.
Находился в стрелковой роте. Его батареей подавлено пять станковых
пулеметов, две минометные батареи -- одна прямой наводкой... "
... Расставшись с Федором Шаблием и его минометчиками, возвращаюсь в
комендатуру города.
Сегодня наше наступление продолжается -- уже за Выборгом.
Не спит Настенька...
21 июня. Утро. Северней Выборга
У коменданта города я условился с Баранниковым и Ратнером, что мы
соберемся там же, к часу дня, и вместе поедем в Ленинград, -- наши задачи
выполнены. Но
мне хотелось еще найти ушедший вперед 1078-й стрелковый полк Яненко и
узнать обстановку северней Выборга. На попутной машине я выехал в
продолжающие наступать части, километров за десять. Полк Яненко найти мне не
удалось, а обстановку узнал и сразу же возвращаюсь.
В подхватившей меня случайной "эмке" нас пятеро: майор Михаил
Степанович (фамилии его я не спросил), две розовощекие, веселые девушки --
старший сержант Вера и сержант, которая с улыбкой назвала мне себя
Настенькой. Да солдат-шофер, да я...
Внизу, под холмом, саперы восстанавливали мост, взорванный только что
отступившим противником. В ожидании мы поставили нашу машину меж кустами
сирени. Всем очень хотелось спать, и мы решили воспользоваться вынужденной
задержкой. Девушки, подстелив под себя шинели, ложатся на сочную траву под
отдельным кустом сирени; слева от меня, под другим, укладывается на
плащ-палатку майор, а справа, под следующим кустом, -- девушки-сержанты.
Шофер, положив руки и голову на баранку руля, спит в машине. Но мне спать не
удается, и вот почему...
Вера лежит на траве спиною ко мне, лицом к подруге. Настенька на спине,
ладони под затылок и отдохновенно, мечтательно, словно воркуя, что-то
говорит и говорит подруге, должно быть не замечая, что та уже задремала...
Настенька говорит, говорит без умолку, так, как может говорить только
девушка. Я прислушался и, выложив на полевую сумку листки бумаги, стал
записывать... И вот что записано мной...
"... Ну вот... Они уже спят... Конечно... Когда мы последний раз спали?
Сегодня совсем не пришлось. Вчера?.. Михаил Степанович вчера очень смешно
спал в машине. Голова от тряски кругом ходит, а ко мне на плечо все-таки
голову не положил, стеснялся... А почему я не могу спать в машине? Никогда
не засну. Михаил Степанович говорит: "Потому, что ты нервная". А какая я
нервная? Вот уж действительно, пальцем в небо!.. Я даже не знаю, почему у
меня нервы такие крепкие, уж кажется, чего ни навидалась!.. Я просто
внимательная, предусмотрительная... Вот и сейчас он бы просто так на траву
завалился, мужчинам ведь все равно. А я плащ-палатку ему подстелила, шинелью
прикрыла его, хоть и лето, а сыро все-та]
ки здесь. Вон какие следы пушки вдавили -- если б сухо было, траву
примяли б, а колеи не осталось бы...
Как все-таки странно устроено в мире! Подумать только, что тут, где мы
спим сейчас, три часа назад вражеская пушка стояла, вон -- ящики в кустах,
не тронутые еще... Если внимательно поглядеть, все можно понять, -- и как
они бегали тут, и как сначала стреляли туда, за мост, а наши оттуда шли.
Судя по этим стаканам, здесь были противотанковые. Конечно, неплохая позиция
-- на пригорочке, за деревьями, с того берега и не видно, попробуй-ка сунься
к мосту! Вот оттуда -- одна; здесь, где лежу я, -- вторая; третья ниже
стояла, за бруствером, -- они, наверное, только вчера нарыли его, земля
совсем свежая... Десять, двадцать, сколько тут гильз, ну, стаканов этих?
Больше сотни, наверное. Упрямились. Защищались крепко. А все-таки наша
взяла. И как быстро все это делается! Три часа назад тут бой шел, а сейчас
-- мир, тишина, и вот можно уже лежать на травке и мечтать о чем хочешь!.. А
наши уже куда как далеко ушли -- этот гул, должно быть, километров за
десять, не ближе... А это самолеты летят -- р-р... ррр-рр, будто собаки
вдали рычат... Наши, наверное, летят. Все наши, наши теперь, круглые сутки
небо ходуном ходит. Чего ж не летать -- и днем светло и ночи белые, еще
удобнее -- солнце глаза не слепит... Р-ррр, ррр... Сюда приближаются... А
может быть, это немцы? Все-таки и фашистские появляются! В первые дни нашего
наступления здесь совсем не было их, а теперь Гитлер, видно, поднатужился,
малость подкинул им... Сволочи, сегодня все-таки наш аэростат наблюдения
сбили. Как он горел! Небо такое голубое-голубое, солнечное, воздух такой
чудесный... Хорошо, наверное, наблюдателю было покачиваться в гондоле...
пока не налетели они... И всего-то три "мессера". Как они прорвались, черт
их знает!.. Первый раз, когда зенитки их отогнали, я подумала: ну обошлось,
а они -- второй заход и -- такая белая полоска, как нитка, перед "мессером"
вдруг протянулась. Эту очередь он, наверное, пустил зажигательными... И
сразу вспыхнул аэростат. Какое пламя красное было -- огромное. И черный
дым... У меня сердце сжалось, но смотрю: ниже пламени белая точка
покачивается, -- молодец наблюдатель, не растерялся, раскрыл парашют... И
отлегло от сердца у меня сразу. И вдруг --
радость, вижу: одного "мессера" сбили МЫ, потом Другого... Третий,
наверное, ушел, а может быть, дальше поймали его...
В самом деле, сюда летят... Раз, два... Три... Четыре, пять, шесть...
Бомбардировщики. Заход делают... Ну конечно, не наши -- вон зенитки забили.
И вон, и вон... Прямо как фейерверк, трассирующими... Эх, ты, черт,
наверное, этих саперов у моста увидели, -- вот работа саперная, всегда на
самых опасных местах!.. Разбудить, что ли, моих? Ведь если в мост не
попадут, сюда попасть могут, -- сколько от меня до моста, метров двести не
будет?.. А у них рассеивание с такой высоты на пятьсот может быть... Теперь
уже поздно, да мои все равно и не перешли бы на другое место. Авось
пронесет, пусть выспятся... Сволочи, кружат, кружат... Ага, испугались
разрывов все-таки, стороной пошли!.. Ах, вот в чем дело: наши встречают их,
раз, два, три, четыре эскадрильи, ну теперь будет охота!.. Р-рр, ррр....
Уходят, с воздушным боем... А саперы как работали, так и работают, даже
головы никто не поднял, -- измучились, наверное, бревна таскать, торопятся;
а часа через два, пожалуй, мост готов будет, и даже с перильцами. И тогда --
прощай тишина, шумно тут будет, все движенье по этой дороге пойдет, а
сейчас, наверное, километров пять лишних обходом делают, и времени сколько
лишнего, и бензина. Если по четверть литра на машину, так и то несколько
тысяч лишних литров. Не зря немцы мосты взрывают, все-таки хоть чем-нибудь
напакостить нам хотят!.. Знаешь, а ведь "кукушек", наверное, в окружении по
этому лесу немало шатается. Подползет да прирежет... Стрелять-то побоится,
саперы наши внизу услышат, смерть ему тогда... Все-таки автомат я вот так
положу, этот куст опасен, уж очень он близко. А те далекие -- ничего, всегда
снять успею... Вот так... Смешно, куст сирени, а остерегаться надо его! И
сирень-то какая прекрасная -- персидская это. Поедем -- надо будет полную
"эмку" набрать... Сирень!.. Ах, какой же я теперь стала девушкой, что могу
глядеть издали на сирень и полениться встать, чтобы нарвать ее! А было...
Ну, положим, три года назад совсем девчонкой была, только косички срезала...
Нет, не я это была, другой это был человек -- темноты боялась, в лес одна
заходить боялась, каждого мужчины боялась -- вдруг скажет мне что-нибудь
такое, что покраснею!.. А ребята меня нарочно всегда в краску вгоняли:
"Настенька, щечки розовые, носик тоненький, губы бантиком, -- улыбнись!" Ах,
как я злилась тогда! Сержусь на них, а они опять: "Настенька, чем ресницы
растишь, сами по себе ведь такие не вырастают!", "Настенька, влюблен я в
твои голубые глаза!.. " Смеются, проклятые, до слез доведут, я и повернусь,
и убегу, и стыдно мне, и обидно... Неужели всего три года назад я такою
была?.. И когда на войну попала, всего боялась. Смешно, до винтовки боялась
дотронуться, думала -- вдруг выстрелит? Помню, когда приехала на машине
первый раз под Пушкин окопы рыть, к командиру меня подводят, а я ему:
"Товарищ командир, а где тут умыться можно?" -- "А зачем тебе мыться,
вишенка?" -- говорит. И смутилась я: "Да ведь пыль по дороге была!" -- "Ах,
пыль! -- только сказал и весело так засмеялся он. -- Ну ничего не поделаешь,
воды у нас и для питья-то нет, война ведь все-таки, девочка! -- Потом
обернулся к политруку, нахмурился и тихо так -- думал, я не услышу: -- Зачем
только нам таких присылают?!"
Да... А потом... Эх!.. Нет, не три... Кажется, тридцать три года я с
тех пор прожила. Сержант. Автоматчица. Две медали. И все говорят: молода, и
все говорят: красивая девушка... А уважают. Довольны, что никаких ссор из-за
меня, никаких ревностей... И Михаил Степанович давно бы отчислил меня в тыл,
если б я другою была. Говорят: "Молодец, зубастая". Это я-то, "Настенька --
щечки розовые", зубастая? А ведь и впрямь, за словом в карман теперь не
полезу...
А что это за звук?.. Ах, это Ванюшка в машине храпит. Что за интерес за
баранкой спать, скрючившись, когда так на траве хорошо... Впрочем, все
шоферы таковы -- попробуй оторвать его от машины, скажет: "А вдруг угонят,
да мало ли что?.. " Есть у него чувство ответственности -- не ляжет спать,
пока машину не замаскировал... Бродит по кустам, срезает ветки, а сам кричит
мне: "Не ходи тут -- может, минировано!" Мины, конечно, кругом есть, а
только не здесь, не на самой их огневой позиции. По трупам, можно сказать,
видно -- на бегу от наших пуль падали. Не разбегались бы так по собственным
минам, ползком уползали бы... Эх, ведь какие мы стали: кругом трупы
валяются, и мы здесь спим... И ничего... А если б мне три года назад так это
сюда попасть? С ума бы, наверное, от страха сошла... Вон этот вражий солдат
-- его гранатой, наверное, разнесло... В общем, хоть нервы и закалились, а
даже и рассказать кому-нибудь неприятно... Сирень -- и трупы! А в душе --
радость, что это враги так кончают... И что мы наступаем -- радость. И что
все небо в наших самолетах -- радость. И что грохот этот, как перекаты
грозы, гонит и гонит фашистов -- все радость! И что теперь вот и Выборг уже
позади, и мы едем в него, как в тыловой наш город, -- и в этом радость...
Хорошо все-таки жить на свете... Замечательно жить!
И совсем не устала я... А вон то озеро -- какая тоненькая, тоненькая
полоска -- сегодня тоже станет нашим, и завтра я, наверное, буду купаться в
нем!.. И на его бережку -- посплю... Какие красивые здесь места!.. "
Возвращение
21 июня. Вечер. Ленинград
К часу дня я вернулся в Выборг, встретился с Ратнером и Баранниковым,
сразу же выехал с ними в Ленинград. В четыре часа дня мы проехали Териоки
(где у генералов был победный банкет), за Териоками попали под бомбежку, но
благополучно ее проскочили; любовались эскадрой в составе двадцати восьми
единиц, шедшей полным ходом с десантом брать острова Бьеркского архипелага и
Тронгсунда. К вечеру я уже был дома, в своей квартире на канале Грибоедова.
Еще в Выборге, встретившись с полковником П. И. Радыгиным, узнал
новости, сообщенные по радио: сегодня перешел в наступление Карельский фронт
генерала армии К. А. Мерецкова, наши войска, освобождая Медвежегорск,
завязали бои на его окраинах. Между Онежским и Ладожским озерами идет
наступление 7-й армии, на плацдарме южнее Свири занято больше ста населенных
пунктов, в том числе Вознесенье, Ганино, Ерофенко, Петровский Посад,
Мителька, Свирьстрой. У Лодейного Поля Свирь форсирована, создан плацдарм на
северном ее берегу...
Значит, военная сила Финляндии стремительно сокрушается и там. Полный
разгром противника и выход Финляндии в самые ближайшие дни из войны --
обеспечены!.. Вот к чему привело упорство прогитлеровского правительства
этой страны в недавних переговорах с нами! Мы предлагали мир, и скольких же
лишних жертв с той и с другой стороны можно было бы избежать!.. Но... "ву ля
вулю, Жорж Данден... " [1]
Вступление в четвертый год
22 июня. Ленинград.
Сегодня трехлетие со дня начала войны. Как изменились мы! Как
изменилась сама война! Все было к горю тогда, все теперь -- к радости!
23 июня
В Ленинграде -- совсем уже мирная жизнь. Довоенный быт
восстанавливается. В одиночку, семьями и целыми коллективами возвращаются в
Ленинград -- пока еще по специальным вызовам и разрешениям -- эвакуированные
в сорок первом и сорок втором годах жители. Рабочие заводов и фабрик,
инженеры и техники, коллективы театров и многих учреждений прибывают в
Ленинград каждый день. И все хлопочут, устраиваются в своих квартирах и
ремонтируют их. Другие, чьи квартиры разбиты или заселены по ордерам
переселенцами из разбитых квартир и разобранных на дрова домов, добиваются
новых комнат и квартир. Есть среди вернувшихся и такие, кляузные,
недостойные люди, которые обращают свое нелепое негодование на жильцов их
прежней квартиры, хотя те ни в чем и никак не виноваты, потому что в
условиях блокады Ленсоветом, райжилотделами были вынесены вполне
справедливые решения: всех, чье жилье приведено в негодность, сожжено,
разбомблено, разбито вражескими снарядами, переселять в пустующие, брошенные
квартиры.
Тех, кто вернулся в Ленинград по вызову, кто получил пропуск, дающий
право вернуться из эвакуации, городские власти обеспечивают новым жильем. Но
многие возвращаются самовольно, и, конечно, обеспечить их жильем в разбитом
фашистами городе сразу невозможно. Среди этих-то людей и попадаются
"буйствующие".
[1] "Вы этого хотели, Жорж Данден!.. " -- фраза из комедии Мольера
"Жорж Данден" (1668 г. ) В маниакальной погоне за аристократическим званием
женившийся на дочери прогоревших аристократов, обманутый, осмеянный,
униженный герой комедии глубоко раскаивается в совершенной им глупости... но
-- поздно!..
Все, однако, постепенно уладится, жизнь войдет в нормальную колею.
Сегодня я навестил А. А. Ахматову, недавно вернувшуюся в Ленинград из
эвакуации. Видел ее впервые после сентября 1941 года, когда попрощался с нею
перед ее отлетом в Ташкент в подвале бомбоубежища, в момент ожесточенной
бомбежки.
За свои патриотические стихи А. А. Ахматова награждена медалью "За
оборону Ленинграда". Она выглядит бодрой и спокойной, была приветлива,
читала стихи.
Завтра -- день ее рождения, и она шутливо спросила меня:
Что подарят мне завтра -- Шербур?
Наверно, Медвежегорск! -- ответил я. --В Карелии идет наступление наших
войск по всему фронту!
26 июня
Вчера вечером у отца был сердечный приступ. Ночью -- второй. Утром
сегодня -- третий. Вызывал врача. Днем сегодня я увез отца на санитарной
машине в Военно-морской госпиталь на улице Газа.
29 июня
Навещаю отца. Лежать ему долго. У него -- инфаркт. Это второй инфаркт,
после прошлогоднего. Волнуюсь...
... Вчера по Невскому прошли троллейбусы. Первые -- после блокады!
30 июня
Позавчера 7-й армией вместе с десантом Онежской флотилии освобожден
Петрозаводск. 26 июня эта же армия вместе с Ладожской флотилией освободила
Олонец. Еще только 21 июня было сообщение о форсировании реки Свирь, и вот
уже большая часть Карелии очищена от врага.
В 7-й армии я начинал войну, был впервые в бою В Петрозаводске испытал
первую бомбежку. Главным инженером, помощником Г. О. Графтио, на
строительстве Свирской ГЭС был мой отец. Сколько воспоминаний!...
Сегодня -- день жаркий. Впервые за войну я оделся? в штатское,
прогуливался по городу с ощущением, что Ленинград становится совсем мирным
городом.
1 июля
Состояние отца -- тяжелое. Но он не может, не умеет, даже в такой
болезни, лежать без дела. На листочках почтовой бумаги он начал писать свои
мемуары, в которых много внимания уделит истории русской инженерии! и первым
послеоктябрьским стройкам -- железным дорогам, Волховстрою, Свирьстрою. Опыт
и знания у него огромные, им воспитаны несколько поколений
инженеров-строителей, и то, что может рассказать он, никто другой рассказать
не мог бы... [1]
6 июля
Наблюдаю разборку руин на Невском, у площади Восстания. Работает сотни
полторы девушек -- служащих Телефонной станции, Треста столовых и других
городских учреждений. Ходят с носилками, носят кирпич, грузят его на
платформы трамвайных вагонов, которые увозят свой груз к Охтенскому мосту --
там возводится насыпь. Наблюдает за работами девушка-инженер. На полторы
сотни работающих женщин и девушек всего дватри юноши. Жарко. Девушки -- в
коротких юбках, в майках, почти полураздеты, но ничуть не стесняются, им
весело, одна, поднимая носилки, поет: "Та-тарарам-та, таратина-там-там!",
другая, заметив, что я обратил внимание на ее калоши, надетые на босу ногу,
смеется: "Модельные порвала!.. "
По Невскому и Лиговке, вокруг -- обычное городское движение.
[1] За долгие месяцы болезни отец, лежа в госпитале, исписал более
тысячи страничек воспоминаний. И не только личное, а -- историю русской
инженерии с начала века. Прервал записи на 1940 годе, когда, выписавшись из
госпиталя, вновь с прежним трудолюбием взялся за свою преподавательскую и
военно-академическую работу.
А вечером сижу в кафе "Буфф", на Фонтанке, пью пиво. Все будто как
прежде, как до войны. Тихо. Мало народу. Сад почти пуст. Против меня на
скамейке две интеллигентные девушки воркуют с курсантами военноморского
училища. Обсуждают, когда поехать в парк культуры, чтоб потанцевать,
покататься на лодке.
Все ленинградские женщины участвуют в общественной работе по приведению
города в порядок. Например, бригада жен писателей работает в ЦПКО.
7 июля
А реэвакуанты все съезжаются и съезжаются. Сегодня встречал Людмилу
Федоровну и ее сына, вернувшихся с Урала, помог им устраиваться в ее
квартире, на Боровой. Она всем довольна, хотя в уцелевших при разрушении
дома авиабомбой комнатах -- развал и запустение, и потребуется много усилий,
чтобы привести все в порядок.
Общий обзор
Уже накануне взятия нами Выборга финское прогитлеровское правительство
окончательно убедилось, что полное поражение Финляндии неизбежно, и, боясь,
что наши войска войдут в Хельсинки, стало просить Гитлера немедленно
прислать на помощь шесть немецких дивизий и крупные силы авиации. Гитлер в
этой помощи отказал, переправил из Эстонии только одну дивизию, немного
самолетов и одну бригаду штурмовых орудий. 22 июня в Хельсинки явился
Риббентроп уговаривать финнов не заключать сепаратного мира без согласия
Германии. Уговорил продолжать войну. На двухсоткилометровый фронт -- от
окрестностей Выборга до Ладожского озера -- финское командование стянуло все
свои силы. Здесь, в группе "Карельский перешеек", набралось четырнадцать
соединений. Сопротивление нашим войскам усилилось.
С нашей стороны на Карельском перешейке по-прежнему находились 21-я и
23-я армии, они продолжали ожесточенные бои за северные берега Вуоксинской
системы озер и северо-западнее -- за выход к довоенной границе.
Но острова БьерксКого архипелага и множество других островов в
северо-восточном бассейне Финского залива все еще удерживались финскими
войсками. Оголилась от наших, ушедших вперед частей и северная часть
приморского побережья.
Поэтому ставка Верховного Командования приказала силами Балтийского
флота перебросить сюда кроме морской пехоты и мощную 59-ю армию
генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, наступавшую в начале года от Новгорода
и озера Ильмень на соединение с частями Ленинградского фронта, которые
вместе с Волховским фронтом, сняв с Ленинграда блокаду, с боями энергично
преследовали спасавшиеся от "котла" гитлеровские войска, отходившие к Нарве,
Луге и Пскову.
59-я армия вместе с войсками Кронштадтского морского района,
высаживаясь десантом на побережье и острова, вела в конце июня и в начале
июля сильнейшие бои. Корабли Балтфлота одновременно вели бои более чем с
сотней всякого типа вражеских кораблей на морских коммуникациях.
В начале июля никакое вражеское вторжение на очищенные территории
островов и побережья Финского залива уже не могло быть осуществлено. В этот
период, с 21 июня по 14 июля, Карельский перешеек был окаймлен огнем морской
и сухопутной артиллерии, бомбовыми ударами авиации. Только за два дня 4 и 5
июля артиллерией флота и 59-й армии было выпущено более четырнадцати тысяч
снарядов... В этот период 21-я и 23-я армии вели жестокие бои за южные
берега Вуоксинской системы озер (продолжение к востоку "линии ВКТ"), не
преодоленные до того 23-й армией, и за выход к довоенной границе с
Финляндией.
В июльские дни в боях участвовать мне не пришлось. Вместе с А.
Прокофьевым, М. Дудиным, И. Авраменко и П. Журбой я оказался в 30-м
гвардейском корпусе Н. П. Симоняка, выведенном 15--16 июня в резерв фронта,
а с 25 июня вновь переданном в состав 21-й армии. После упорных боев
восточнее Выборга в районе Тали и далее к северу корпус был оставлен на,
отдых, для пополнения и войсковых учений с влившейся в него молодежью.
Несколько дней я провел в дружеских беседах с четырежды краснознаменным
гвардии полковником Н. Г. Арсеньевым, который, оправившись от тяжелого ра-
нения под Нарвой, был назначен в Зб-й корпус командовать одним из
гвардейских полков (197-м сп 64-й дивизии). Корпус располагался в нескольких
километрах от Выборга.
Этот корпус, действовавший в начале Выборгской операции на направлении
главного удара (которое, как я уже говорил, по ходу операции трижды
менялось), понес тогда значительные потери [1].
С 14 июля, по приказу командующего Ленинградским фронтом, войска 21-й и
59-й армий прекратили наступательные действия на Карельском перешейке и
перешли к жесткой обороне[2]. Смысла наступать, проливая лишнюю кровь, здесь
больше не было. Поражение Финляндии было предопределено, и никто не
сомневался, что она выйдет из войны, как только гитлеровские войска окажутся
изгнанными из Прибалтики... Весь удар всех сил Ленинградского фронта
надлежало направить туда. Крупные соединения с 14 июля стали постепенно
уходить на юг с Карельского перешейка и концентрироваться в назначенных
местах для новой крупнейшей наступательной операции...
[1] Допустимый объем книги заставил меня исключить из нее большую
(около трех печатных листов) главу, описывающую боевой путь корпуса и
происходившие при мне учения.
[2] Битва за Ленинград. М., Воениздат, 1964, стр. 472--490, в частности
стр. 484. Также: К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., Изд-во
иностранной литературы, 1956, стр. 439 и др.
 В часы после штурма Нарвы. Июль 1944 г.
Впереди не было переправы. Все, кто подъезжали сюда, опасались бомбежки
с воздуха, но деваться все равно было некуда, и тысячи машин, скопившись
правее (куда поехали вдоль реки и мы), стояли по многу часов. И каждый
человек в эти часы -- до глубокой ночи, а то и до утра -- думал: вот-вот
бомбежка начнется.
По Госпитальной улице, ведущей к бывшему Кирпичному заводу, мы
пробрались туда, где наводили в это время понтонный мост. И стали там в
пробке на дороге, избитой и пыльной, среди желтеющей озимой пшеницы.
Напротив нас выделялся тусклой зеленой окраской массивный немецкий
бронеколпак, в нем уже не было скорострельной пушки, а рядом с ним зияла
круглая воронка от авиабомбы, лежали разбросанные колеса, обломки телеги и
несло невыносимо трупным запахом. Обочины дороги были минированы, и все же я
в конце концов вылез в пшеницу и, лежа, глядел на голубое небо, на горящий
за рекой город Нарву, на великолепные, устоявшие от полного разрушения стены
и башни древних крепостей -- Иван-Города и Германова замка. Вокруг них в
овраге продолжались пожары, вздымавшие к небу где черный, а где бурый дым.
Мы вышли на берег переулочком. Он состоял из расщепленных снарядами и
раздавленных деревянных домиков да громоздившихся в овраге один над другим
блиндажей. На них, не найдя другого места, влезли, замерли танки --
замаскированные ветвями и всяким лоскутьем. Тут, на самом берегу,
отграниченном от воды кое-где уцелевшим маскировочным забором из тростника,
кольев и досок, блуждали среди трофейного хлама полураздетые солдаты. Они
сушили свою одежду, варили в котелках на кострах еду, перебирали и
складывали разбросанные повсюду боеприпасы. Пройдя краешком берега вниз по
течению, мы вновь подошли к наводимому саперами понтонному мосту. В группе
офицеров на берегу стоял энергично распоряжающийся генерал-лейтенант Б. В.
Бычевский. С нашей стороны работал 5-й понтонный батальон, а с той стороны
наводил переправу 21-й. Начальство всякого рода появлялось и уезжало на
"виллисах" и "эмках", торопя саперов, волнуясь, что переправа наводится
медленно, и стараясь ускорить дело. Оставалось навести совсем немного
понтонов, саперы, группами посылаемые за материалами к берегу, кидались по
мосту бегом, но они были предельно измучены. Только что на подмогу
понтонерам прибыл еще один понтонный батальон -- 159-й. Его командир,
подполковник П. В. Скороход, с которым мы разговорились, сказал, что саперы
еще в три часа утра этого дня были на Вуоксе и работают, совершив сегодня
трехсоткилометровый путь.
Автомашины понтонных частей с лодками-полупонтонами тянулись от
Ленинграда до Нарвы всю дорогу, то отставая от нас, то опережая. Все они
теперь подкатывали сюда, и люди сразу брались за дело. Танки и самоходные
орудия, все умножаясь, выстраивались чередой по-над рекой, по взгорку. Они
заезжали в пшеницу, накапливались в лощинах, на буграх, среди развалин домов
-- повсюду. Если бы у немцев нашлись в изобилии
самолеты, то они могли бы здесь изрядно напакостить нам, тем паче что
зениток в эти часы я нигде на берегу не заметил.
Мы бродили тут и смотрели на все происходившее вокруг часа два или три.
Близко и далеко то и дело взрывались мины, вспыхивали новые пожары -- где,
казалось, гореть уже было нечему. Лихие любители упражнялись в глушении рыбы
ручными и противотанковыми гранатами. В чистый воздух врывались порой волны
трупной вони, ветерок, поднимаясь, кружил обрывки газет и всяких немецких
бумажек.
Мы бродили по берегу, возвращались к машине, поглядывали на понтонный
мост, который и через два, и через три часа все еще готов не был. Мимо меня
провели под руки солдата, подорвавшегося на мине, с лицом, превращенным в
кровавую кашу. Он держал перед собой распяленные ладони -- кости его пальцев
были оголены.
Мы опять спустились к воде и решили переправиться через реку на лодке.
Несколько полуразбитых, простреленных лодок, несколько примитивных плотов
курсировало от берега к берегу, перевозя на ту сторону боеприпасы и тех, кто
умудрялся грести кусками досок. На одной из таких лодок переправились и мы
втроем, вместе с какими-то солдатами, коих я по пути учил искусству гребли.
Набегавшую воду мы все вычерпывали котелками. Кое-как перебрались, подплыли
к тому участку берега, где мин уже не было, к бывшей пароходной пристани, от
которой и следа не осталось.
Солнце садилось в дыму пожаров. Мы направились к городу и только теперь
хорошо увидели: город Нарва не существует. За три последующих часа, что мы
бродили по его дымным развалинам, я не нашел ни одного уцелевшего дома.
Узкие улицы этого по-средневековому компактного и красивого города заполнены
обломками так, что местами пройти невозможно. И даже эти завалы немцами
минированы. Характерно: ни в пустых коробках домов, ни в наваленных снаружи
обломках не видно никаких следов имущества жителей. Все вывезено немцами
заблаговременно или сожжено. Останки города производили бы впечатление
древних руин, если бы не продолжавшиеся кое-где пожары и не трупный,
выбивающийся из-под развалин запах. За все время наших блужданий мы видели
только двух живых местных жителей: подозрительного парня с хомутом в руках и
какого-то полусумасшедшего старика.
Поднявшись от берега на когда-то великолепную эспланаду бульвара, мы
встретили здесь еще двух людей, но оба они только что, как и мы,
переправились с того берега реки. Один из них был старшим лейтенантом
контрразведки, а второй -- в касторовой шляпе и узком гражданском пальто --
оказался тов. Николаем Каротаммом, первым секретарем ЦК КП Эстонии. Он
обратил наше внимание на бывший музей, превращенный немцами в конюшню, --
груды навоза заполнявшие разбитый дом, горели.
Глаза этого человека были напряженными и поблекшими, лицо -- серым. Мы
понимали, что он очень устал и что блуждания по руинам мертвой Нарвы терзают
его душу... Против дымящегося, превращенного в сквозящую каменную коробку
музея на углу Рыцарской и Садовой улиц столь же зияющим, прогорелым был дом
Петра I. Он ничем не отличался от других, обрамлявших страшными,
полурассыпавшимися стенами и эти, и все другие нарвские улицы. Дальше по
Рыцарской пройти было нельзя. Словно осыпи, сходились в середине ее
загромождения мусора и кирпичей. К тому же они были минированы -- только
наблюдательность и осторожность помогли нам заметить скрытые проволочки. Мы
вернулись к эспланаде бульвара.
Одетый в древнюю каменную кладку, над рекой подымается очень высокий
берег. Стена отвесно падает в воду, подобно скале, на которой в Крыму стоит
(или стояло до войны?) Ласточкино гнездо. Поверху, над этой стеной, и
проходит бульвар, начинаясь от парка Темный сад (где, как я позже узнал,
сохранился памятник русской солдатской славы) и протягиваясь до Горной
улицы, с высоты которой открывается великолепный вид на древние стены
Иван-Города и на Германов замок. Средневековый, такой, какие я привык видеть
только на старинных рисунках, он высится по ту сторону оврага, над
упирающейся в реку Германовой улицей. Венчающая замок массивная башня,
круглая и высокая, наполовину разбита 203-миллиметровыми снарядами тяжелой
артиллерии -- на этой башне находился немецкий наблюдательный пункт и наши
тяжелые батарей били сюда.
Надречный бульвар представлял собой зрелище странное. Уцелела тонкая
железная ограда, опираясь на которую любуешься бурлящей далеко внизу,
сдавленной берегами водой. Уцелел выложенный вдоль ограды тротуар из
квадратных плит, и чередой стоят на линии первого ряда деревьев садовые
скамейки с круто выгнутыми спинками. Но за скамьями, между первым и вторым
рядом деревьев, вместо прежней мостовой тянется глубокая и широкая
зигзагообразная траншея с вкрапленными дзотами, нишами, валами, площадками
для орудий и минометов. Весь этот оборонительный рубеж вдвинут глубоко в
землю взамен вынутой отсюда улицы. Позади этого рубежа, за вторым рядом
деревьев, сохраненных ради маскировки, тротуара тоже нет -- сплошные
развалины да скелеты домов.
Как прелестен, как красив, наверное, был этот участок города до
нашествия немцев! Конечно же бульвар был излюбленным местом вечерних
прогулок. Молодежь проводила здесь напролет теплые ночи...
Единственное, что роднило сейчас этот город с прежними счастливыми
временами, была взошедшая все та же, вечная в своей красоте луна. Она
напоила новой, страшной, особенной красотой молчаливые, безжизненные остатки
города, в котором мы трое представлялись себе единственными живыми
существами в этот вечер, когда передовые части наших войск уже прошли далеко
за город, а тылы армии еще не успели переправиться через реку. Вечер был
теплым, безветренным; кажется, деревья должны были источать тонкую свежесть
ночных ароматов, но вместо того в воздухе чувствовался горький запах гари;
на Горной улице, по которой двинулись мы дальше, прыгая по вывороченным
камням, повеяло таким острым, сладковатым трупным запахом, что мы поспешили
пройти это место скорее, задержав дыхание.
Внизу по Германовой улице шла маленькая группа солдат, четыре-пять
человек, и даже странным мне показалось увидеть человеческие существа в этом
мире разрушения и смерти. Только вспомнив, что и сам я -- живой человек,
шагающий здесь, я освободился от охватившего меня наваждения таинственности.
Мы вышли на Петровскую площадь, пустынную, но сплошь заваленную
картонными ящиками, должно быть из-под боеприпасов. На углу площади высился
высокий,
20 П. Лукницкий
новой постройки Дом, в котором сохранились междуэтажные перекрытия,
хотя он и прогорел насквозь. Именно потому, что я обратил внимание на эти
перекрытия и сравнил дом со всем увиденным, я понял: город Нарву
восстановить нельзя, до такой степени он разрушен. Здесь все нужно сносить
дочиста и все строить заново.
Идя вдоль Большой Ревельской улицы и не пытаясь заходить в поперечные,
через которые были протянуты нитки проволоки с предупредительными надписями:
"Мины!", "Прохода нет!", я увидел кое-где среди развалин цветы, живые цветы
в маленьких клумбах. Каким чудом сохранились они в этой стихии бед и
несчастья? И еще увидел я немецкие блиндажи, вдвинутые в каменные подвалы,
-- немцы жили здесь, как кроты, как черви, не решаясь высунуть носа на
поверхность земли. Справа, в центре города, алели мрачные клубки пожаров, из
них мгновениями вырывались и рассыпались искрами яркие хвосты пламени, и
тогда слышался треск.
Внезапно -- полным несоответствием обстановке -- где-то неподалеку
разнеслась живая, веселая, звенящая девичьими голосами песня. Откуда? Кто
может быть здесь веселым?.. Из-за угла навстречу нам, стуча сапогами по
гулкому булыжнику, поблескивая в лунном свете воронеными стволами автоматов,
дружным строем вышла группа девушек-регулировщиц, видимо только что
переправившихся через реку. Полные жизни, веселые, ясноглазые, эти девушки
прошли мимо нас, и песня их долго лилась единственным дыханием жизни в
прозрачной, словно стеклянной, ночи...
Ища того потока танков и машин, который должен был устремиться сюда,
едва наведут переправу, и в котором должен был двигаться и наш грузовичок,
мы обогнули город с севера. По мостовой, обрамленной кустарником и травой,
вышли к Таможенной улице... Прежде здесь, очевидно, стояли деревянные дачки.
Теперь же не было ничего, кроме кустов, сгоревших деревьев да обломков
брусчатых заборчиков. Мы увидели молчаливо стоящий посреди улицы,
озелененный луной огромный танк ИС с надписью на броне "Ленинградец"...
Возле него, на камнях тротуара, кружком расположились танкисты -- ужинали.
На гусеницах, на броне танка сидели, переговариваясь, потягивая из кружек
чай, и лежали, похрапывая, другие танкисты. За этим танком, истаивая
в лунной мгле, гуськом стояло еще четыре-пять таких же громадин. Возле
первого нам попался майор Эдуард Аренин -- корреспондент газеты "На страже
Родины". Он направлялся на танке в передовые части 2-й Ударной армии, наш
путь лежал в 8-ю, и потому эта встреча была недолгой. Танкисты угостили нас
малиной и красной смородиной, высыпав несколько горстей ее прямо на
облепленный землей металл гусеницы. Это были танки бригады полковника
Проценко. Понтонный мост, оказывается, уже навели, но после прохода KB
несколько понтонов разошлись, и теперь, пока мост налаживали, эти передние
KB ждали переправы прочих.
Голова моя так нестерпимо болела, что я не мог принять участия в
разговорах, даже отказался от чая, что вскипячен был в большом жестяном
чайнике. Я надел свою шинель и лег в ней на каменные плиты тротуара, перед
самыми гусеницами танка, подложив под голову полевую сумку. Невольно
подумал, как выглядело бы, если б какой-либо офицер лег отдыхать, скажем, на
улице Горького в Москве? Тщетно стремясь заснуть, я глядел на тусклый огонь
пожара, полыхавшего в центре Нарвы, слушал, как танкисты, наладив
радиоприемник, прильнув к открытому люку, принимали приказы Верховного
Главнокомандующего из Москвы. Они спохватились поздно (приказы уже были
переданы) и ловили куски сообщений. Во внешнем мире творились великие дела,
эфир был полон вестей о них, и здесь, в разоренной Нарве, на фронте,
особенно волнующими были эти куски московских известий, из которых мы
поняли, что взято несколько городов: было уже четыре приказа -- о Белостоке,
о Станиславе, о Львове, о Режице... Но танкисты, как и все мы, так привыкли
к крупным победам, что принимали сообщения почти без всяких внешних
выражений радости. И все же радость жила в каждом из нас, праздничное
чувство владело всеми. Спящий, пробуждаясь, спрашивал: "Что? Какие города?"
Коротко узнав, отвечал: "Здорово!", или "Вот это хорошо!", или "Дают им
жизни!". И сразу же вновь ронял голову на броню и засыпал опять, но на губах
его, уже во сне, продолжала блуждать улыбка.
Через полчаса-час танки должны были двинуться дальше, танкисты шли в
бой, и в эти минуты случайной стоянки сон был дороже всего...
20*
Скоро я впал в полузабытье -- дремоту, не снимавшую ощущения головной
боли. Сквозь эту дремоту я услышал лязг гусениц, гигантски нарастающий,
приближающийся. Казалось, вот-вот я буду раздавлен, но шевелиться не
хотелось, я знал, что охранен броней того, стоящего рядом ИС от всяких
случайностей. Махина танка, пришедшего с переправы, прокатилась мимо меня
так тяжело, что я ощущал, как прогибалась подо мной земля вместе с плитами
панели. Всеобъемлющий грохот стал спадать, танк промчался, за ним вырос
второй, за вторым третий -- танки пошли сплошной чередой, несколько
десятков, и каждый, катясь по мостовой, проминал почву возле меня. Я услышал
окрик: "Кто там лежит? Вставай! Задавим!" И тогда я встал. Приютивший нас
танк "Ленинградец" зарокотал мотором, ерзнул, рванулся и, залязгав
гусеницами, покатился вдаль, вслед за прошедшей танковой колонной. За ним
всколыхнулся второй, зигзагообразным, рыскающим движением съехал на
мостовую, везя на себе десятка два облепивших его людей, и помчался за
первым. Мы подошли к третьему, но и тот двинулся нам навстречу и промчался
мимо, прижав нас к краю панели, едва не задавив. И все-таки было что-то
мирное, доброжелательное в этих несущихся чудовищах, -- казалось, даже
случайно они причинить зла нам не могут, ведь это свои, наши, родные танки.
Именно такое чувство я осознал, когда танк за танком шли мимо нас, а мы
проскальзывали между их вращающейся гусеницей и заборчиком, должно быть, так
же, как и все в Нарве, минированным, и нам оставалось места, что называется,
в обрез. Но один из танков все продолжал стоять (его огибали другие):
танкисты наскоро доедали какое-то варево из ведра. Мы подошли и попросили их
включить радио, потому что ожидался еще приказ. Один из танкистов полез в
передний люк, мы и два-три танкиста сунули в этот люк головы и, сгрудившись,
слушали пойманные радистом на волне медленных, для газет, передач сообщения.
Проходящие танки своим лязгом и грохотом заглушали передачу, радист --
сержант Карабанов во весь голос кричал в танке, дублируя то, что слышит, мы
поняли только: передан еще пятый приказ -- о Шауляе... Пять приказов за один
день -- этого еще не бывало до сих пор!..
Танк двинулся вслед за прочими, и мы трое только
что бывшие среди людей как дома, опять оказались словно брошенными и
всеми забытыми. Но это чувство бездомности и одиночества тотчас миновало: мы
спустились к мосту, где стояли маленькими группами понтонеры, распорядители
движения. Ровный понтонный мост, поблескивающий при луне, в эти минуты был
пуст: на том берегу опять произошла какая-то заминка. Река Нарва широко и
беззвучно лилась перед нами, играя отражением луны. Мы хотели перейти по
мосту на тот берег, -- нас остановил часовой: приказано никого не
пропускать, пока не пройдут все танки и самоходки! Они снова пошли --
поодиночке. Мы узнали, что их должно переправиться около пятисот!
Все трое мы так устали, что уже почти не могли совладать с сонливостью,
-- я так просто не знал, куда девать себя от головной боли. Мы готовы были
лечь здесь же, в грязь, и заснуть, что ни происходило бы в мире! Но мы все
же мечтали добраться до нашего грузовикафургона. Здесь по-прежнему каждую
минуту ожидался налет вражеской авиации, и мы не совсем понимали, почему до
сих пор его нет, -- ведь через реку переправлялись, а на берегу перед мостом
стояли огромной пробкой танки и самоходные пушки!..
Наконец мы упросили часового пропустить нас по мосту (где не пролезет
корреспондент!). "Только бегом!" -- предупредил он нас. И когда один танк,
занимающий всю ширину моста, вылез на берег и, жужжа, как всесильный жук,
полез, выворачивая глину из полуметровой колеи, на крутой подъем, а
следующий -- на другом берегу -- включил мотор, чтоб спуститься к мосту, мы
втроем перебежали на правый берег. Миновав длинную вереницу ожидающих
очереди танков, мы выбрались на дорогу, так же запруженную боевыми машинами,
разыскали здесь свой грузовой фургон и залегли в нем -- я и Василевский, а
Фетисов остался в кабине рядом с шофером, приняв на себя все дальнейшее
распорядительство. И я заснул и смутно, сквозь сон слышал, как Фетисов
уходил, приходил, наконец, добившись от коменданта переправы разрешения
воткнуть нашу машину в колонну танков и прошмыгнуть на другую сторону реки,
успокоился. И наша машина, то ревя мотором, проползая метров пять-шесть, то
затихая и снова останавливаясь, вместе с танками часа два подбиралась
к переправе. А до переправы и оставалось-то метров не более трехсот! И
были какое-то волнение, какая-то руготня, наш фургон чуть не сшибло
развернутое вбок орудие самоходки, рванувшейся быстро и впритирочку
огибавшей нас. И, мгновенно включив мотор, наш Галченков рванул вперед, и
ствол орудия вовремя повернулся как надо, чтоб не унести наш кузов, а заодно
и нас. Потом мы чуть не свалились под откос, потом едва не были расплющены
двумя танками...
До всего этого мне уже не было никакого дела -- я был счастлив, что
лежу неподвижно, что сплю, хоть и слышу все сквозь мой зыбкий сон. Только
слухом да по толчкам воспринимал я окружающее. Было понятно: спускаемся к
переправе, катим по ней, выбираемся на другой берег, едем куда-то. На
какие-то пять минут я, вопреки ухабам и тряске, окончательно заснул, а
проснувшись от толчка, увидел за открытой дверцей фургона быстро
разматывающуюся позади ленту пустынной дороги, уцелевшие фольварки, купы
деревьев. Мы ехали по Эстонии, от деревни к деревне, пустым, разоренным, и
никаких людей на пути нам не попадалось.
Позади зоревым багрянцем и дымом таяла Нарва. Уже рассветало. Мы были
одни в пустынном, быстро пересекаемом нашей машиной мире. Мы искали путь к
8-й армии, которая должна была действовать где-то в южной от нас стороне,
ибо мы находились в сфере действий 2-й Ударной...
На Нарвском плацдарме
28 июля. КП 201-й дивизии
Вчера ехали мы сначала по пыльной, обстреливаемой артиллерией дороге
(немцы были в трех километрах от нее). Начиная от множества взорванных
железнодорожных путей станции Аувере-Яам, пересекали сплошное поле только
что отбушевавшего сражения. Воронки сплошь, везде; разбитые танки -- наши и
немецкие, превращенные в груды железного лома; трупы -- обожженные, с
оголенными черепами, изуродованные; тряпки, ручное оружие, амуниция; в
воронках -- болотная вода; много немецких, закопанных в землю танков с
пробитыми башнями, исковерканными стволами пушек.
После ночевки в каком-то медсанбате, направляясь
в 8-ю армию, мы медленно двигались по знаменитой еще с первых боев на
плацдарме "долине смерти", или, как иначе называют ее, по "Невскому
проспекту". По этой просеке немец несколько месяцев бил с высот Аувере и из
Ластиколонии (есть там такая, сильно укрепленная немцами высота 84, 6, под
склонами которой располагается поселок Ластиколония). Бьет немец откуда-то
по этой просеке и сейчас, но мы проскочили благополучно. На перекрестке
свернули влево, на юго-восток, к реке Нарве, и выехали к ней против
расположенной на правом берегу краснокаменной церкви.
Здесь расположены сейчас командные пункты и некоторые вышедшие из боя
части 268-й и 201-й стрелковых дивизий.
201-я стрелковая дивизия генерал-майора В. П. Якутовича вместе с
другими дивизиями 117-го стрелкового корпуса -- 120-й полковника А. В.
Батлука и 123-й прославленного после боев под Лугой генерал-майора А. Г.
Козиева[1], позавчера, совершив смелый обходный маневр, миновав плацдарм,
взяла станцию Аувере-Яам и тем, перерезав железную дорогу Нарва -- Таллин,
весьма помогла частям, штурмовавшим Нарву фронтальным ударом, и, в
частности, 109-му стрелковому корпусу, вышедшему с северо-востока к Аувере.
Особенно отличился 191-й стрелковый полк 201-й дивизии раненного в голову,
но руководившего боем, пока был в сознании, Паршина (он представлен к ордену
Ленина).
201-ю дивизию немцы знают еще с Гатчины и Луги, называют ее "дикой
лесной дивизией" (у нас она получила наименование Гатчинской
краснознаменной). Знают имя, отчество и фамилию ее командира Вячеслава
Петровича Якутовича, который им крепко насолил и
[1] В начале февраля, перерезав южнее Луги коммуникации немцев, 256-я
сд полковника А. Г. Козиева и два полка 372-й сд, презирая опасность
окружения, вырвались далеко вперед. Выполнив задачу, они и действовавший с
ними партизанский отряд в районе д. Оклюжье, были окружены немцами.
Перелетев на У-2 к своей дивизии, командир ее, полковник Анатолий Гаврилович
Козиев возглавил окруженные части и две недели, в тяжелейших условиях,
храбро и умело руководя боями, сдерживал напор врага. После взятия нашими
войсками Луги окруженная группировка была 15 февраля деблокирована частями
8-й и 59-й армий. А. Г. Козиеву, произведенному в генерал-майоры, было
присвоено звание Героя Советского Союза.
здесь, за что также вчера представлен нашим командованием к ордену
Ленина.
Поэтому, чтобы узнать все подробности взятия Аувере-Яам, я прежде всего
разыскал блиндаж Якутовича и пришел к нему. Чернобровый, рослый,
круглоголовый и коротко стриженный генерал встретил меня в пижаме,
гостеприимно и просто, усадил за стол, провел со мной несколько часов,
рассказывая обо всем, что мне хотелось знать. А я хотел знать и историю
дивизии, и биографию самого Якутовича.
Был он когда-то журналистом, писал под. псевдонимом Вячеслав Славко,
родился и жил в Киеве, переводил на украинский язык стихи Н. Ушакова и
книжки детских писателей... Потом пошел в армию добровольно, кончил военное
училище, после армии окончил училище народного хозяйства, занимал всякие
руководящие посты, опять ушел в армию, в финской кампании командовал полком,
окончил Академию имени Фрунзе. В Отечественной войне, командуя десантными
операциями, на две недели задержал у озера Самро-Долгое немецкое наступление
(а шло триста немецких танков, двадцать семь танкеток, тридцать шесть
броневиков и пехотный полк!). Потом вывел свой полк болотами на Кингисепп,
потом защищал Пулковские высоты... Было это в 1941 году... Командуя 13-й
стрелковой дивизией при прорыве блокады, был тяжело ранен. С момента
формирования 201-й дивизии командует ею... Отец его, воевавший в
империалистическую и в гражданскую войну, был командиром в партизанском
отряде, был в продармии и в 1928 году убит кулаками.
-- Мне всего тридцать семь лет, а подумаешь -- черт его знает, сколько
всего было! Даже стихи писал! Пять ранений, оторвано ухо, три контузии, а
здоров как черт! Сто пятнадцать сантиметров объем грудной клетки. А погоны
ношу -- семнадцать сантиметров, даже у Говорова короче: шестнадцать!
Голос у Якутовича мягкий, спокойный, приветливый, беседовать с ним
приятно и интересно.
Он перечислил мне всех своих отличившихся офицеров и солдат, каждому
отдал должное, а особенно командиру полка Паршину и его комбату капитану
Качукову -- кавалеру ордена Александра Невского (о которых речь дальше)...
Обходный маневр
29 июля
В приказе Верховного Главнокомандующего от 26 июля сказано, что Нарва
взята в результате умелого обходного маневра и фронтальной атаки. Взяли
Нарву, как я уже сказал, части 2-й Ударной армии. Здесь, со слов Якутовича,
опишу только действия дивизий 117-го стрелкового корпуса 8-й армии.
Шириною в полсотни километров, пересеченный широкой и быстрой рекою
Нарва, перешеек между Балтикой и Чудским озером был у немцев естественным и
удобным фундаментом для строительства сильнейших оборонительных укреплений.
Враг надеялся, что этот рубеж окажется непреодолимым для нас. Рассчитывал: в
реке Нарве и в лесных болотах к западу от нее захлебнутся наши наступающие
войска.
Но еще в феврале этого года, форсировав реку южнее города Нарва, войска
2-й Ударной армии Ленинградского фронта создали себе в лесных болотах к
западу от реки прочный плацдарм. Здесь тогда находился 30-й гвардейский
стрелковый корпус Н. П. Симоняка. Никакие неистовые усилия гитлеровцев
лишить нас этого плацдарма не имели успеха. Плацдарм остался в наших руках.
Перед фронтом плацдарма с севера тянулись две единственные на перешейке
дороги Нарва -- Таллин: шоссейная и железная. Владея дорогами, немцы могли
подбрасывать к Нарве снабжение и резервы. Владея сильнейшими укреплениями на
высотах Ластиколоний, могли просматривать с высоты и простреливать всю
местность кругом на десятки километров. Били прямою наводкой по фронту наших
войск через реку Нарву. Били на юг, по всему пространству созданного нами
плацдарма. Контролировали к северу всю береговую полосу Нарвского залива...
Если б у нас не было плацдарма и нам пришлось бы вести на Нарву только
фронтальное наступление, с востока, победа на этом участке досталась бы нам
гораздо более дорогой ценой, потому что немцы управляли бы всем своим огнем
с ключевых, превращенных в цепь мощных крепостей позиций, названных ими
рубежом "Танненберга". Наш плацдарм грозил немцам опасностью полного их
окружения.
Именно по этой причине перед нашими войсками была поставлена задача:
ударом с плацдарма на север перерезать обе дороги Нарва -- Таллин, овладеть
крепостями Ластиколоний, выйти в тылу нарвской группировки немецких войск к
берегу Балтики, чтобы заставить немцев под угрозой окружения отступить на
запад, очистив местность перед фронтом наших наступающих с востока в лоб
войск; либо, если враг не отступит, окружить и уничтожить его.
Непосредственное выполнение этого обходного маневра было возложено на
подошедший с юго-востока 117-й стрелковый корпус во взаимодействии с частями
16-го укрепрайона 2-й Ударной армии. Слева шла 123-я дивизия А. Г. Козиева,
справа -- 120-я дивизия А. В. Батлука, в центре -- и уступом позади -- 201-я
дивизия В. П. Якутовича. Части 16-го укрепрайона двигались в обход Нарвы с
плацдарма.
Наступление 117-го ск началось в 5. 30 утра 25 июля трехчасовой
артподготовкой. Снаряды всех видов ложились так густо, что
трех-четырехкилометровая болотная полоса немецкого переднего края
превратилась в сито, состоящее из смыкающихся краями воронок. Жижа,
наполняющая эти воронки, уплотнилась трупами гитлеровцев, искромсанным в
лохмотья железом. Немногие огневые точки врага ожили после этого
артиллерийского урагана, но кинувшихся вслед за артподготовкой в атаку
бойцов встретил неистовый огонь из глубины вражеской обороны -- огонь с
железнодорожной станции Аувере-Яам и с высоты 84, 6 (Ластиколоний). Бойцы
наступали по грудь в болотной жиже. Одну полевую пушку тащили на руках
тридцать -- тридцать пять человек. Танки ползли вперед, увязая в болоте
порою почти до башен, ползли не останавливаясь, и пехотинцы им помогали.
Первым пробило передний край немцев одно из левофланговых подразделений
Батлука. Это был пока еще только частичный успех -- брешь удалось пробить на
узком участке, а атакующие в болоте бойцы уже задыхались от непосильного
физического напряжения. Вот с этого момента и начинается успех подразделений
Якутовича, в частности полка офицера Паршина. Не ожидая развития успеха
соседом, Якутович немедленно снял два батальона полка Паршина со своего
участка и кинул их
в брешь, образованную соседом. Свежими силами батальон Цаплина, а за
ним батальон Захаренко развили атаку и стремительно врезались клином в
глубину обороны немцев. Немецкий фронт сразу же оказался рассеченным надвое,
и восточная его половина попала под угрозу окружения.
Маневр двух батальонов Паршина поддержали с исключительной храбростью
артиллеристы капитана Переборщикова. Двигаясь в боевых порядках пехоты, они
несли орудия на руках и попутно бились ручным оружием, наравне с
пехотинцами.
Три линии траншей были взяты и закреплены за собою полком Паршина.
Вражескую оборону наш клин рассек на несколько километров в глубину.
Противник откатился ко второй линии обороны -- к железной дороге и начал
оттуда яростно контратаковать. Ночь прошла в отражении этих контратак. Все
они были отбиты. Однако тем временем немцы подтянули с тыла к железной
дороге резервы, укрепили боевые порядки, усилили огневое сопротивление и
особенно огонь сильнейшей артиллерийской группировки из глубины -- с высоты
Ластиколонии. Наступавший в острие клина полк Паршина испытывал сильнейшее
давление с фронта и с флангов, но держался стойко, одновременно всеми видами
энергичной разведки вскрывая намерения противника, не давая ему оторваться.
Уже в эти часы боя 117-й стрелковый корпус, отвлекая на себя крупные силы
врага, весьма способствовал начавшемуся фронтальному наступлению с востока
частей 2-й Ударной армии, штурмовавших Нарву. Под угрозой охвата с двух
сторон немцы перед батальонами Якутовича стали отходить к самой железной
дороге.
26 июля Якутович направил свой главный удар на эту станцию. Шквалом
всех огневых средств свежий фашистский батальон был разгромлен, остатки его,
не успев занять рубежи, разбежались. Это дало возможность полку Паршина
атаковать станцию, ворваться туда и погнать противника от железной дороги в
леса.
Не теряя ни минуты, Якутович бросил 92-й полк Мокальского на
северо-восток, дабы отсечь побежавшим гитлеровцам путь к отступлению на
запад и идти вперед до соединения с войсками, ведущими фронтальное
наступление со стороны Нарвы. Полк Паршина Якутович
направил прямо на север, чтоб пересечь всю оставшуюся у врага полосу
перешейка до самого берега Балтики и тем перерезать все, до последней,
коммуникации немцев с западом.
Блестяще выполняя свою задачу, полк Мокальского углубился в леса, в
район Хинденурк, и, проведя жестокий бой в районе деревни Репнику-Асула,
соединился здесь с передовыми частями форсировавших реку Нарву, наступающих
с востока войск 2-й Ударной. Отрезанные от своих тылов, немецкие батальоны
заметались, кинулись на юго-восток и здесь в лесах попадали в руки
подразделений Батлука, которые их истребляли и большими группами брали в
плен.
А 191-й полк Паршина, дошедший было до Удриа, вместе со встреченными им
танками подполковника Примаченко повернул на юго-запад. Подкрепленный
танками полк, несмотря на то что с тыла и фланга его неистово обстреливал
противник, подошел к крайней из высот Ластиколоний, обложил ее с востока и
северо-востока. Штурм этой высоты не входил в задачу 117-го ск -- ее должны
были брать только части 2-й Ударной армии. Но передовые полки дивизии А. Г.
Козиева, ведя бой за Тирсу, уже приближались к высоте с юга. Поэтому Козиев,
используя успех Паршина, решил вместе с ним штурмовать высоту, тем более что
части 109-го корпуса 2-й Ударной уже приближались к ней с востока.
Что же представляла собой эта ключевая позиция всей немецкой обороны
нарвского участка? Крутые склоны ее со всех сторон были обведены траншеями,
одна над другой. Поля перед ней -- минированы и окаймлены проволочными
заграждениями. Глубокие, существующие с петровских времен пещеры на середине
ее высоты превращены немцами в бомбоубежища и укрытия для орудий.
Извилистыми лабиринтами траншеи поднимались по склонам, соединялись наверху
с казематами, скрывавшими дальнобойную артиллерию. Каменные здания когда-то
существовавшей здесь детской колонии перестроены в гнезда для огневых точек.
Фундаменты зданий переделаны в массивные доты. Зарытые в землю танки
дополняли боевую оснастку этой, считавшейся немцами неприступною, высоты.
Вот эту-то крепость во взаимодействии с частями Козиева и решился брать
штурмом полк Паршина, поддержанный тяжелыми танками ИС танкового полка
Примаченко, опередившего другие части 2-й Ударной. Подготовляя пехоте штурм,
на высоту налетели наши бомбардировщики. Танкисты Примаченко, пренебрегая
жесточайшим огнем врага, принялись за необычное для них дело: подведя свои
машины вплотную, на двести метров к подножию высоты, направили свои
122-миллиметровые орудия вверх и открыли непрерывный, бесперебойный огонь
прямою наводкой. Танки, обступившие высоту кольцом, превратились, таким
образом, в осадные орудия. Они находились в мертвой зоне, недоступной для
прицелов тяжелых, стоящих на высоте немецких орудий.
Штурм назначен был на девять часов утра 27 июля. Но, почувствовав после
удара по высоте, что все для штурма готово раньше, видя, что бойцы в
нетерпении ждут лишь команды рвануться вперед, Паршин с разрешения командира
дивизии начал штурм раньше: в пять часов тридцать минут.
Первым ворвался во вражеские траншеи батальон кавалера ордена
Александра Невского капитана Качукова. С южной стороны в это время штурм
высоты начали полки Козиева.
К тринадцати часам дня первые укрепления Ластиколонии были захвачены. К
исходу дня 27 июля вражеские орудия важнейшей ключевой позиции немцев
замолкли. Немцы были выбиты из Ластиколонии. Отступающие немецкие батареи от
Ластиколонии до берега Финского залива лишились источника точных данных для
ведения огня по нашим наступающим, двигавшимся сплошным фронтом к западу
войскам... [1]
[1] Вскоре немцам удалось на некоторое время вернуть себе эту ключевую
позицию, но вся полоса перед линией "Танненберга" была уже прочно закреплена
войсками 2-й Ударной армии (в состав которой был передан и 117-й корпус) за
собою. Описание следующего этапа боев -- прорыва рубежа "Танненберга" и
дальнейшего нашего наступления в глубь Эстонии -- в мою задачу не входит.
В часы после штурма Нарвы. Июль 1944 г.
Впереди не было переправы. Все, кто подъезжали сюда, опасались бомбежки
с воздуха, но деваться все равно было некуда, и тысячи машин, скопившись
правее (куда поехали вдоль реки и мы), стояли по многу часов. И каждый
человек в эти часы -- до глубокой ночи, а то и до утра -- думал: вот-вот
бомбежка начнется.
По Госпитальной улице, ведущей к бывшему Кирпичному заводу, мы
пробрались туда, где наводили в это время понтонный мост. И стали там в
пробке на дороге, избитой и пыльной, среди желтеющей озимой пшеницы.
Напротив нас выделялся тусклой зеленой окраской массивный немецкий
бронеколпак, в нем уже не было скорострельной пушки, а рядом с ним зияла
круглая воронка от авиабомбы, лежали разбросанные колеса, обломки телеги и
несло невыносимо трупным запахом. Обочины дороги были минированы, и все же я
в конце концов вылез в пшеницу и, лежа, глядел на голубое небо, на горящий
за рекой город Нарву, на великолепные, устоявшие от полного разрушения стены
и башни древних крепостей -- Иван-Города и Германова замка. Вокруг них в
овраге продолжались пожары, вздымавшие к небу где черный, а где бурый дым.
Мы вышли на берег переулочком. Он состоял из расщепленных снарядами и
раздавленных деревянных домиков да громоздившихся в овраге один над другим
блиндажей. На них, не найдя другого места, влезли, замерли танки --
замаскированные ветвями и всяким лоскутьем. Тут, на самом берегу,
отграниченном от воды кое-где уцелевшим маскировочным забором из тростника,
кольев и досок, блуждали среди трофейного хлама полураздетые солдаты. Они
сушили свою одежду, варили в котелках на кострах еду, перебирали и
складывали разбросанные повсюду боеприпасы. Пройдя краешком берега вниз по
течению, мы вновь подошли к наводимому саперами понтонному мосту. В группе
офицеров на берегу стоял энергично распоряжающийся генерал-лейтенант Б. В.
Бычевский. С нашей стороны работал 5-й понтонный батальон, а с той стороны
наводил переправу 21-й. Начальство всякого рода появлялось и уезжало на
"виллисах" и "эмках", торопя саперов, волнуясь, что переправа наводится
медленно, и стараясь ускорить дело. Оставалось навести совсем немного
понтонов, саперы, группами посылаемые за материалами к берегу, кидались по
мосту бегом, но они были предельно измучены. Только что на подмогу
понтонерам прибыл еще один понтонный батальон -- 159-й. Его командир,
подполковник П. В. Скороход, с которым мы разговорились, сказал, что саперы
еще в три часа утра этого дня были на Вуоксе и работают, совершив сегодня
трехсоткилометровый путь.
Автомашины понтонных частей с лодками-полупонтонами тянулись от
Ленинграда до Нарвы всю дорогу, то отставая от нас, то опережая. Все они
теперь подкатывали сюда, и люди сразу брались за дело. Танки и самоходные
орудия, все умножаясь, выстраивались чередой по-над рекой, по взгорку. Они
заезжали в пшеницу, накапливались в лощинах, на буграх, среди развалин домов
-- повсюду. Если бы у немцев нашлись в изобилии
самолеты, то они могли бы здесь изрядно напакостить нам, тем паче что
зениток в эти часы я нигде на берегу не заметил.
Мы бродили тут и смотрели на все происходившее вокруг часа два или три.
Близко и далеко то и дело взрывались мины, вспыхивали новые пожары -- где,
казалось, гореть уже было нечему. Лихие любители упражнялись в глушении рыбы
ручными и противотанковыми гранатами. В чистый воздух врывались порой волны
трупной вони, ветерок, поднимаясь, кружил обрывки газет и всяких немецких
бумажек.
Мы бродили по берегу, возвращались к машине, поглядывали на понтонный
мост, который и через два, и через три часа все еще готов не был. Мимо меня
провели под руки солдата, подорвавшегося на мине, с лицом, превращенным в
кровавую кашу. Он держал перед собой распяленные ладони -- кости его пальцев
были оголены.
Мы опять спустились к воде и решили переправиться через реку на лодке.
Несколько полуразбитых, простреленных лодок, несколько примитивных плотов
курсировало от берега к берегу, перевозя на ту сторону боеприпасы и тех, кто
умудрялся грести кусками досок. На одной из таких лодок переправились и мы
втроем, вместе с какими-то солдатами, коих я по пути учил искусству гребли.
Набегавшую воду мы все вычерпывали котелками. Кое-как перебрались, подплыли
к тому участку берега, где мин уже не было, к бывшей пароходной пристани, от
которой и следа не осталось.
Солнце садилось в дыму пожаров. Мы направились к городу и только теперь
хорошо увидели: город Нарва не существует. За три последующих часа, что мы
бродили по его дымным развалинам, я не нашел ни одного уцелевшего дома.
Узкие улицы этого по-средневековому компактного и красивого города заполнены
обломками так, что местами пройти невозможно. И даже эти завалы немцами
минированы. Характерно: ни в пустых коробках домов, ни в наваленных снаружи
обломках не видно никаких следов имущества жителей. Все вывезено немцами
заблаговременно или сожжено. Останки города производили бы впечатление
древних руин, если бы не продолжавшиеся кое-где пожары и не трупный,
выбивающийся из-под развалин запах. За все время наших блужданий мы видели
только двух живых местных жителей: подозрительного парня с хомутом в руках и
какого-то полусумасшедшего старика.
Поднявшись от берега на когда-то великолепную эспланаду бульвара, мы
встретили здесь еще двух людей, но оба они только что, как и мы,
переправились с того берега реки. Один из них был старшим лейтенантом
контрразведки, а второй -- в касторовой шляпе и узком гражданском пальто --
оказался тов. Николаем Каротаммом, первым секретарем ЦК КП Эстонии. Он
обратил наше внимание на бывший музей, превращенный немцами в конюшню, --
груды навоза заполнявшие разбитый дом, горели.
Глаза этого человека были напряженными и поблекшими, лицо -- серым. Мы
понимали, что он очень устал и что блуждания по руинам мертвой Нарвы терзают
его душу... Против дымящегося, превращенного в сквозящую каменную коробку
музея на углу Рыцарской и Садовой улиц столь же зияющим, прогорелым был дом
Петра I. Он ничем не отличался от других, обрамлявших страшными,
полурассыпавшимися стенами и эти, и все другие нарвские улицы. Дальше по
Рыцарской пройти было нельзя. Словно осыпи, сходились в середине ее
загромождения мусора и кирпичей. К тому же они были минированы -- только
наблюдательность и осторожность помогли нам заметить скрытые проволочки. Мы
вернулись к эспланаде бульвара.
Одетый в древнюю каменную кладку, над рекой подымается очень высокий
берег. Стена отвесно падает в воду, подобно скале, на которой в Крыму стоит
(или стояло до войны?) Ласточкино гнездо. Поверху, над этой стеной, и
проходит бульвар, начинаясь от парка Темный сад (где, как я позже узнал,
сохранился памятник русской солдатской славы) и протягиваясь до Горной
улицы, с высоты которой открывается великолепный вид на древние стены
Иван-Города и на Германов замок. Средневековый, такой, какие я привык видеть
только на старинных рисунках, он высится по ту сторону оврага, над
упирающейся в реку Германовой улицей. Венчающая замок массивная башня,
круглая и высокая, наполовину разбита 203-миллиметровыми снарядами тяжелой
артиллерии -- на этой башне находился немецкий наблюдательный пункт и наши
тяжелые батарей били сюда.
Надречный бульвар представлял собой зрелище странное. Уцелела тонкая
железная ограда, опираясь на которую любуешься бурлящей далеко внизу,
сдавленной берегами водой. Уцелел выложенный вдоль ограды тротуар из
квадратных плит, и чередой стоят на линии первого ряда деревьев садовые
скамейки с круто выгнутыми спинками. Но за скамьями, между первым и вторым
рядом деревьев, вместо прежней мостовой тянется глубокая и широкая
зигзагообразная траншея с вкрапленными дзотами, нишами, валами, площадками
для орудий и минометов. Весь этот оборонительный рубеж вдвинут глубоко в
землю взамен вынутой отсюда улицы. Позади этого рубежа, за вторым рядом
деревьев, сохраненных ради маскировки, тротуара тоже нет -- сплошные
развалины да скелеты домов.
Как прелестен, как красив, наверное, был этот участок города до
нашествия немцев! Конечно же бульвар был излюбленным местом вечерних
прогулок. Молодежь проводила здесь напролет теплые ночи...
Единственное, что роднило сейчас этот город с прежними счастливыми
временами, была взошедшая все та же, вечная в своей красоте луна. Она
напоила новой, страшной, особенной красотой молчаливые, безжизненные остатки
города, в котором мы трое представлялись себе единственными живыми
существами в этот вечер, когда передовые части наших войск уже прошли далеко
за город, а тылы армии еще не успели переправиться через реку. Вечер был
теплым, безветренным; кажется, деревья должны были источать тонкую свежесть
ночных ароматов, но вместо того в воздухе чувствовался горький запах гари;
на Горной улице, по которой двинулись мы дальше, прыгая по вывороченным
камням, повеяло таким острым, сладковатым трупным запахом, что мы поспешили
пройти это место скорее, задержав дыхание.
Внизу по Германовой улице шла маленькая группа солдат, четыре-пять
человек, и даже странным мне показалось увидеть человеческие существа в этом
мире разрушения и смерти. Только вспомнив, что и сам я -- живой человек,
шагающий здесь, я освободился от охватившего меня наваждения таинственности.
Мы вышли на Петровскую площадь, пустынную, но сплошь заваленную
картонными ящиками, должно быть из-под боеприпасов. На углу площади высился
высокий,
20 П. Лукницкий
новой постройки Дом, в котором сохранились междуэтажные перекрытия,
хотя он и прогорел насквозь. Именно потому, что я обратил внимание на эти
перекрытия и сравнил дом со всем увиденным, я понял: город Нарву
восстановить нельзя, до такой степени он разрушен. Здесь все нужно сносить
дочиста и все строить заново.
Идя вдоль Большой Ревельской улицы и не пытаясь заходить в поперечные,
через которые были протянуты нитки проволоки с предупредительными надписями:
"Мины!", "Прохода нет!", я увидел кое-где среди развалин цветы, живые цветы
в маленьких клумбах. Каким чудом сохранились они в этой стихии бед и
несчастья? И еще увидел я немецкие блиндажи, вдвинутые в каменные подвалы,
-- немцы жили здесь, как кроты, как черви, не решаясь высунуть носа на
поверхность земли. Справа, в центре города, алели мрачные клубки пожаров, из
них мгновениями вырывались и рассыпались искрами яркие хвосты пламени, и
тогда слышался треск.
Внезапно -- полным несоответствием обстановке -- где-то неподалеку
разнеслась живая, веселая, звенящая девичьими голосами песня. Откуда? Кто
может быть здесь веселым?.. Из-за угла навстречу нам, стуча сапогами по
гулкому булыжнику, поблескивая в лунном свете воронеными стволами автоматов,
дружным строем вышла группа девушек-регулировщиц, видимо только что
переправившихся через реку. Полные жизни, веселые, ясноглазые, эти девушки
прошли мимо нас, и песня их долго лилась единственным дыханием жизни в
прозрачной, словно стеклянной, ночи...
Ища того потока танков и машин, который должен был устремиться сюда,
едва наведут переправу, и в котором должен был двигаться и наш грузовичок,
мы обогнули город с севера. По мостовой, обрамленной кустарником и травой,
вышли к Таможенной улице... Прежде здесь, очевидно, стояли деревянные дачки.
Теперь же не было ничего, кроме кустов, сгоревших деревьев да обломков
брусчатых заборчиков. Мы увидели молчаливо стоящий посреди улицы,
озелененный луной огромный танк ИС с надписью на броне "Ленинградец"...
Возле него, на камнях тротуара, кружком расположились танкисты -- ужинали.
На гусеницах, на броне танка сидели, переговариваясь, потягивая из кружек
чай, и лежали, похрапывая, другие танкисты. За этим танком, истаивая
в лунной мгле, гуськом стояло еще четыре-пять таких же громадин. Возле
первого нам попался майор Эдуард Аренин -- корреспондент газеты "На страже
Родины". Он направлялся на танке в передовые части 2-й Ударной армии, наш
путь лежал в 8-ю, и потому эта встреча была недолгой. Танкисты угостили нас
малиной и красной смородиной, высыпав несколько горстей ее прямо на
облепленный землей металл гусеницы. Это были танки бригады полковника
Проценко. Понтонный мост, оказывается, уже навели, но после прохода KB
несколько понтонов разошлись, и теперь, пока мост налаживали, эти передние
KB ждали переправы прочих.
Голова моя так нестерпимо болела, что я не мог принять участия в
разговорах, даже отказался от чая, что вскипячен был в большом жестяном
чайнике. Я надел свою шинель и лег в ней на каменные плиты тротуара, перед
самыми гусеницами танка, подложив под голову полевую сумку. Невольно
подумал, как выглядело бы, если б какой-либо офицер лег отдыхать, скажем, на
улице Горького в Москве? Тщетно стремясь заснуть, я глядел на тусклый огонь
пожара, полыхавшего в центре Нарвы, слушал, как танкисты, наладив
радиоприемник, прильнув к открытому люку, принимали приказы Верховного
Главнокомандующего из Москвы. Они спохватились поздно (приказы уже были
переданы) и ловили куски сообщений. Во внешнем мире творились великие дела,
эфир был полон вестей о них, и здесь, в разоренной Нарве, на фронте,
особенно волнующими были эти куски московских известий, из которых мы
поняли, что взято несколько городов: было уже четыре приказа -- о Белостоке,
о Станиславе, о Львове, о Режице... Но танкисты, как и все мы, так привыкли
к крупным победам, что принимали сообщения почти без всяких внешних
выражений радости. И все же радость жила в каждом из нас, праздничное
чувство владело всеми. Спящий, пробуждаясь, спрашивал: "Что? Какие города?"
Коротко узнав, отвечал: "Здорово!", или "Вот это хорошо!", или "Дают им
жизни!". И сразу же вновь ронял голову на броню и засыпал опять, но на губах
его, уже во сне, продолжала блуждать улыбка.
Через полчаса-час танки должны были двинуться дальше, танкисты шли в
бой, и в эти минуты случайной стоянки сон был дороже всего...
20*
Скоро я впал в полузабытье -- дремоту, не снимавшую ощущения головной
боли. Сквозь эту дремоту я услышал лязг гусениц, гигантски нарастающий,
приближающийся. Казалось, вот-вот я буду раздавлен, но шевелиться не
хотелось, я знал, что охранен броней того, стоящего рядом ИС от всяких
случайностей. Махина танка, пришедшего с переправы, прокатилась мимо меня
так тяжело, что я ощущал, как прогибалась подо мной земля вместе с плитами
панели. Всеобъемлющий грохот стал спадать, танк промчался, за ним вырос
второй, за вторым третий -- танки пошли сплошной чередой, несколько
десятков, и каждый, катясь по мостовой, проминал почву возле меня. Я услышал
окрик: "Кто там лежит? Вставай! Задавим!" И тогда я встал. Приютивший нас
танк "Ленинградец" зарокотал мотором, ерзнул, рванулся и, залязгав
гусеницами, покатился вдаль, вслед за прошедшей танковой колонной. За ним
всколыхнулся второй, зигзагообразным, рыскающим движением съехал на
мостовую, везя на себе десятка два облепивших его людей, и помчался за
первым. Мы подошли к третьему, но и тот двинулся нам навстречу и промчался
мимо, прижав нас к краю панели, едва не задавив. И все-таки было что-то
мирное, доброжелательное в этих несущихся чудовищах, -- казалось, даже
случайно они причинить зла нам не могут, ведь это свои, наши, родные танки.
Именно такое чувство я осознал, когда танк за танком шли мимо нас, а мы
проскальзывали между их вращающейся гусеницей и заборчиком, должно быть, так
же, как и все в Нарве, минированным, и нам оставалось места, что называется,
в обрез. Но один из танков все продолжал стоять (его огибали другие):
танкисты наскоро доедали какое-то варево из ведра. Мы подошли и попросили их
включить радио, потому что ожидался еще приказ. Один из танкистов полез в
передний люк, мы и два-три танкиста сунули в этот люк головы и, сгрудившись,
слушали пойманные радистом на волне медленных, для газет, передач сообщения.
Проходящие танки своим лязгом и грохотом заглушали передачу, радист --
сержант Карабанов во весь голос кричал в танке, дублируя то, что слышит, мы
поняли только: передан еще пятый приказ -- о Шауляе... Пять приказов за один
день -- этого еще не бывало до сих пор!..
Танк двинулся вслед за прочими, и мы трое только
что бывшие среди людей как дома, опять оказались словно брошенными и
всеми забытыми. Но это чувство бездомности и одиночества тотчас миновало: мы
спустились к мосту, где стояли маленькими группами понтонеры, распорядители
движения. Ровный понтонный мост, поблескивающий при луне, в эти минуты был
пуст: на том берегу опять произошла какая-то заминка. Река Нарва широко и
беззвучно лилась перед нами, играя отражением луны. Мы хотели перейти по
мосту на тот берег, -- нас остановил часовой: приказано никого не
пропускать, пока не пройдут все танки и самоходки! Они снова пошли --
поодиночке. Мы узнали, что их должно переправиться около пятисот!
Все трое мы так устали, что уже почти не могли совладать с сонливостью,
-- я так просто не знал, куда девать себя от головной боли. Мы готовы были
лечь здесь же, в грязь, и заснуть, что ни происходило бы в мире! Но мы все
же мечтали добраться до нашего грузовикафургона. Здесь по-прежнему каждую
минуту ожидался налет вражеской авиации, и мы не совсем понимали, почему до
сих пор его нет, -- ведь через реку переправлялись, а на берегу перед мостом
стояли огромной пробкой танки и самоходные пушки!..
Наконец мы упросили часового пропустить нас по мосту (где не пролезет
корреспондент!). "Только бегом!" -- предупредил он нас. И когда один танк,
занимающий всю ширину моста, вылез на берег и, жужжа, как всесильный жук,
полез, выворачивая глину из полуметровой колеи, на крутой подъем, а
следующий -- на другом берегу -- включил мотор, чтоб спуститься к мосту, мы
втроем перебежали на правый берег. Миновав длинную вереницу ожидающих
очереди танков, мы выбрались на дорогу, так же запруженную боевыми машинами,
разыскали здесь свой грузовой фургон и залегли в нем -- я и Василевский, а
Фетисов остался в кабине рядом с шофером, приняв на себя все дальнейшее
распорядительство. И я заснул и смутно, сквозь сон слышал, как Фетисов
уходил, приходил, наконец, добившись от коменданта переправы разрешения
воткнуть нашу машину в колонну танков и прошмыгнуть на другую сторону реки,
успокоился. И наша машина, то ревя мотором, проползая метров пять-шесть, то
затихая и снова останавливаясь, вместе с танками часа два подбиралась
к переправе. А до переправы и оставалось-то метров не более трехсот! И
были какое-то волнение, какая-то руготня, наш фургон чуть не сшибло
развернутое вбок орудие самоходки, рванувшейся быстро и впритирочку
огибавшей нас. И, мгновенно включив мотор, наш Галченков рванул вперед, и
ствол орудия вовремя повернулся как надо, чтоб не унести наш кузов, а заодно
и нас. Потом мы чуть не свалились под откос, потом едва не были расплющены
двумя танками...
До всего этого мне уже не было никакого дела -- я был счастлив, что
лежу неподвижно, что сплю, хоть и слышу все сквозь мой зыбкий сон. Только
слухом да по толчкам воспринимал я окружающее. Было понятно: спускаемся к
переправе, катим по ней, выбираемся на другой берег, едем куда-то. На
какие-то пять минут я, вопреки ухабам и тряске, окончательно заснул, а
проснувшись от толчка, увидел за открытой дверцей фургона быстро
разматывающуюся позади ленту пустынной дороги, уцелевшие фольварки, купы
деревьев. Мы ехали по Эстонии, от деревни к деревне, пустым, разоренным, и
никаких людей на пути нам не попадалось.
Позади зоревым багрянцем и дымом таяла Нарва. Уже рассветало. Мы были
одни в пустынном, быстро пересекаемом нашей машиной мире. Мы искали путь к
8-й армии, которая должна была действовать где-то в южной от нас стороне,
ибо мы находились в сфере действий 2-й Ударной...
На Нарвском плацдарме
28 июля. КП 201-й дивизии
Вчера ехали мы сначала по пыльной, обстреливаемой артиллерией дороге
(немцы были в трех километрах от нее). Начиная от множества взорванных
железнодорожных путей станции Аувере-Яам, пересекали сплошное поле только
что отбушевавшего сражения. Воронки сплошь, везде; разбитые танки -- наши и
немецкие, превращенные в груды железного лома; трупы -- обожженные, с
оголенными черепами, изуродованные; тряпки, ручное оружие, амуниция; в
воронках -- болотная вода; много немецких, закопанных в землю танков с
пробитыми башнями, исковерканными стволами пушек.
После ночевки в каком-то медсанбате, направляясь
в 8-ю армию, мы медленно двигались по знаменитой еще с первых боев на
плацдарме "долине смерти", или, как иначе называют ее, по "Невскому
проспекту". По этой просеке немец несколько месяцев бил с высот Аувере и из
Ластиколонии (есть там такая, сильно укрепленная немцами высота 84, 6, под
склонами которой располагается поселок Ластиколония). Бьет немец откуда-то
по этой просеке и сейчас, но мы проскочили благополучно. На перекрестке
свернули влево, на юго-восток, к реке Нарве, и выехали к ней против
расположенной на правом берегу краснокаменной церкви.
Здесь расположены сейчас командные пункты и некоторые вышедшие из боя
части 268-й и 201-й стрелковых дивизий.
201-я стрелковая дивизия генерал-майора В. П. Якутовича вместе с
другими дивизиями 117-го стрелкового корпуса -- 120-й полковника А. В.
Батлука и 123-й прославленного после боев под Лугой генерал-майора А. Г.
Козиева[1], позавчера, совершив смелый обходный маневр, миновав плацдарм,
взяла станцию Аувере-Яам и тем, перерезав железную дорогу Нарва -- Таллин,
весьма помогла частям, штурмовавшим Нарву фронтальным ударом, и, в
частности, 109-му стрелковому корпусу, вышедшему с северо-востока к Аувере.
Особенно отличился 191-й стрелковый полк 201-й дивизии раненного в голову,
но руководившего боем, пока был в сознании, Паршина (он представлен к ордену
Ленина).
201-ю дивизию немцы знают еще с Гатчины и Луги, называют ее "дикой
лесной дивизией" (у нас она получила наименование Гатчинской
краснознаменной). Знают имя, отчество и фамилию ее командира Вячеслава
Петровича Якутовича, который им крепко насолил и
[1] В начале февраля, перерезав южнее Луги коммуникации немцев, 256-я
сд полковника А. Г. Козиева и два полка 372-й сд, презирая опасность
окружения, вырвались далеко вперед. Выполнив задачу, они и действовавший с
ними партизанский отряд в районе д. Оклюжье, были окружены немцами.
Перелетев на У-2 к своей дивизии, командир ее, полковник Анатолий Гаврилович
Козиев возглавил окруженные части и две недели, в тяжелейших условиях,
храбро и умело руководя боями, сдерживал напор врага. После взятия нашими
войсками Луги окруженная группировка была 15 февраля деблокирована частями
8-й и 59-й армий. А. Г. Козиеву, произведенному в генерал-майоры, было
присвоено звание Героя Советского Союза.
здесь, за что также вчера представлен нашим командованием к ордену
Ленина.
Поэтому, чтобы узнать все подробности взятия Аувере-Яам, я прежде всего
разыскал блиндаж Якутовича и пришел к нему. Чернобровый, рослый,
круглоголовый и коротко стриженный генерал встретил меня в пижаме,
гостеприимно и просто, усадил за стол, провел со мной несколько часов,
рассказывая обо всем, что мне хотелось знать. А я хотел знать и историю
дивизии, и биографию самого Якутовича.
Был он когда-то журналистом, писал под. псевдонимом Вячеслав Славко,
родился и жил в Киеве, переводил на украинский язык стихи Н. Ушакова и
книжки детских писателей... Потом пошел в армию добровольно, кончил военное
училище, после армии окончил училище народного хозяйства, занимал всякие
руководящие посты, опять ушел в армию, в финской кампании командовал полком,
окончил Академию имени Фрунзе. В Отечественной войне, командуя десантными
операциями, на две недели задержал у озера Самро-Долгое немецкое наступление
(а шло триста немецких танков, двадцать семь танкеток, тридцать шесть
броневиков и пехотный полк!). Потом вывел свой полк болотами на Кингисепп,
потом защищал Пулковские высоты... Было это в 1941 году... Командуя 13-й
стрелковой дивизией при прорыве блокады, был тяжело ранен. С момента
формирования 201-й дивизии командует ею... Отец его, воевавший в
империалистическую и в гражданскую войну, был командиром в партизанском
отряде, был в продармии и в 1928 году убит кулаками.
-- Мне всего тридцать семь лет, а подумаешь -- черт его знает, сколько
всего было! Даже стихи писал! Пять ранений, оторвано ухо, три контузии, а
здоров как черт! Сто пятнадцать сантиметров объем грудной клетки. А погоны
ношу -- семнадцать сантиметров, даже у Говорова короче: шестнадцать!
Голос у Якутовича мягкий, спокойный, приветливый, беседовать с ним
приятно и интересно.
Он перечислил мне всех своих отличившихся офицеров и солдат, каждому
отдал должное, а особенно командиру полка Паршину и его комбату капитану
Качукову -- кавалеру ордена Александра Невского (о которых речь дальше)...
Обходный маневр
29 июля
В приказе Верховного Главнокомандующего от 26 июля сказано, что Нарва
взята в результате умелого обходного маневра и фронтальной атаки. Взяли
Нарву, как я уже сказал, части 2-й Ударной армии. Здесь, со слов Якутовича,
опишу только действия дивизий 117-го стрелкового корпуса 8-й армии.
Шириною в полсотни километров, пересеченный широкой и быстрой рекою
Нарва, перешеек между Балтикой и Чудским озером был у немцев естественным и
удобным фундаментом для строительства сильнейших оборонительных укреплений.
Враг надеялся, что этот рубеж окажется непреодолимым для нас. Рассчитывал: в
реке Нарве и в лесных болотах к западу от нее захлебнутся наши наступающие
войска.
Но еще в феврале этого года, форсировав реку южнее города Нарва, войска
2-й Ударной армии Ленинградского фронта создали себе в лесных болотах к
западу от реки прочный плацдарм. Здесь тогда находился 30-й гвардейский
стрелковый корпус Н. П. Симоняка. Никакие неистовые усилия гитлеровцев
лишить нас этого плацдарма не имели успеха. Плацдарм остался в наших руках.
Перед фронтом плацдарма с севера тянулись две единственные на перешейке
дороги Нарва -- Таллин: шоссейная и железная. Владея дорогами, немцы могли
подбрасывать к Нарве снабжение и резервы. Владея сильнейшими укреплениями на
высотах Ластиколоний, могли просматривать с высоты и простреливать всю
местность кругом на десятки километров. Били прямою наводкой по фронту наших
войск через реку Нарву. Били на юг, по всему пространству созданного нами
плацдарма. Контролировали к северу всю береговую полосу Нарвского залива...
Если б у нас не было плацдарма и нам пришлось бы вести на Нарву только
фронтальное наступление, с востока, победа на этом участке досталась бы нам
гораздо более дорогой ценой, потому что немцы управляли бы всем своим огнем
с ключевых, превращенных в цепь мощных крепостей позиций, названных ими
рубежом "Танненберга". Наш плацдарм грозил немцам опасностью полного их
окружения.
Именно по этой причине перед нашими войсками была поставлена задача:
ударом с плацдарма на север перерезать обе дороги Нарва -- Таллин, овладеть
крепостями Ластиколоний, выйти в тылу нарвской группировки немецких войск к
берегу Балтики, чтобы заставить немцев под угрозой окружения отступить на
запад, очистив местность перед фронтом наших наступающих с востока в лоб
войск; либо, если враг не отступит, окружить и уничтожить его.
Непосредственное выполнение этого обходного маневра было возложено на
подошедший с юго-востока 117-й стрелковый корпус во взаимодействии с частями
16-го укрепрайона 2-й Ударной армии. Слева шла 123-я дивизия А. Г. Козиева,
справа -- 120-я дивизия А. В. Батлука, в центре -- и уступом позади -- 201-я
дивизия В. П. Якутовича. Части 16-го укрепрайона двигались в обход Нарвы с
плацдарма.
Наступление 117-го ск началось в 5. 30 утра 25 июля трехчасовой
артподготовкой. Снаряды всех видов ложились так густо, что
трех-четырехкилометровая болотная полоса немецкого переднего края
превратилась в сито, состоящее из смыкающихся краями воронок. Жижа,
наполняющая эти воронки, уплотнилась трупами гитлеровцев, искромсанным в
лохмотья железом. Немногие огневые точки врага ожили после этого
артиллерийского урагана, но кинувшихся вслед за артподготовкой в атаку
бойцов встретил неистовый огонь из глубины вражеской обороны -- огонь с
железнодорожной станции Аувере-Яам и с высоты 84, 6 (Ластиколоний). Бойцы
наступали по грудь в болотной жиже. Одну полевую пушку тащили на руках
тридцать -- тридцать пять человек. Танки ползли вперед, увязая в болоте
порою почти до башен, ползли не останавливаясь, и пехотинцы им помогали.
Первым пробило передний край немцев одно из левофланговых подразделений
Батлука. Это был пока еще только частичный успех -- брешь удалось пробить на
узком участке, а атакующие в болоте бойцы уже задыхались от непосильного
физического напряжения. Вот с этого момента и начинается успех подразделений
Якутовича, в частности полка офицера Паршина. Не ожидая развития успеха
соседом, Якутович немедленно снял два батальона полка Паршина со своего
участка и кинул их
в брешь, образованную соседом. Свежими силами батальон Цаплина, а за
ним батальон Захаренко развили атаку и стремительно врезались клином в
глубину обороны немцев. Немецкий фронт сразу же оказался рассеченным надвое,
и восточная его половина попала под угрозу окружения.
Маневр двух батальонов Паршина поддержали с исключительной храбростью
артиллеристы капитана Переборщикова. Двигаясь в боевых порядках пехоты, они
несли орудия на руках и попутно бились ручным оружием, наравне с
пехотинцами.
Три линии траншей были взяты и закреплены за собою полком Паршина.
Вражескую оборону наш клин рассек на несколько километров в глубину.
Противник откатился ко второй линии обороны -- к железной дороге и начал
оттуда яростно контратаковать. Ночь прошла в отражении этих контратак. Все
они были отбиты. Однако тем временем немцы подтянули с тыла к железной
дороге резервы, укрепили боевые порядки, усилили огневое сопротивление и
особенно огонь сильнейшей артиллерийской группировки из глубины -- с высоты
Ластиколонии. Наступавший в острие клина полк Паршина испытывал сильнейшее
давление с фронта и с флангов, но держался стойко, одновременно всеми видами
энергичной разведки вскрывая намерения противника, не давая ему оторваться.
Уже в эти часы боя 117-й стрелковый корпус, отвлекая на себя крупные силы
врага, весьма способствовал начавшемуся фронтальному наступлению с востока
частей 2-й Ударной армии, штурмовавших Нарву. Под угрозой охвата с двух
сторон немцы перед батальонами Якутовича стали отходить к самой железной
дороге.
26 июля Якутович направил свой главный удар на эту станцию. Шквалом
всех огневых средств свежий фашистский батальон был разгромлен, остатки его,
не успев занять рубежи, разбежались. Это дало возможность полку Паршина
атаковать станцию, ворваться туда и погнать противника от железной дороги в
леса.
Не теряя ни минуты, Якутович бросил 92-й полк Мокальского на
северо-восток, дабы отсечь побежавшим гитлеровцам путь к отступлению на
запад и идти вперед до соединения с войсками, ведущими фронтальное
наступление со стороны Нарвы. Полк Паршина Якутович
направил прямо на север, чтоб пересечь всю оставшуюся у врага полосу
перешейка до самого берега Балтики и тем перерезать все, до последней,
коммуникации немцев с западом.
Блестяще выполняя свою задачу, полк Мокальского углубился в леса, в
район Хинденурк, и, проведя жестокий бой в районе деревни Репнику-Асула,
соединился здесь с передовыми частями форсировавших реку Нарву, наступающих
с востока войск 2-й Ударной. Отрезанные от своих тылов, немецкие батальоны
заметались, кинулись на юго-восток и здесь в лесах попадали в руки
подразделений Батлука, которые их истребляли и большими группами брали в
плен.
А 191-й полк Паршина, дошедший было до Удриа, вместе со встреченными им
танками подполковника Примаченко повернул на юго-запад. Подкрепленный
танками полк, несмотря на то что с тыла и фланга его неистово обстреливал
противник, подошел к крайней из высот Ластиколоний, обложил ее с востока и
северо-востока. Штурм этой высоты не входил в задачу 117-го ск -- ее должны
были брать только части 2-й Ударной армии. Но передовые полки дивизии А. Г.
Козиева, ведя бой за Тирсу, уже приближались к высоте с юга. Поэтому Козиев,
используя успех Паршина, решил вместе с ним штурмовать высоту, тем более что
части 109-го корпуса 2-й Ударной уже приближались к ней с востока.
Что же представляла собой эта ключевая позиция всей немецкой обороны
нарвского участка? Крутые склоны ее со всех сторон были обведены траншеями,
одна над другой. Поля перед ней -- минированы и окаймлены проволочными
заграждениями. Глубокие, существующие с петровских времен пещеры на середине
ее высоты превращены немцами в бомбоубежища и укрытия для орудий.
Извилистыми лабиринтами траншеи поднимались по склонам, соединялись наверху
с казематами, скрывавшими дальнобойную артиллерию. Каменные здания когда-то
существовавшей здесь детской колонии перестроены в гнезда для огневых точек.
Фундаменты зданий переделаны в массивные доты. Зарытые в землю танки
дополняли боевую оснастку этой, считавшейся немцами неприступною, высоты.
Вот эту-то крепость во взаимодействии с частями Козиева и решился брать
штурмом полк Паршина, поддержанный тяжелыми танками ИС танкового полка
Примаченко, опередившего другие части 2-й Ударной. Подготовляя пехоте штурм,
на высоту налетели наши бомбардировщики. Танкисты Примаченко, пренебрегая
жесточайшим огнем врага, принялись за необычное для них дело: подведя свои
машины вплотную, на двести метров к подножию высоты, направили свои
122-миллиметровые орудия вверх и открыли непрерывный, бесперебойный огонь
прямою наводкой. Танки, обступившие высоту кольцом, превратились, таким
образом, в осадные орудия. Они находились в мертвой зоне, недоступной для
прицелов тяжелых, стоящих на высоте немецких орудий.
Штурм назначен был на девять часов утра 27 июля. Но, почувствовав после
удара по высоте, что все для штурма готово раньше, видя, что бойцы в
нетерпении ждут лишь команды рвануться вперед, Паршин с разрешения командира
дивизии начал штурм раньше: в пять часов тридцать минут.
Первым ворвался во вражеские траншеи батальон кавалера ордена
Александра Невского капитана Качукова. С южной стороны в это время штурм
высоты начали полки Козиева.
К тринадцати часам дня первые укрепления Ластиколонии были захвачены. К
исходу дня 27 июля вражеские орудия важнейшей ключевой позиции немцев
замолкли. Немцы были выбиты из Ластиколонии. Отступающие немецкие батареи от
Ластиколонии до берега Финского залива лишились источника точных данных для
ведения огня по нашим наступающим, двигавшимся сплошным фронтом к западу
войскам... [1]
[1] Вскоре немцам удалось на некоторое время вернуть себе эту ключевую
позицию, но вся полоса перед линией "Танненберга" была уже прочно закреплена
войсками 2-й Ударной армии (в состав которой был передан и 117-й корпус) за
собою. Описание следующего этапа боев -- прорыва рубежа "Танненберга" и
дальнейшего нашего наступления в глубь Эстонии -- в мою задачу не входит.
 В пути Прага -- Ленинград в эшелоне победителей.
Июнь 1945 г. Слева -- автор книги, майор П. Н. Лукницкий.
И только убедившись, что никто мстить им не собирается, стали повально
и повсеместно, даже радуясь, что жизнь их будет сохранена и возвращение в
Германию гарантировано, сдаваться десятками тысяч в плен. Прием в плен
осуществлялся под руководством генерал-полковника М. М. Попова[1]. 8 мая был
подписан в Берлине всем известный акт о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая весь мир праздновал великий праздник Победы наших и союзных войск. А
до 14 мая в Курляндии еще продолжался прием пленных немцев. В чехословацком
городе Влашиме, взятом накануне войсками 2-го Украинского фронта, в
армейской газете "Родина зовет" от 13 мая я прочел оперативную сводку
Совинформбюро. В ней говорилось о том, что в течение 12 мая войска Ленфронта
продолжали прием сдающихся в плен немцев и что "... с 9 по 12 мая сдалось в
плен 140 408 солдат и унтер-офицеров, 5083 офицера и 28 генералов... Войска
фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского
залива и Балтийского моря... ". К 14 мая войскам Ленинградского фронта
сдалось в Курляндии 231611 немцев со всем вооружением, в числе которого было
436 танков, 1722 орудия, 136 самолетов и множество всего другого.
"... Более 50 тысяч немецких солдат и офицеров, бросив оружие,
несколько дней скрывались в лесах блокированной зоны и, наконец, были
выловлены нашими частями".
[1] Сообщая о капитуляции немцев и Курляндии, я пользуюсь материалом,
подробно изложенным тогдашним помощником начальника оперштаба Ленфронта В.
М. Ганкевичем в книге "Конец группы "Норд" (Лениздат, 1965, стр. 205 и др. )
и оперсводками Совинформбюро, опубликованными в армейской газете
"Суворовский натиск" в 1945 г., и другими источниками.
Только в Чехословакии еще сопротивлялась в эти дни последняя немецкая
группировка генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Ведера. Но и
ее остатки сдались К 16 мая 1945 года, находясь в Чехословакии, я прочел в
армейской газете "Суворовский натиск" сводку Информбюро за 15 мая: "...
Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен". Это была
последняя в Отечественной войне "оперсводка Совинформбюро"!
В июле 1945 года с одним из эшелонов радостных победителей я через
Карпаты и Украину вернулся в родной Ленинград.
... 26 января 1945 года, к годовщине полного снятия блокады Ленинграда,
был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР:
"За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, мужество и
героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками в трудных условиях вражеской блокады, наградить город Ленинград
орденом Ленина".
Как и каждый ленинградец, участвовавший в защите родного города, я
счастлив, что кроме медали "За оборону Ленинграда" мне принадлежит и одна
миллионная часть этого высокого ордена.
В родном городе я застал отца поздоровевшим и энергично работающим[2].
[1] В эти же дни в Чехословакии нами был взят в плен вместе со штабом
своей фашистской части изменник Родины, бывший генерал Власов. Он пытался
ускользнуть в американскую зону, но не ушел от заслуженной кары.
[2] Второй инфаркт, после долгих месяцев пребывания в госпитале, отец
выдержал. И потом до 1951 г. упорно и настойчиво трудился в своей
военно-инженерной и архитектурной областях. До конца дней он был начальником
кафедры Высшего инженерно-технического училища Военно-Морского Флота, строил
портовые сооружения. Он был первым инициатором основания Института
организации и механизации строительных работ, а впоследствии его директором.
Будучи выдающимся русским и советским инженером-строителем, воспитателем
нескольких поколений кадров военных и гражданских инженеров-строителей, он
написал ряд научных трудов, занимал много должностей.
Умер он внезапно 6 августа 1951 г., в разгаре работы в деревне Ушково
(б. Тюрисевя) на Карельском перешейке, хорошо знакомой мне по боям 1944 г. Я
похоронил отца в юбилейный день его семидесятипятилетия на Серафимовском
кладбище в Ленинграде, под торжественный орудийный и ружейный салют,
отданный в его честь курсантами училища Военно-Морского Флота, инженерами,
артиллеристами, доставившими его прах к кладбищу на орудийном лафете и
сопровождавшими его, растянувшись на полтора километра, траурной колонной
через Ленинград... Это было 8 августа 1951 г.
В пути Прага -- Ленинград в эшелоне победителей.
Июнь 1945 г. Слева -- автор книги, майор П. Н. Лукницкий.
И только убедившись, что никто мстить им не собирается, стали повально
и повсеместно, даже радуясь, что жизнь их будет сохранена и возвращение в
Германию гарантировано, сдаваться десятками тысяч в плен. Прием в плен
осуществлялся под руководством генерал-полковника М. М. Попова[1]. 8 мая был
подписан в Берлине всем известный акт о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая весь мир праздновал великий праздник Победы наших и союзных войск. А
до 14 мая в Курляндии еще продолжался прием пленных немцев. В чехословацком
городе Влашиме, взятом накануне войсками 2-го Украинского фронта, в
армейской газете "Родина зовет" от 13 мая я прочел оперативную сводку
Совинформбюро. В ней говорилось о том, что в течение 12 мая войска Ленфронта
продолжали прием сдающихся в плен немцев и что "... с 9 по 12 мая сдалось в
плен 140 408 солдат и унтер-офицеров, 5083 офицера и 28 генералов... Войска
фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье Рижского
залива и Балтийского моря... ". К 14 мая войскам Ленинградского фронта
сдалось в Курляндии 231611 немцев со всем вооружением, в числе которого было
436 танков, 1722 орудия, 136 самолетов и множество всего другого.
"... Более 50 тысяч немецких солдат и офицеров, бросив оружие,
несколько дней скрывались в лесах блокированной зоны и, наконец, были
выловлены нашими частями".
[1] Сообщая о капитуляции немцев и Курляндии, я пользуюсь материалом,
подробно изложенным тогдашним помощником начальника оперштаба Ленфронта В.
М. Ганкевичем в книге "Конец группы "Норд" (Лениздат, 1965, стр. 205 и др. )
и оперсводками Совинформбюро, опубликованными в армейской газете
"Суворовский натиск" в 1945 г., и другими источниками.
Только в Чехословакии еще сопротивлялась в эти дни последняя немецкая
группировка генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Ведера. Но и
ее остатки сдались К 16 мая 1945 года, находясь в Чехословакии, я прочел в
армейской газете "Суворовский натиск" сводку Информбюро за 15 мая: "...
Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен". Это была
последняя в Отечественной войне "оперсводка Совинформбюро"!
В июле 1945 года с одним из эшелонов радостных победителей я через
Карпаты и Украину вернулся в родной Ленинград.
... 26 января 1945 года, к годовщине полного снятия блокады Ленинграда,
был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР:
"За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, мужество и
героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками в трудных условиях вражеской блокады, наградить город Ленинград
орденом Ленина".
Как и каждый ленинградец, участвовавший в защите родного города, я
счастлив, что кроме медали "За оборону Ленинграда" мне принадлежит и одна
миллионная часть этого высокого ордена.
В родном городе я застал отца поздоровевшим и энергично работающим[2].
[1] В эти же дни в Чехословакии нами был взят в плен вместе со штабом
своей фашистской части изменник Родины, бывший генерал Власов. Он пытался
ускользнуть в американскую зону, но не ушел от заслуженной кары.
[2] Второй инфаркт, после долгих месяцев пребывания в госпитале, отец
выдержал. И потом до 1951 г. упорно и настойчиво трудился в своей
военно-инженерной и архитектурной областях. До конца дней он был начальником
кафедры Высшего инженерно-технического училища Военно-Морского Флота, строил
портовые сооружения. Он был первым инициатором основания Института
организации и механизации строительных работ, а впоследствии его директором.
Будучи выдающимся русским и советским инженером-строителем, воспитателем
нескольких поколений кадров военных и гражданских инженеров-строителей, он
написал ряд научных трудов, занимал много должностей.
Умер он внезапно 6 августа 1951 г., в разгаре работы в деревне Ушково
(б. Тюрисевя) на Карельском перешейке, хорошо знакомой мне по боям 1944 г. Я
похоронил отца в юбилейный день его семидесятипятилетия на Серафимовском
кладбище в Ленинграде, под торжественный орудийный и ружейный салют,
отданный в его честь курсантами училища Военно-Морского Флота, инженерами,
артиллеристами, доставившими его прах к кладбищу на орудийном лафете и
сопровождавшими его, растянувшись на полтора километра, траурной колонной
через Ленинград... Это было 8 августа 1951 г.
 8 июля 1945 г. ленинградцы встречали гвардейцев стрелкового корпуса
генерала Н. П. Симоняка, вернувшихся из Германии.
8 июля, совершая в подаренном мне маршалом Р. Я. Малиновским маленьком
автомобиле поездку с И. Г. Эренбургом и его женой вокруг бывшего переднего
края -- в Петергоф (Петродворец), Красное Село, Пушкин, -- я перед
Пулковскими высотами встретился с колоннами наших, возвращающихся с победой
в Ленинград, весело марширующих, овеянных славой и награжденных орденами
гвардейцев. Среди них я увидел и полковника Н. Г. Арсеньева, которого, как и
других, ликующие ленинградские девушки забрасывали цветами. Ликовал весь
город в этот и в следующие дни...
8 июля 1945 г. ленинградцы встречали гвардейцев стрелкового корпуса
генерала Н. П. Симоняка, вернувшихся из Германии.
8 июля, совершая в подаренном мне маршалом Р. Я. Малиновским маленьком
автомобиле поездку с И. Г. Эренбургом и его женой вокруг бывшего переднего
края -- в Петергоф (Петродворец), Красное Село, Пушкин, -- я перед
Пулковскими высотами встретился с колоннами наших, возвращающихся с победой
в Ленинград, весело марширующих, овеянных славой и награжденных орденами
гвардейцев. Среди них я увидел и полковника Н. Г. Арсеньева, которого, как и
других, ликующие ленинградские девушки забрасывали цветами. Ликовал весь
город в этот и в следующие дни...
Популярность: 30, Last-modified: Fri, 25 Jan 2008 17:49:51 GmT