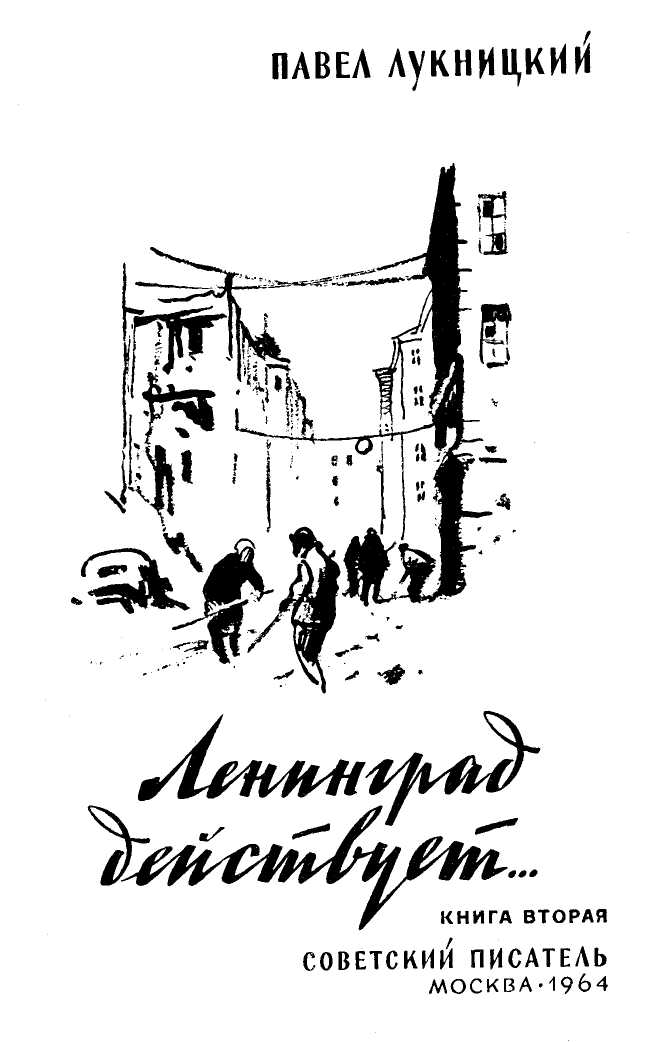
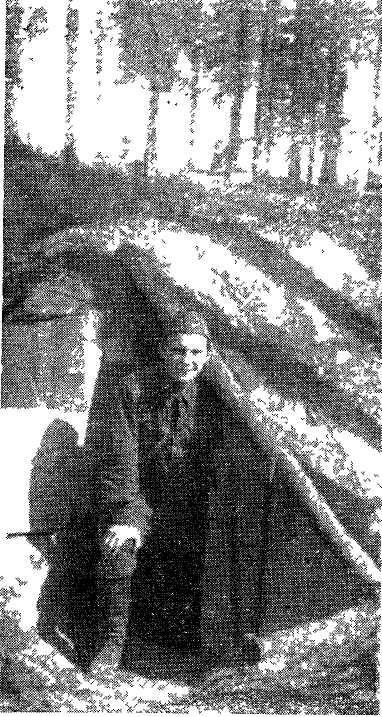 П. Н. Лукницкий в блиндаже на передовых позициях 81-го стрелкового
полка 54-й стрелковой дивизии.
Июль 1941 года.
Фронтовой дневник Книга вторая
(март 1942 года -- февраль 1943 года)
Эта книга -- продолжение фронтового дневника участника героической
обороны Ленинграда.
Она охватывает период с марта 1942 года по февраль 1943 года, когда
день за днем автор вел свой подробный дневник, описывая жизнь и быт
защитников блокированного Ленинграда: действия армейских частей, авиации,
Балтфлота и Ладожской флотилии. Боевой работе разведчиков в тылу врага,
снайперов, пехотинцев, саперов, танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков,
транспортников, вдохновенному труду рабочих и интеллигенции города,
колхозников пригородных хозяйств, снабженцев, организующей и руководящей
роли партийных организаций в обороне города, всему, что характеризует
героизм ленинградцев в тот тяжелейший год Отечественной войны, -- посвящена
эта книга.
ОТ АВТОРА
С начала Великой Отечественной войны до разгрома гитлеровцев на всей
территории Ленинградской области я находился в Ленинграде и в обороняющих
его армиях в качестве специального военного корреспондента ТАСС по
Ленинградскому и Волховскому фронтам. Помня о своем назначении писателя, я
всю войну ежедневно вел подробный дневник.
Часть записей, охватывающих период с 22 июня
1941 года до начала марта 1942 года, опубликована в книге под названием
"Ленинград действует... ", изданной "Советским писателем" в 1961 году.
Настоящая книга -- вторая, выпускаемая под тем же названием, охватывает
период, начинающийся с весны
1942 года, когда ленинградское население и действующие армии укрепляли
оборону города, чтобы превратить его в неприступную крепость. В этот период
войсками Ленинградского и Волховского фронтов был сорван штурм города
гитлеровцами, а затем -- в январе 1943 года -- прорвано кольцо вражеской
блокады. Книга заканчивается главой, описывающей приход первого прямого
поезда с Большой земли.
За этой книгой последует третья, завершающая труд автора, в которой
будут описаны события 1943-- 1944 годов -- до полного снятия блокады
Ленинграда, изгнания разгромленных гитлеровцев за пределы Ленинградской
области и начало восстановления героя-города, в значительной степени
разрушенного войной.
Работая над книгой и стремясь к максимальной исторической точности, я
тщательно выверил мои записи, попутно анализируя документы, сохранившиеся в
моем личном архиве, и всю доступную мне, относящуюся к обороне Ленинграда,
литературу. Выражаю искреннюю признательность за ценные советы и указания
многочисленным моим читателям -- прежде всего бывшим защитникам Ленинграда.
Обращаюсь к ним с просьбой сообщать мне и в дальнейшем все, что может
оказаться полезным для уточнения публикуемых мною фактов и для работы,
которая мне предстоит в дальнейшем.
Следует сказать несколько слов о методе работы над дневником и
построения этой книги.
Желая дать читателям необходимую связь между записанными мною фактами и
событиями, а тем самым приблизиться к созданию общей картины обороны
Ленинграда, я в некоторых главах пользуюсь курсивным шрифтом. Им кратко
изложены не включенные в книгу записи дневника либо то, что в момент событий
не могло быть мне известным, а также все, что записано в последующие годы
войны и в послевоенное время о тех событиях, о которых я здесь рассказываю.
Этот курсив, однако, такой же элемент повествования, как и прочий
текст. Оба они "равноправны", оба в своем единстве определяют отвечающий
замыслу автора жанр книги.
Естественно, что в записях дневника даны географические названия,
существовавшие в годы Отечественной войны. Книга иллюстрирована
фотографиями, снятыми автором1, и схемами, составленными им по
опубликованным официальным источникам. В конце книги дан список сокращений
военных терминов, общепринятых в годы Отечественной войны.
1942 год был для нашей страны одним из тяжелейших периодов войны.
Описывая отдельно боевые схватки и крупные боевые операции -- от усилий
одиночного бойца до сражений, проводимых соединения-
1 Кроме трех, отмеченных звездочкой.
ми, армиями, фронтами, -- я хочу, чтоб читатель представил себе, как
Советская Армия, еще не имевшая в 1941 году опыта ведения всенародной войны,
постепенно этот опыт приобретала Неуклонно наращивая в труднейших условиях
свою мощь и методы борьбы с врагом, становясь неодолимой для него силой,
наша армия, в частности, осуществила в январе 1943 года прорыв блокады и
стала способной позже перейти е решительное наступление -- дойдя до Берлина,
сокрушить гитлеризм.
Анализируя свой дневник, я с полной отчетливостью вижу, как сквозь все
события войны красной нитью проходит решающая, сплачивающая и ведущая народ
роль партийных организаций армии, ленинградского партийного руководства и
Центрального Комитета КПСС.
Изучая изданную в наши дни авторитетную военную литературу1, я хорошо
представляю себе общую обстановку на фронтах Отечественной войны,
создавшуюся к январю 1942 года и в следующие месяцы.
Незадолго перед тем Красная Армия, перейдя в контрнаступление,
разгромила и отбросила от Москвы сильнейшие группировки противника, сорвала
гитлеровские планы полного окружения Ленинграда и прорыва на Кавказ. Не
знавшая дотоле поражений нигде в Европе, чудовищная военная машина Гитлера
впервые была остановлена и, получив сокрушающие удары, откинута далеко на
запад.
В январе Красная Армия, двинув вперед девять фронтов и флоты, на линии,
составлявшей почти две тысячи километров, развернула общее наступление. За
четыре зимних месяца с начала 1942 года враг, потеряв на различных участках
фронта до пятидесяти дивизий, был отброшен где на сто, а где и на четыреста
километров. Красная Армия освободила больше шестидесяти городов и около
одиннадцати тысяч других населенных пунктов. Миллионы советских людей
1 В частности, "Историю Великой Отечественной войны Советского Coюзa
1941--1915". См., например, т. 2, стр. 336--338 и 356--361.
были вызволены из фашистской неволи. Московская и Тульская области
оказались очищенными полностью, а семь других областей и Керченский
полуостров -- частично.
"Сопротивление русских сломало хребет германских армий!" -- заявил
Черчилль, а немецкий военный историк Типпельскирх впоследствии писал: "Для
дальнейшего ведения боевых действий исход этой зимней кампании имел
губительные последствия... "1
Это помогло нам завершить перевод экономики страны на военные рельсы,
наладить работу в тылах страны, приостановить эвакуацию на восток
промышленных предприятий и населения, энергично помочь партизанам в борьбе с
гитлеровцами на захваченной ими территории.
Современные наши военные историки в своих исследованиях уделяют,
однако, и большое внимание тем недостаткам и ошибкам руководства Красной
Армии, какие имелись и были совершены в то время.
"... Первый опыт организации и проведения стратегического
контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не
обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного
Главнокомандования, командования фронтов и армий.
Ставка Верховного Главнокомандования, переоценив успехи советских
войск, достигнутые ими в контрнаступлении, предприняла наступление на всех
важнейших направлениях, что привело к распылению стратегических резервов...
"2
Историки указывают также на то, что командование и штабы не имели
достаточного опыта в органи-
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941--1945", т. 2, стр. 358, со
ссылками на иностранные источники Здесь и везде далее в книге ссылки на
источники и примечания -- автора.
2 Там же, стр. 359.
зации наступательных операций и боев, на отсутствие крупных
механизированных и танковых соединений, на недостаточную целеустремленность
в использовании при наступлении военно-воздушных сил и на не всегда умелое
обращение с наступающими резервами: "маршевое пополнение нередко бросали в
бой с ходу, без необходимой подготовки"1.
И хотя нашими войсками было нарушено взаимодействие между немецкими
группировками "Центр" и "Север", созданы крупные плацдармы, такие, например,
как в районе Барвенкова и в районе Любани, взята Лозовая, -- Красной Армии
не удалось полностью выполнить поставленные перед ней задачи: захватить на
Павлоградском направлении переправы через Днепр, освободить Харьков,
Новгород, уничтожить окруженные вражеские группировки в районах Старой
Руссы, Демянска и потом снять с Ленинграда кольцо блокады. Здесь, несмотря
на большие потери в рядах противника (как и в Крыму, где немцами была
захвачена Феодосия и тем сорвана наша помощь блокированному Севастополю со
стороны Керчи), нас постигла серьезная неудача, о которой в "Истории Великой
Отечественной войны" сказано так:
"... Только в результате недочетов в организации наступления,
допущенных командованием Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского
фронта, крупная вражеская группировка, оборонявшая район Кириши -- Чудово --
Любань, избежала окружения и уничтожения. Окруженной оказалась 2-я Ударная
армия, войскам которой пришлось с тяжелыми боями пробиваться через узкую
горловину у основания прорыва на соединение с главными силами Волховской
оперативной группы Ленинградского фронта... "2
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 -- 1945", т. II, стр 359.
2 Там же, стр. 336.
К лету 1942 года богатый опыт прошедших наступательных операций (в том
числе -- ошибок и недочетов) нашим командованием был глубоко проанализирован
и обобщен. Во время относительного затишья на фронте, подготовляясь к летним
боям, войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов
напряженно учились и совершенствовали свое боевое мастерство.
Все сказанное здесь так или иначе нашло свое отражение в записях моего
дневника.
В заключение об этой книге мне хочется сказать словами активного
участника борьбы с гитлеризмом, польского писателя Игоря Неверли,
отнесенными им к его собственной работе:
"Документ? Согласен. Но литературный документ... Задача искусства --
вызвать переживание этого явления, взволновать так, чтоб острее и полнее
видеть действительность... "
Именно к этому, в меру моих сил и возможностей, я стремился, готовя мой
дневник к печати. Удалось ли мне это, -- пусть судит читатель!
Ноябрь 1963 г. Москва
Герой -- это человек, который в решительный момент делает то, что нужно
сделать в интересах человеческого общества...
Юлиус Фучик
П. Н. Лукницкий в блиндаже на передовых позициях 81-го стрелкового
полка 54-й стрелковой дивизии.
Июль 1941 года.
Фронтовой дневник Книга вторая
(март 1942 года -- февраль 1943 года)
Эта книга -- продолжение фронтового дневника участника героической
обороны Ленинграда.
Она охватывает период с марта 1942 года по февраль 1943 года, когда
день за днем автор вел свой подробный дневник, описывая жизнь и быт
защитников блокированного Ленинграда: действия армейских частей, авиации,
Балтфлота и Ладожской флотилии. Боевой работе разведчиков в тылу врага,
снайперов, пехотинцев, саперов, танкистов, летчиков, артиллеристов, моряков,
транспортников, вдохновенному труду рабочих и интеллигенции города,
колхозников пригородных хозяйств, снабженцев, организующей и руководящей
роли партийных организаций в обороне города, всему, что характеризует
героизм ленинградцев в тот тяжелейший год Отечественной войны, -- посвящена
эта книга.
ОТ АВТОРА
С начала Великой Отечественной войны до разгрома гитлеровцев на всей
территории Ленинградской области я находился в Ленинграде и в обороняющих
его армиях в качестве специального военного корреспондента ТАСС по
Ленинградскому и Волховскому фронтам. Помня о своем назначении писателя, я
всю войну ежедневно вел подробный дневник.
Часть записей, охватывающих период с 22 июня
1941 года до начала марта 1942 года, опубликована в книге под названием
"Ленинград действует... ", изданной "Советским писателем" в 1961 году.
Настоящая книга -- вторая, выпускаемая под тем же названием, охватывает
период, начинающийся с весны
1942 года, когда ленинградское население и действующие армии укрепляли
оборону города, чтобы превратить его в неприступную крепость. В этот период
войсками Ленинградского и Волховского фронтов был сорван штурм города
гитлеровцами, а затем -- в январе 1943 года -- прорвано кольцо вражеской
блокады. Книга заканчивается главой, описывающей приход первого прямого
поезда с Большой земли.
За этой книгой последует третья, завершающая труд автора, в которой
будут описаны события 1943-- 1944 годов -- до полного снятия блокады
Ленинграда, изгнания разгромленных гитлеровцев за пределы Ленинградской
области и начало восстановления героя-города, в значительной степени
разрушенного войной.
Работая над книгой и стремясь к максимальной исторической точности, я
тщательно выверил мои записи, попутно анализируя документы, сохранившиеся в
моем личном архиве, и всю доступную мне, относящуюся к обороне Ленинграда,
литературу. Выражаю искреннюю признательность за ценные советы и указания
многочисленным моим читателям -- прежде всего бывшим защитникам Ленинграда.
Обращаюсь к ним с просьбой сообщать мне и в дальнейшем все, что может
оказаться полезным для уточнения публикуемых мною фактов и для работы,
которая мне предстоит в дальнейшем.
Следует сказать несколько слов о методе работы над дневником и
построения этой книги.
Желая дать читателям необходимую связь между записанными мною фактами и
событиями, а тем самым приблизиться к созданию общей картины обороны
Ленинграда, я в некоторых главах пользуюсь курсивным шрифтом. Им кратко
изложены не включенные в книгу записи дневника либо то, что в момент событий
не могло быть мне известным, а также все, что записано в последующие годы
войны и в послевоенное время о тех событиях, о которых я здесь рассказываю.
Этот курсив, однако, такой же элемент повествования, как и прочий
текст. Оба они "равноправны", оба в своем единстве определяют отвечающий
замыслу автора жанр книги.
Естественно, что в записях дневника даны географические названия,
существовавшие в годы Отечественной войны. Книга иллюстрирована
фотографиями, снятыми автором1, и схемами, составленными им по
опубликованным официальным источникам. В конце книги дан список сокращений
военных терминов, общепринятых в годы Отечественной войны.
1942 год был для нашей страны одним из тяжелейших периодов войны.
Описывая отдельно боевые схватки и крупные боевые операции -- от усилий
одиночного бойца до сражений, проводимых соединения-
1 Кроме трех, отмеченных звездочкой.
ми, армиями, фронтами, -- я хочу, чтоб читатель представил себе, как
Советская Армия, еще не имевшая в 1941 году опыта ведения всенародной войны,
постепенно этот опыт приобретала Неуклонно наращивая в труднейших условиях
свою мощь и методы борьбы с врагом, становясь неодолимой для него силой,
наша армия, в частности, осуществила в январе 1943 года прорыв блокады и
стала способной позже перейти е решительное наступление -- дойдя до Берлина,
сокрушить гитлеризм.
Анализируя свой дневник, я с полной отчетливостью вижу, как сквозь все
события войны красной нитью проходит решающая, сплачивающая и ведущая народ
роль партийных организаций армии, ленинградского партийного руководства и
Центрального Комитета КПСС.
Изучая изданную в наши дни авторитетную военную литературу1, я хорошо
представляю себе общую обстановку на фронтах Отечественной войны,
создавшуюся к январю 1942 года и в следующие месяцы.
Незадолго перед тем Красная Армия, перейдя в контрнаступление,
разгромила и отбросила от Москвы сильнейшие группировки противника, сорвала
гитлеровские планы полного окружения Ленинграда и прорыва на Кавказ. Не
знавшая дотоле поражений нигде в Европе, чудовищная военная машина Гитлера
впервые была остановлена и, получив сокрушающие удары, откинута далеко на
запад.
В январе Красная Армия, двинув вперед девять фронтов и флоты, на линии,
составлявшей почти две тысячи километров, развернула общее наступление. За
четыре зимних месяца с начала 1942 года враг, потеряв на различных участках
фронта до пятидесяти дивизий, был отброшен где на сто, а где и на четыреста
километров. Красная Армия освободила больше шестидесяти городов и около
одиннадцати тысяч других населенных пунктов. Миллионы советских людей
1 В частности, "Историю Великой Отечественной войны Советского Coюзa
1941--1915". См., например, т. 2, стр. 336--338 и 356--361.
были вызволены из фашистской неволи. Московская и Тульская области
оказались очищенными полностью, а семь других областей и Керченский
полуостров -- частично.
"Сопротивление русских сломало хребет германских армий!" -- заявил
Черчилль, а немецкий военный историк Типпельскирх впоследствии писал: "Для
дальнейшего ведения боевых действий исход этой зимней кампании имел
губительные последствия... "1
Это помогло нам завершить перевод экономики страны на военные рельсы,
наладить работу в тылах страны, приостановить эвакуацию на восток
промышленных предприятий и населения, энергично помочь партизанам в борьбе с
гитлеровцами на захваченной ими территории.
Современные наши военные историки в своих исследованиях уделяют,
однако, и большое внимание тем недостаткам и ошибкам руководства Красной
Армии, какие имелись и были совершены в то время.
"... Первый опыт организации и проведения стратегического
контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не
обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного
Главнокомандования, командования фронтов и армий.
Ставка Верховного Главнокомандования, переоценив успехи советских
войск, достигнутые ими в контрнаступлении, предприняла наступление на всех
важнейших направлениях, что привело к распылению стратегических резервов...
"2
Историки указывают также на то, что командование и штабы не имели
достаточного опыта в органи-
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941--1945", т. 2, стр. 358, со
ссылками на иностранные источники Здесь и везде далее в книге ссылки на
источники и примечания -- автора.
2 Там же, стр. 359.
зации наступательных операций и боев, на отсутствие крупных
механизированных и танковых соединений, на недостаточную целеустремленность
в использовании при наступлении военно-воздушных сил и на не всегда умелое
обращение с наступающими резервами: "маршевое пополнение нередко бросали в
бой с ходу, без необходимой подготовки"1.
И хотя нашими войсками было нарушено взаимодействие между немецкими
группировками "Центр" и "Север", созданы крупные плацдармы, такие, например,
как в районе Барвенкова и в районе Любани, взята Лозовая, -- Красной Армии
не удалось полностью выполнить поставленные перед ней задачи: захватить на
Павлоградском направлении переправы через Днепр, освободить Харьков,
Новгород, уничтожить окруженные вражеские группировки в районах Старой
Руссы, Демянска и потом снять с Ленинграда кольцо блокады. Здесь, несмотря
на большие потери в рядах противника (как и в Крыму, где немцами была
захвачена Феодосия и тем сорвана наша помощь блокированному Севастополю со
стороны Керчи), нас постигла серьезная неудача, о которой в "Истории Великой
Отечественной войны" сказано так:
"... Только в результате недочетов в организации наступления,
допущенных командованием Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского
фронта, крупная вражеская группировка, оборонявшая район Кириши -- Чудово --
Любань, избежала окружения и уничтожения. Окруженной оказалась 2-я Ударная
армия, войскам которой пришлось с тяжелыми боями пробиваться через узкую
горловину у основания прорыва на соединение с главными силами Волховской
оперативной группы Ленинградского фронта... "2
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 -- 1945", т. II, стр 359.
2 Там же, стр. 336.
К лету 1942 года богатый опыт прошедших наступательных операций (в том
числе -- ошибок и недочетов) нашим командованием был глубоко проанализирован
и обобщен. Во время относительного затишья на фронте, подготовляясь к летним
боям, войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов
напряженно учились и совершенствовали свое боевое мастерство.
Все сказанное здесь так или иначе нашло свое отражение в записях моего
дневника.
В заключение об этой книге мне хочется сказать словами активного
участника борьбы с гитлеризмом, польского писателя Игоря Неверли,
отнесенными им к его собственной работе:
"Документ? Согласен. Но литературный документ... Задача искусства --
вызвать переживание этого явления, взволновать так, чтоб острее и полнее
видеть действительность... "
Именно к этому, в меру моих сил и возможностей, я стремился, готовя мой
дневник к печати. Удалось ли мне это, -- пусть судит читатель!
Ноябрь 1963 г. Москва
Герой -- это человек, который в решительный момент делает то, что нужно
сделать в интересах человеческого общества...
Юлиус Фучик
 На площади у Смольного в первый день плановой
эвакуации ленинградцев на автобусах.
22 января 1942 года.
победу, и любят жизнь не меньше, чем все прочие люди, а гораздо острее
и глубже. Как старое вино -- они крепки.
Тем выше, тем светлее достоинство тех людей, которые и сейчас, все
пережив, остаются в Ленинграде по чувству долга и любви к родному городу.
"Я -- ленинградец!", "я -- ленинградка!" -- это звучит как марка лучшей
фирмы, не знающей конкуренции. Фирмы, вырабатывающей стальные, гордые души!
Неломающиеся. Негнущиеся. Неподкупные.
Сегодня Восьмое марта -- Международный женский день. И сегодня мысли
мои -- о женщине. Не об одной какой-нибудь, родной или близкой мне лично. А
обо всех ленинградских женщинах, заменивших здесь, в городе, ушедших на
фронт мужчин, да и о других, оказавшихся на фронте рядом с мужчинами...
Мысли мои об удивительной, неколебимо-стойкой, суровой в эти дни
женщине Ленинграда.
И потому, может быть, пристальней, чем всегда, я наблюдаю сейчас, как
живут, как трудятся и как сражаются с немцами наши женщины.
На улице Плеханова
Политорганизатор, а попросту -- девушка в ватнике, в шапке-ушанке, с
брезентовыми рукавицами, силится сжать слабыми руками обыкновенный,
воткнутый в грязный, заледенелый снег железный лом. Лицо девушки вместе с
шапкой-ушанкой обвязано заиндевелым шерстяным шарфом. Ее глубоко запавшие,
болезненно блестящие глаза упрямо-требовательны. Несколько других женщин,
закутанных во все теплое, стоят в двух шагах, сурово и молча глядят на нее:
поднимет она лом или не поднимет?
Улица похожа на горный, заваленный лавиной ледник. Грязный снег опал и
утрамбовался посередине, а по краям, над забытыми панелями, выгибается
шлейфами от окон вторых этажей. Проходы шириною в тропинку проделаны только
к воротам.
Эта девушка-политорганизатор пришла в домоуправление агитировать: всем
трудоспособным выйти на очистку ленинградской улицы. А улица погребена в
глубоких снегах. А кто нынче трудоспособен? Вместе с дворничихой девушка
обошла все квартиры: в двух обнаружила трупы умерших на днях людей ("Почему
не вывезены?" -- "А у кого ж сил хватит вывезти?"); в других квартирах --
полумертвые жильцы лежат на своих кроватях или жмутся вкруг накаленных
докрасна "буржуек"...
И все-таки пять-шесть женщин согласились выйти, собрались в
домоуправлении. Одна, пожилая и грубоватая, говорила за всех. Другие
молчали.
-- Подумаешь, -- агитировать! Мы и рады бы, да разве хватит нас,
маломощных, своротить эти горы?
И, отворачивая рукава, показывает свои худые, как плети, руки:
Разве такими поднимешь лом?
А я подниму, покажу пример! -- сказала политорганизатор.
Где тебе! У тебя руки похилей наших!.. Понимаем, конечно... Тебя, дуру,
райком послал!.. А как звать тебя?
Зовут Валентиной... Фамилия моя -- Григорова.
Партийная?
-- Комсомолка я... Девятнадцать мне!..
-- Как же ты выжила, доченька? -- Голос женщины вдруг мягчеет. --
Посылают тоже! Да ты знаешь, сколько мы, бабы, тут за зиму наворочали?
Пример нам подавать нечего, сами бы тебе подали, кабы силушка! А ее нет!..
В темном уголке домоуправления горит свечка. Лица истощенных женщин
остры, костисты, изрезаны глубокими тенями. Я сижу в другом углу длинной
полуподвальной комнаты, под стрелкой, указывающей на ступеньки в подвал, и
криво намалеванной надписью: "Бомбоубежище". Меня, неведомого им ("ну
какой-то командир, с фронта!"), не замечают.
На площади у Смольного в первый день плановой
эвакуации ленинградцев на автобусах.
22 января 1942 года.
победу, и любят жизнь не меньше, чем все прочие люди, а гораздо острее
и глубже. Как старое вино -- они крепки.
Тем выше, тем светлее достоинство тех людей, которые и сейчас, все
пережив, остаются в Ленинграде по чувству долга и любви к родному городу.
"Я -- ленинградец!", "я -- ленинградка!" -- это звучит как марка лучшей
фирмы, не знающей конкуренции. Фирмы, вырабатывающей стальные, гордые души!
Неломающиеся. Негнущиеся. Неподкупные.
Сегодня Восьмое марта -- Международный женский день. И сегодня мысли
мои -- о женщине. Не об одной какой-нибудь, родной или близкой мне лично. А
обо всех ленинградских женщинах, заменивших здесь, в городе, ушедших на
фронт мужчин, да и о других, оказавшихся на фронте рядом с мужчинами...
Мысли мои об удивительной, неколебимо-стойкой, суровой в эти дни
женщине Ленинграда.
И потому, может быть, пристальней, чем всегда, я наблюдаю сейчас, как
живут, как трудятся и как сражаются с немцами наши женщины.
На улице Плеханова
Политорганизатор, а попросту -- девушка в ватнике, в шапке-ушанке, с
брезентовыми рукавицами, силится сжать слабыми руками обыкновенный,
воткнутый в грязный, заледенелый снег железный лом. Лицо девушки вместе с
шапкой-ушанкой обвязано заиндевелым шерстяным шарфом. Ее глубоко запавшие,
болезненно блестящие глаза упрямо-требовательны. Несколько других женщин,
закутанных во все теплое, стоят в двух шагах, сурово и молча глядят на нее:
поднимет она лом или не поднимет?
Улица похожа на горный, заваленный лавиной ледник. Грязный снег опал и
утрамбовался посередине, а по краям, над забытыми панелями, выгибается
шлейфами от окон вторых этажей. Проходы шириною в тропинку проделаны только
к воротам.
Эта девушка-политорганизатор пришла в домоуправление агитировать: всем
трудоспособным выйти на очистку ленинградской улицы. А улица погребена в
глубоких снегах. А кто нынче трудоспособен? Вместе с дворничихой девушка
обошла все квартиры: в двух обнаружила трупы умерших на днях людей ("Почему
не вывезены?" -- "А у кого ж сил хватит вывезти?"); в других квартирах --
полумертвые жильцы лежат на своих кроватях или жмутся вкруг накаленных
докрасна "буржуек"...
И все-таки пять-шесть женщин согласились выйти, собрались в
домоуправлении. Одна, пожилая и грубоватая, говорила за всех. Другие
молчали.
-- Подумаешь, -- агитировать! Мы и рады бы, да разве хватит нас,
маломощных, своротить эти горы?
И, отворачивая рукава, показывает свои худые, как плети, руки:
Разве такими поднимешь лом?
А я подниму, покажу пример! -- сказала политорганизатор.
Где тебе! У тебя руки похилей наших!.. Понимаем, конечно... Тебя, дуру,
райком послал!.. А как звать тебя?
Зовут Валентиной... Фамилия моя -- Григорова.
Партийная?
-- Комсомолка я... Девятнадцать мне!..
-- Как же ты выжила, доченька? -- Голос женщины вдруг мягчеет. --
Посылают тоже! Да ты знаешь, сколько мы, бабы, тут за зиму наворочали?
Пример нам подавать нечего, сами бы тебе подали, кабы силушка! А ее нет!..
В темном уголке домоуправления горит свечка. Лица истощенных женщин
остры, костисты, изрезаны глубокими тенями. Я сижу в другом углу длинной
полуподвальной комнаты, под стрелкой, указывающей на ступеньки в подвал, и
криво намалеванной надписью: "Бомбоубежище". Меня, неведомого им ("ну
какой-то командир, с фронта!"), не замечают.
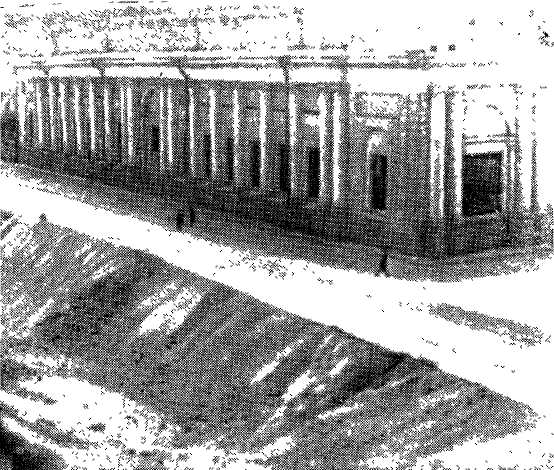 Набережная канала Грибоедова
от снега очищена.
Весна 1942 года.
Политорганизатор Валя Григорова уговаривает женщин:
-- Ведь надо же! Вы же, как и все, -- защитницы Ленинграда!
С нею не спорят. С нею соглашаются: "Надо!" И все-таки: "Рады бы, да
сил нет!"
В углу, под развешанным на стене пожарным инвентарем, стоят лопаты и
ломы.
-- Пойдемте! -- неожиданно для себя говорю я, подходя к женщинам. -- Я
возьму два лома, вы -- по одному. Товарищ Григорова, пошли!..
Политорганизатор Валя Григорова радостно восклицает:
-- Спасибо, товарищ командир! Пошли!..
И все мы, будто и не было спора, с лопатами и ломами выходим гуськом на
улицу...
-- ... А ты все-таки пример нам показывай, показывай! -- говорит Вале
та, грубоватая женщина -- Товарищ военный поколотил-поколотил, да ему что?
Ведь он не у нас живет. Как зашел случайно, так и уйдет. Не его эта улица --
наша. А нам с тобою тут на полгода работы хватит! Покажи свою доблесть,
Валюшка!
Политорганизатор Валя Григорова, ударив ломом отчаянно, с десяток раз,
выдохлась, как и я. А теперь стоит, обжав лом брезентовыми рукавичками, и
над печально-упрямыми глазами ее -- капельки пота.
Та женщина долго, пристально, пристрастно всматривается в ее лицо и
вдруг решительно берется за едва удерживаемый Валей лом:
-- Давай вместе, доченька!
Они силятся вдвоем поднять этот проклятый лом. Но и вдвоем у них не
хватает сил.
-- А ну, бабоньки, подходите! -- решительно говорит женщина. -- Вдвоем
не можем, так впятером осилим! Надо ж нам хоть этой железякой немца побить,
распроэтакого!.. А ну, дружно!.. Не горюй, девочка!
И десять женских рук хватаются за один лом, поднимают его, неловко
ударяют им по льду. Женщинам тесно, они мешают одна другой.
-- По трое, по трое! -- командует женщина. -- Женя, Шура, да отойдите
вы, за другой беритесь!.. А мы -- втроем!..
... Да! Сегодня я своими глазами вижу, как начинается очистка еще одной
улицы Ленинграда.
Маленькими группами собираются женщины у каждых ворот этой узкой улицы
Плеханова. И шеренга их, мучительно, но упрямо работающих, уходит в даль, в
просвет улицы.
А на больших, широких проспектах Ленинграда трудятся уже сотни и тысячи
людей -- все больше женщины!
Я глядел на этих женщин и повторял про себя на днях слышанные по радио
или читанные в газете стихи Ольги Берггольц:
... И если чем нибудь могу гордиться, То, как и все друзья мои вокруг,
Горжусь, что до сих пор могу трудиться, Не складывая ослабевших рук Горжусь,
что в эти дни, как никогда, Мы знали вдохновение труда..
Здесь, в холоде и мраке блокированного Ленинграда, мы любим
мужественные стихотворения Ольги Берггольц1. Поэтессы блокадного Ленинграда
Ольга Берггольц и Вера Инбер -- в эти дни наша гордость! Умерла от голода
Надежда Рославлева, но работает в летных частях Людмила Попова, слагает
стихи Елена Вечтомова. Наряду с поэтами и писателями -- Н. Тихоновым, А.
Прокофьевым, Вс. Вишневским, В. Саяновым, Б. Лихаревым, Вс Азаровым, В.
Шефнером, М. Дудиным, И. Авраменко, А. Решетовым и многими, многими другими
-- свой труд влагают, как оружие в душу ленинградцев, и наши, оставшиеся
здесь писательницы: В. Кетлинская, Е. Катерли, А. Голубева. А наши
художницы, наши артистки, -- разве возможно перечислить всех
представительниц искусства, не пожелавших уехать из Ленинграда?
Л -- ленинградка
Две женщины -- молодая и пожилая -- тянут по улице саночки, тяжело
нагруженные дровами. Они потрудились сегодня, раскалывая и перепиливая
бревна и обломки досок.
Гул, грохот, звон стекол. Падает неподалеку снаряд. Громкоговоритель на
перекрестке улиц внушительно повторяет: "Артиллерийский обстрел района
продолжается. Населению укрыться!"
[*] 1 Эти написанные в
январе или в феврале стихотворные строки вошли в сборник стихов О. Берггольц
"Ленинградская тетрадь" -- одну из первых "блокадных", изданных осенью 1942
года книжек ленинградских поэтов.
"Населению укрыться!" -- настойчиво повторяет громкоговоритель. Женщины
останавливаются: -- В подъезд зайти, что ли?
-- А санки как?
-- Здесь оставим, -- кто их возьмет!
Еще один снаряд разрывается в соседнем квартале. Женщины
прислушиваются. Стоят. Спокойно и неторопливо обсуждают: зайти им в подъезд
или не заходить?
А твоей Кате тоже увеличили? -- неожиданно опрашивает молодая, та, что
в ватной куртке и (ватных брюках.
А как же... Она на оборонительных... Нам теперь хорошо... Вот только,
думается, лучше б мукой давали. Хлеба-то не почувствуешь, а мукой -- я бы
пирожки делала, все, знаешь, разнообразие.
Забыв о причине своей остановки, женщины горячо обсуждают, что еще
можно бы сделать, если б норму хлеба выдавали мукой.
Обстрел продолжается. Разговор стоящих у саночек женщин -- тоже.
Внезапно молодая спохватывается:
Да чего же мы стоим-то?
А стреляет он...
Пойдем, ладно! -- махнув на звук какого-то разрыва, донесшийся от
середины квартала, произносит молодая.
Пойдем, правда! Все равно! -- И, взявшись за петлю веревки, женщины
неторопливо тянут саночки дальше...
Идут прохожие. Стоит у ворот, опираясь на лопату, только дежурная ПВО,
задумчиво смотрит вдоль улицы, и в глазах ее скучающее выражение...
То, что в других городах вызвало бы страх и уныние, -- здесь, в
привычном ко всему Ленинграде, вросло в быт, вроде как скверная, но
привычная особенность климата.
Девушка-письмоносец поднимается с тяжелой сумкой по лестнице
пятиэтажного дома. В этот дом попало за время войны уже три снаряда. Две
квартиры разбиты, третья лишилась маленькой, угловой комна-
ты. Несколько снарядов упали во двор и несколько вокруг дома. А он
стоит, так же как тысячи других ленинградских жилых домов. В нем много
пустых квартир, но немало и населенных -- теми жильцами, которые никуда из
родного города не захотели уехать.
Все они близко перезнакомились, сдружились, все ревниво следят за
порядком в доме.
Девушка-письмоносец стучится в квартиру пятого этажа:
Марья Васильевна, вам письмо из Свердловска. У вас кто там: сын или
дочка?
Нет, милая, просто друзья!.. -- отвечает Марья Васильевна. -- А вы что
ж это в такой час ходите?
А в какой такой час?
Да смотрите, как он кладет! Вот только что -- из окна смотрела -- один
разорвался у перекрестка...
А, обстрел-то?.. Так мне ж некогда! Сколько почты разнести надо...
Дверь захлопывается. Письмоносец стучит в другие квартиры. Одна из
раскрывшихся дверей выпускает на лестницу разлетающийся мелодичными
всплесками вальс Шопена -- в той квартире школьница Лена каждый день
практикуется в игре "а рояле. Из другой квартиры доносится стук пишущей
машинки.
Обстрел продолжается.
Сегодня в дом попал четвертый за время войны снаряд. Он угодил во
второй этаж, над воротами, в ту квартиру, где живет одинокая старушка.
Квартира разбита. Старушка осталась жива -- она выходила на часок в магазин,
за хлебом. Вхожу в помещение домоуправления. Здесь, после осмотра разбитой
квартиры, обсуждают, в какую из пустующих квартир переселить старушку. В
обсуждении принимают участие Марья Васильевна и школьница Лена... Старушке
дадут необходимую мебель, одежду, посуду... Старушка сидит тут же,
благодарит заботливых женщин и время от времени закипает ненавистью: "Ох,
проклятый... Уж отмстится ему!.. Уж так отмстится!.. Я б сама ему... "
Старушечьи кулачки сжимаются. Глядя на старую, все на миг умолкают.
Управхоз говорит:
Ничего он не понимает в нашем народе... Все думает панику на нас
нагнать, а растит только злобу нашу... Глядите, бабку нашу, тихую, и ту в
какую ярость вогнал!..
Вогнал, вогнал, родимые! -- горячо подтверждает старушка. -- Близко вот
только мне с ним не встретиться... А уж встретились бы...
Если б только немец видел выражение глаз этих женщин при одной их мысли
о том, что сделала бы каждая из них, столкнувшись лицом к лицу с
опостылевшим, заклятым врагом!.. Если б только он видел! В липком страхе
уронил бы руки от угломера того дальнобойного орудия, какое приказано ему
навести на центральную улицу Ленинграда... Схватился бы за голову, понял бы,
что никогда не выбраться ему отсюда в свою Германию, сквозь ненавидящий его,
готовящий ему здесь могилу русский народ!..
Женщина Ленинграда!.. Прекрасны гневные чувства твои, прекрасно
величавое твое спокойствие!..
Если ты воин Красной Армии -- прекрасен твой ратный подвиг! Если ты
домашняя хозяйка -- прекрасен твой обыденный труд!
В милиции, в ПВО, в автобатах "Дороги жизни", в госпиталях, за рулем
газогенераторных автомобилей, на судостроительных верфях, где уже готовится
к навигации паровой и моторный флот, на сцене театра, в детских яслях, в
диспетчерской, отправляющей железнодорожный состав на станцию Борисова
Грива, -- везде, во всей многогранной жизни великого города, мы видим
вдохновенное женское лицо. В его чертах гордость за тот огромный,
самозабвенный труд, которым крепок и силен непобедимый город.
Артиллерийский обстрел продолжается? Да... Но разве может он помешать
доблестному труду, приближающему час грядущего торжества справедливости?
Женские бригады трудятся под обстрелом на очистке улиц. Снаряд падает
среди работниц. На их место встают другие. Работа не прекращается. Через
час-другой снаряд убивает еще нескольких. На их место встает третья группа
работниц, и работа по-прежнему продолжается. Никто не кричит, не бежит, не
плачет. Врываются в снег лопаты, очищается середина улицы... Скоро
улицы, дворы, дома Ленинграда будут чисты!
"Я -- ленинградка" -- это такая любовь к родному городу, которая за
время блокады разрослась в новое, неведомое в истории чувство: в нем забыто
все личное, в нем -- могучая гражданственность. В нем -- наша победа над
лютым, бездушным врагом!
Набережная канала Грибоедова
от снега очищена.
Весна 1942 года.
Политорганизатор Валя Григорова уговаривает женщин:
-- Ведь надо же! Вы же, как и все, -- защитницы Ленинграда!
С нею не спорят. С нею соглашаются: "Надо!" И все-таки: "Рады бы, да
сил нет!"
В углу, под развешанным на стене пожарным инвентарем, стоят лопаты и
ломы.
-- Пойдемте! -- неожиданно для себя говорю я, подходя к женщинам. -- Я
возьму два лома, вы -- по одному. Товарищ Григорова, пошли!..
Политорганизатор Валя Григорова радостно восклицает:
-- Спасибо, товарищ командир! Пошли!..
И все мы, будто и не было спора, с лопатами и ломами выходим гуськом на
улицу...
-- ... А ты все-таки пример нам показывай, показывай! -- говорит Вале
та, грубоватая женщина -- Товарищ военный поколотил-поколотил, да ему что?
Ведь он не у нас живет. Как зашел случайно, так и уйдет. Не его эта улица --
наша. А нам с тобою тут на полгода работы хватит! Покажи свою доблесть,
Валюшка!
Политорганизатор Валя Григорова, ударив ломом отчаянно, с десяток раз,
выдохлась, как и я. А теперь стоит, обжав лом брезентовыми рукавичками, и
над печально-упрямыми глазами ее -- капельки пота.
Та женщина долго, пристально, пристрастно всматривается в ее лицо и
вдруг решительно берется за едва удерживаемый Валей лом:
-- Давай вместе, доченька!
Они силятся вдвоем поднять этот проклятый лом. Но и вдвоем у них не
хватает сил.
-- А ну, бабоньки, подходите! -- решительно говорит женщина. -- Вдвоем
не можем, так впятером осилим! Надо ж нам хоть этой железякой немца побить,
распроэтакого!.. А ну, дружно!.. Не горюй, девочка!
И десять женских рук хватаются за один лом, поднимают его, неловко
ударяют им по льду. Женщинам тесно, они мешают одна другой.
-- По трое, по трое! -- командует женщина. -- Женя, Шура, да отойдите
вы, за другой беритесь!.. А мы -- втроем!..
... Да! Сегодня я своими глазами вижу, как начинается очистка еще одной
улицы Ленинграда.
Маленькими группами собираются женщины у каждых ворот этой узкой улицы
Плеханова. И шеренга их, мучительно, но упрямо работающих, уходит в даль, в
просвет улицы.
А на больших, широких проспектах Ленинграда трудятся уже сотни и тысячи
людей -- все больше женщины!
Я глядел на этих женщин и повторял про себя на днях слышанные по радио
или читанные в газете стихи Ольги Берггольц:
... И если чем нибудь могу гордиться, То, как и все друзья мои вокруг,
Горжусь, что до сих пор могу трудиться, Не складывая ослабевших рук Горжусь,
что в эти дни, как никогда, Мы знали вдохновение труда..
Здесь, в холоде и мраке блокированного Ленинграда, мы любим
мужественные стихотворения Ольги Берггольц1. Поэтессы блокадного Ленинграда
Ольга Берггольц и Вера Инбер -- в эти дни наша гордость! Умерла от голода
Надежда Рославлева, но работает в летных частях Людмила Попова, слагает
стихи Елена Вечтомова. Наряду с поэтами и писателями -- Н. Тихоновым, А.
Прокофьевым, Вс. Вишневским, В. Саяновым, Б. Лихаревым, Вс Азаровым, В.
Шефнером, М. Дудиным, И. Авраменко, А. Решетовым и многими, многими другими
-- свой труд влагают, как оружие в душу ленинградцев, и наши, оставшиеся
здесь писательницы: В. Кетлинская, Е. Катерли, А. Голубева. А наши
художницы, наши артистки, -- разве возможно перечислить всех
представительниц искусства, не пожелавших уехать из Ленинграда?
Л -- ленинградка
Две женщины -- молодая и пожилая -- тянут по улице саночки, тяжело
нагруженные дровами. Они потрудились сегодня, раскалывая и перепиливая
бревна и обломки досок.
Гул, грохот, звон стекол. Падает неподалеку снаряд. Громкоговоритель на
перекрестке улиц внушительно повторяет: "Артиллерийский обстрел района
продолжается. Населению укрыться!"
[*] 1 Эти написанные в
январе или в феврале стихотворные строки вошли в сборник стихов О. Берггольц
"Ленинградская тетрадь" -- одну из первых "блокадных", изданных осенью 1942
года книжек ленинградских поэтов.
"Населению укрыться!" -- настойчиво повторяет громкоговоритель. Женщины
останавливаются: -- В подъезд зайти, что ли?
-- А санки как?
-- Здесь оставим, -- кто их возьмет!
Еще один снаряд разрывается в соседнем квартале. Женщины
прислушиваются. Стоят. Спокойно и неторопливо обсуждают: зайти им в подъезд
или не заходить?
А твоей Кате тоже увеличили? -- неожиданно опрашивает молодая, та, что
в ватной куртке и (ватных брюках.
А как же... Она на оборонительных... Нам теперь хорошо... Вот только,
думается, лучше б мукой давали. Хлеба-то не почувствуешь, а мукой -- я бы
пирожки делала, все, знаешь, разнообразие.
Забыв о причине своей остановки, женщины горячо обсуждают, что еще
можно бы сделать, если б норму хлеба выдавали мукой.
Обстрел продолжается. Разговор стоящих у саночек женщин -- тоже.
Внезапно молодая спохватывается:
Да чего же мы стоим-то?
А стреляет он...
Пойдем, ладно! -- махнув на звук какого-то разрыва, донесшийся от
середины квартала, произносит молодая.
Пойдем, правда! Все равно! -- И, взявшись за петлю веревки, женщины
неторопливо тянут саночки дальше...
Идут прохожие. Стоит у ворот, опираясь на лопату, только дежурная ПВО,
задумчиво смотрит вдоль улицы, и в глазах ее скучающее выражение...
То, что в других городах вызвало бы страх и уныние, -- здесь, в
привычном ко всему Ленинграде, вросло в быт, вроде как скверная, но
привычная особенность климата.
Девушка-письмоносец поднимается с тяжелой сумкой по лестнице
пятиэтажного дома. В этот дом попало за время войны уже три снаряда. Две
квартиры разбиты, третья лишилась маленькой, угловой комна-
ты. Несколько снарядов упали во двор и несколько вокруг дома. А он
стоит, так же как тысячи других ленинградских жилых домов. В нем много
пустых квартир, но немало и населенных -- теми жильцами, которые никуда из
родного города не захотели уехать.
Все они близко перезнакомились, сдружились, все ревниво следят за
порядком в доме.
Девушка-письмоносец стучится в квартиру пятого этажа:
Марья Васильевна, вам письмо из Свердловска. У вас кто там: сын или
дочка?
Нет, милая, просто друзья!.. -- отвечает Марья Васильевна. -- А вы что
ж это в такой час ходите?
А в какой такой час?
Да смотрите, как он кладет! Вот только что -- из окна смотрела -- один
разорвался у перекрестка...
А, обстрел-то?.. Так мне ж некогда! Сколько почты разнести надо...
Дверь захлопывается. Письмоносец стучит в другие квартиры. Одна из
раскрывшихся дверей выпускает на лестницу разлетающийся мелодичными
всплесками вальс Шопена -- в той квартире школьница Лена каждый день
практикуется в игре "а рояле. Из другой квартиры доносится стук пишущей
машинки.
Обстрел продолжается.
Сегодня в дом попал четвертый за время войны снаряд. Он угодил во
второй этаж, над воротами, в ту квартиру, где живет одинокая старушка.
Квартира разбита. Старушка осталась жива -- она выходила на часок в магазин,
за хлебом. Вхожу в помещение домоуправления. Здесь, после осмотра разбитой
квартиры, обсуждают, в какую из пустующих квартир переселить старушку. В
обсуждении принимают участие Марья Васильевна и школьница Лена... Старушке
дадут необходимую мебель, одежду, посуду... Старушка сидит тут же,
благодарит заботливых женщин и время от времени закипает ненавистью: "Ох,
проклятый... Уж отмстится ему!.. Уж так отмстится!.. Я б сама ему... "
Старушечьи кулачки сжимаются. Глядя на старую, все на миг умолкают.
Управхоз говорит:
Ничего он не понимает в нашем народе... Все думает панику на нас
нагнать, а растит только злобу нашу... Глядите, бабку нашу, тихую, и ту в
какую ярость вогнал!..
Вогнал, вогнал, родимые! -- горячо подтверждает старушка. -- Близко вот
только мне с ним не встретиться... А уж встретились бы...
Если б только немец видел выражение глаз этих женщин при одной их мысли
о том, что сделала бы каждая из них, столкнувшись лицом к лицу с
опостылевшим, заклятым врагом!.. Если б только он видел! В липком страхе
уронил бы руки от угломера того дальнобойного орудия, какое приказано ему
навести на центральную улицу Ленинграда... Схватился бы за голову, понял бы,
что никогда не выбраться ему отсюда в свою Германию, сквозь ненавидящий его,
готовящий ему здесь могилу русский народ!..
Женщина Ленинграда!.. Прекрасны гневные чувства твои, прекрасно
величавое твое спокойствие!..
Если ты воин Красной Армии -- прекрасен твой ратный подвиг! Если ты
домашняя хозяйка -- прекрасен твой обыденный труд!
В милиции, в ПВО, в автобатах "Дороги жизни", в госпиталях, за рулем
газогенераторных автомобилей, на судостроительных верфях, где уже готовится
к навигации паровой и моторный флот, на сцене театра, в детских яслях, в
диспетчерской, отправляющей железнодорожный состав на станцию Борисова
Грива, -- везде, во всей многогранной жизни великого города, мы видим
вдохновенное женское лицо. В его чертах гордость за тот огромный,
самозабвенный труд, которым крепок и силен непобедимый город.
Артиллерийский обстрел продолжается? Да... Но разве может он помешать
доблестному труду, приближающему час грядущего торжества справедливости?
Женские бригады трудятся под обстрелом на очистке улиц. Снаряд падает
среди работниц. На их место встают другие. Работа не прекращается. Через
час-другой снаряд убивает еще нескольких. На их место встает третья группа
работниц, и работа по-прежнему продолжается. Никто не кричит, не бежит, не
плачет. Врываются в снег лопаты, очищается середина улицы... Скоро
улицы, дворы, дома Ленинграда будут чисты!
"Я -- ленинградка" -- это такая любовь к родному городу, которая за
время блокады разрослась в новое, неведомое в истории чувство: в нем забыто
все личное, в нем -- могучая гражданственность. В нем -- наша победа над
лютым, бездушным врагом!
 Командир танка Н. И. Барышев и сандружинница Валя Николаева у своего
трофейного танка.
Апрель 1942 года.
тите?.. Я и танковый сумею достать, знаю, где взять его...
А где, Валечка? -- живо спросил Барышев.
Ах, тут сразу и "Валечка", а вот не скажу. Возьмите меня в экипаж --
будет вам пулемет, не возьмете -- хоть к немцам идите за пулеметом!
Знаешь, ты эти штучки брось! -- посерьезнел Барышев. -- С этим не
шутят. Если знаешь, сказать обязана. Что это, твое личное дело?
-- А вот и личное! Гитлеровцев бить из него -- самое личное мое дело! В
экипаж свой берете?
Барышев обвел скучающим взглядом свою примаскированную березками
"немку", потом навес на краю поляны, под которым солдаты -- слесари и токари
-- звенели и скрежетали металлом, потом шеренгу полузасыпанных снегом других
трофейных танков и грузовиков на краю опушки черно-белого леса.
Не могу, Валя. Не обижайся. Знаю, ты была хорошей комсомолкой и сейчас
дисциплинированный кандидат партии. Знаю, и отец твой в армии ранен, и
братишка -- на фронте... Но не годится это -- в экипаж танка, в бой девчонок
брать, будь ты хоть трижды дисциплинированная!
В бой! -- Валя глядела умоляющими глазами не в глаза Барышеву, не на
доброе, благодушное его лицо, а только на его сочные, плотные губы, словно
надеясь заставить их своими уговорами сложиться в короткое слово "да"! И
повторила: -- В бой!.. А если я в боях тридцать раз трижды обстрелянная?
Нет, вы меня слушайте, вы меня только выслушайте... Вы увидите, я даже могу
быть башенным стрелком... Еще когда началась война, то там, в Раутовском
районе, -- ну это все у пас знают, -- в детдоме и в школе там, в Алакуссе, я
была учительницей. И когда у нас организовался истребительный батальон, меня
тоже брать не хотели, смеялись: маленькая! А все-таки я добилась:
сандружинницей хоть, а взяли. И когда после отступления мы пришли в
Ленинград, наш батальон влился в седьмой стрелковый полк двадцатой дивизии,
и пошли мы в сентябре в бой, на Невскую Дубровку... Это как, шутки, Николай
Иванович, что там я до пятого ноября на "пятачке" была? Пока не придавило
меня в землянке при разрыве снаряда. А потом? В тыл я из медсанбата
отправилась? Да в тот же день, когда танк ваш подбили на "пятачке", после
того как вы переправились, в тот самый день я в наш танковый батальон и
устроилась. Это было двадцать третьего ноября. Одна по льду на левый берег
из санчасти пришла. Я в тот день уже знала: Барышев "инженер", говорили,
"воюет как!". А вы на меня и не взглянули ни
разу, как и до сих пор глядеть не желаете... Вы только ничего такого не
подумайте, -- это я о ваших боевых качествах говорю! Ну и о своих, конечно!
Разрывы сплошь, а я поняла: ничего, могу переносить, хоть раненый без ноги,
хоть какая кровь, кости наружу, ничего, -- только, говорят, бледнею, а
перевязываю!
К чему ты это, Валька, рассказываешь? Будто я не знаю, за что тебе "За
отвагу" дали? И к "Красной Звезде" за что ты представлена? И как под днищем
моего танка лежала ты, всех перевязывала...
А там неудобно, тесно, не повернешься. Ничего, привыкла. Даже к
табачному дыму в землянках привыкла!
Вот это, Валя, подвиг действительно!
Смеетесь, товарищ старший сержант? Совести у вас нет. Вот вы мне прямо,
в последний раз: в экипаж свой возьмете сегодня же или нет?
Хорошая ты девчонка, Валенька! -- положив руку на плечо сандружиннице,
с душевной простотой сказал Барышев. -- И солдат хороший. А только не
сердись, не возьму, у меня, сказал, приказ есть!
Валя резко скинула руку Барышева со своего плеча, вскочила в гневе:
-- Ну и как хотите! И не надо, товарищ старший сержант, вы хоть и герой
боев, а бюрократ хороший. Хоть на губу сажайте, а говорю вам прямо в глаза
бессовестные. Больше не попрошусь, обойдусь после таких невниманий ваших. Не
вы возьмете, другой возьмет, трофейных танков у нас теперь десять! И
танковый пулемет достану, только не для вашего танка, а для того, где сама
заряжающим буду. И ничего тут вы мне не скажете: все десять "немок" без
пулеметов пока. Разрешите, товарищ старший сержант, идти?
И, лихо козырнув Барышеву, Валя резко повернутась, пошла прочь от
танка. Остановилась и, оглянувшись, с дерзким выражением лица, крикнула:
-- А еще я в ящике коробку сигар нашла и шоко-
лад, и ножи столовые, и русский самовар, пробитый осколками. Ничего вам
теперь не дам, только самовар в ваше пользование оставила -- под немецким
тряпьем лежит!
И, гордо вскинув лохматую голову, пошла дальше. А старший сержант
Беляев, издали слушавший весь разговор, усмехнулся:
Что, Николай Иванович, конфликт полный?
И не говори, Толя! -- усмехнулся Барышев. -- Бунт!
Командир танка Н. И. Барышев и сандружинница Валя Николаева у своего
трофейного танка.
Апрель 1942 года.
тите?.. Я и танковый сумею достать, знаю, где взять его...
А где, Валечка? -- живо спросил Барышев.
Ах, тут сразу и "Валечка", а вот не скажу. Возьмите меня в экипаж --
будет вам пулемет, не возьмете -- хоть к немцам идите за пулеметом!
Знаешь, ты эти штучки брось! -- посерьезнел Барышев. -- С этим не
шутят. Если знаешь, сказать обязана. Что это, твое личное дело?
-- А вот и личное! Гитлеровцев бить из него -- самое личное мое дело! В
экипаж свой берете?
Барышев обвел скучающим взглядом свою примаскированную березками
"немку", потом навес на краю поляны, под которым солдаты -- слесари и токари
-- звенели и скрежетали металлом, потом шеренгу полузасыпанных снегом других
трофейных танков и грузовиков на краю опушки черно-белого леса.
Не могу, Валя. Не обижайся. Знаю, ты была хорошей комсомолкой и сейчас
дисциплинированный кандидат партии. Знаю, и отец твой в армии ранен, и
братишка -- на фронте... Но не годится это -- в экипаж танка, в бой девчонок
брать, будь ты хоть трижды дисциплинированная!
В бой! -- Валя глядела умоляющими глазами не в глаза Барышеву, не на
доброе, благодушное его лицо, а только на его сочные, плотные губы, словно
надеясь заставить их своими уговорами сложиться в короткое слово "да"! И
повторила: -- В бой!.. А если я в боях тридцать раз трижды обстрелянная?
Нет, вы меня слушайте, вы меня только выслушайте... Вы увидите, я даже могу
быть башенным стрелком... Еще когда началась война, то там, в Раутовском
районе, -- ну это все у пас знают, -- в детдоме и в школе там, в Алакуссе, я
была учительницей. И когда у нас организовался истребительный батальон, меня
тоже брать не хотели, смеялись: маленькая! А все-таки я добилась:
сандружинницей хоть, а взяли. И когда после отступления мы пришли в
Ленинград, наш батальон влился в седьмой стрелковый полк двадцатой дивизии,
и пошли мы в сентябре в бой, на Невскую Дубровку... Это как, шутки, Николай
Иванович, что там я до пятого ноября на "пятачке" была? Пока не придавило
меня в землянке при разрыве снаряда. А потом? В тыл я из медсанбата
отправилась? Да в тот же день, когда танк ваш подбили на "пятачке", после
того как вы переправились, в тот самый день я в наш танковый батальон и
устроилась. Это было двадцать третьего ноября. Одна по льду на левый берег
из санчасти пришла. Я в тот день уже знала: Барышев "инженер", говорили,
"воюет как!". А вы на меня и не взглянули ни
разу, как и до сих пор глядеть не желаете... Вы только ничего такого не
подумайте, -- это я о ваших боевых качествах говорю! Ну и о своих, конечно!
Разрывы сплошь, а я поняла: ничего, могу переносить, хоть раненый без ноги,
хоть какая кровь, кости наружу, ничего, -- только, говорят, бледнею, а
перевязываю!
К чему ты это, Валька, рассказываешь? Будто я не знаю, за что тебе "За
отвагу" дали? И к "Красной Звезде" за что ты представлена? И как под днищем
моего танка лежала ты, всех перевязывала...
А там неудобно, тесно, не повернешься. Ничего, привыкла. Даже к
табачному дыму в землянках привыкла!
Вот это, Валя, подвиг действительно!
Смеетесь, товарищ старший сержант? Совести у вас нет. Вот вы мне прямо,
в последний раз: в экипаж свой возьмете сегодня же или нет?
Хорошая ты девчонка, Валенька! -- положив руку на плечо сандружиннице,
с душевной простотой сказал Барышев. -- И солдат хороший. А только не
сердись, не возьму, у меня, сказал, приказ есть!
Валя резко скинула руку Барышева со своего плеча, вскочила в гневе:
-- Ну и как хотите! И не надо, товарищ старший сержант, вы хоть и герой
боев, а бюрократ хороший. Хоть на губу сажайте, а говорю вам прямо в глаза
бессовестные. Больше не попрошусь, обойдусь после таких невниманий ваших. Не
вы возьмете, другой возьмет, трофейных танков у нас теперь десять! И
танковый пулемет достану, только не для вашего танка, а для того, где сама
заряжающим буду. И ничего тут вы мне не скажете: все десять "немок" без
пулеметов пока. Разрешите, товарищ старший сержант, идти?
И, лихо козырнув Барышеву, Валя резко повернутась, пошла прочь от
танка. Остановилась и, оглянувшись, с дерзким выражением лица, крикнула:
-- А еще я в ящике коробку сигар нашла и шоко-
лад, и ножи столовые, и русский самовар, пробитый осколками. Ничего вам
теперь не дам, только самовар в ваше пользование оставила -- под немецким
тряпьем лежит!
И, гордо вскинув лохматую голову, пошла дальше. А старший сержант
Беляев, издали слушавший весь разговор, усмехнулся:
Что, Николай Иванович, конфликт полный?
И не говори, Толя! -- усмехнулся Барышев. -- Бунт!
 Экипаж трофейного танка Н. И. Барышева
после возвращения из рейда.
Апрель 1942 года.
спрашивают о настроении экипажа - Толя Беляев вел танк исключительно
хорошо. На своих машинах немцы по таким лесам и болотам не ездят. А тут, в
наших руках, она не знала преград -- ни леса, ни болота, ни пней, ни
глубокого снега, несмотря на то, что гусеницы и вся ходовая часть очень
слабые, несравненно слабее ходовых частей любого нашего танка, -- немцы,
очевидно, рассчитывали здесь ездить по таким дорогам, какие у них там, в
Германии... А Зубахин? В боевом крещении заряжающий показал себя мастером --
он несколько раз разбирал и собирал пулеметы во время боя, за полминуты
проделывал это на удивление всем нам, и потому мы в бою почти непрерывно
вели огонь. Вел его Иван Фомич Расторгуев, и хорошо вел! А вот когда
немецкая пехота сидела на танке, мы не могли сделать ни одного выстрела, они
закрыли бы триплексы, мы оказались бы слепыми. Да и нечем было бы, кроме
последних осколочных!.. Ну, спать нам почти не пришлось, бои вели
круглосуточные. Еда? Был у нас НЗ на трое суток, да у немцев брали...
Экипаж трофейного танка Н. И. Барышева
после возвращения из рейда.
Апрель 1942 года.
спрашивают о настроении экипажа - Толя Беляев вел танк исключительно
хорошо. На своих машинах немцы по таким лесам и болотам не ездят. А тут, в
наших руках, она не знала преград -- ни леса, ни болота, ни пней, ни
глубокого снега, несмотря на то, что гусеницы и вся ходовая часть очень
слабые, несравненно слабее ходовых частей любого нашего танка, -- немцы,
очевидно, рассчитывали здесь ездить по таким дорогам, какие у них там, в
Германии... А Зубахин? В боевом крещении заряжающий показал себя мастером --
он несколько раз разбирал и собирал пулеметы во время боя, за полминуты
проделывал это на удивление всем нам, и потому мы в бою почти непрерывно
вели огонь. Вел его Иван Фомич Расторгуев, и хорошо вел! А вот когда
немецкая пехота сидела на танке, мы не могли сделать ни одного выстрела, они
закрыли бы триплексы, мы оказались бы слепыми. Да и нечем было бы, кроме
последних осколочных!.. Ну, спать нам почти не пришлось, бои вели
круглосуточные. Еда? Был у нас НЗ на трое суток, да у немцев брали...
 Морской патруль в центре города,
на Чебоксарском переулке.
Май 1942 года.
своем, -- командиры не имеют права отходить от кораблей. Зенитки на
палубах в этот день Первого мая ощерены как всегда. Только несколько дней
назад фашистские бомбардировщики прорвались в город, сбросили бомбы вдоль
Невы и в Неву. Были попадания и в корабли. Каждый час налеты могут
возобновиться.
Но праздник ощущается во всем. Вместе с исполинскими сугробами снега
исчезли, канули в прошлое и вереницы саночек, влекомых задыхающимися
родственниками мертвецов, завернутых в тряпки. Живые глаза встречных
любуются распускающимися на деревьях почками, первой зеленью близящегося
лета. Иные, слабые еще люди на скамьях, на вынесенных из дома стульях, у
подворотен своих домов, откинув голову, подставив бледные лица лучам солнца,
полузакрыв глаза, наслаждаются теплом, жадно пьют его каждой порой своего
тела.
Город набирается новых сил. Его дыханье становится ровным. Чувствуется,
что он будет крепнуть теперь с каждым днем...
Да... После страшной зимы, ранняя весна в городе еще не может избавить
ленинградцев от тяжких явлений гипертонии. Да, десяткам тысяч людей уже не
преодолеть губительных для организма последствий дистрофии. Да, цингою
прикованы к постелям еще очень многие ленинградцы, а другие едва владеют
своими опухшими, отечными, в синяках ногами. У иных ноги почти не сгибаются
или совсем не сгибаются в коленях, эти люди ходят с палочками, корчась от
боли... Но главное: полутора миллионам оставшихся в городе людей здоровье
будет возвращено! В больничных палатах, которые еще недавно были только
пропускными воротами на тот свет, теперь уже поставлены железные печурки,
кое-где восстанавливается водопровод, везде соблюдается элементарная
гигиена, уже появилась возможность людей в больницах л еч и т ь.
Авитаминозных цинготных больных, в частности, лечат витамином "С",
изготовленным из хвои, ---по решению горкома партии в Ленинград ежедневно
завозятся десятки тонн хвойных лапок; куда ни зай-
дешь, в столовых, в клубах, в продовольственных магазинах (перед
которыми теперь уже нет очередей), в аптеках -- везде увидишь бутылочки и
скляночки с этим витамином, несущим аромат свежих северных лесов.
Все больше рабочих людей возвращается к труду на своих постепенно
оживающих предприятиях. На многих из них работа, производившаяся всегда
машинами, производится ныне вручную, -- резкая недостача электроэнергии,
горючего, транспорта, смазочных материалов, сырья сказывается во всем. Но
уже несколько десятков возвращающихся к жизни предприятий вступили в апреле
в предмайское социалистическое соревнование: ни бомбежки, ни обстрелы, ни
лишения, ни болезни -- ничто не может помешать ленинградцам ремонтировать
боевую технику, выпускать вооружение и боеприпасы.
Энергично готовится Ленинград -- судостроительные и судоремонтные
заводы, боевые и торговые корабли, весь ленинградский торговый порт,
пристани в дельте Невы, в невских пригородах, на Ладожском озере -- к
открытию навигации. Большие строительные работы развернулись на берегах
Шлиссельбургской губы, где решается жизненная для Ленинграда задача --
заменить ледовую трассу водной... Для Ладоги строятся маленькие грузовые
катера -- металлический корпус, автомобильный мотор, палуба, рубка. Таких
катеров должно быть выпущено на водную трассу много!
Еще с конца февраля, с начала марта из воинских частей, сражающихся под
Ленинградом, из морской пехоты стали возвращать на флот различных
специалистов. Члены экипажа многих судов -- военных и Балтийского
пароходства сами ремонтируют свои корабли: машины, такелаж, грузовые
устройства, заделывают пробоины от снарядов, повышают плавучесть, запасаются
топливом. Я слышал сегодня от моряков, что в Угольной гавани уголь,
оседавший на дно в течение десятилетий, будет извлекаться водолазами. Его
будут со дна морского грузить в баржи и шаланды, и конечно -- под прицельным
огнем немецкой артилле-
рии, поскольку Угольная гавань просматривается немцами в оптические
приборы...
В такой день, как сегодня, хочется окинуть мысленным взором все
гигантское поле битвы, развернувшейся во всех направлениях мировой войны.
Хочется вдуматься во все главные события, происшедшие за последнее время в
мире. И о том, к чему практически приведут закончившиеся переговоры Англии и
Соединенных Штатов Америки о координации действий для наступления на всех
фронтах. И о налетах английской авиации на Шербур, Дюнкерк, Кале, Гавр,
Абвиль и Росток...
Кто из нас, ленинградцев-фронтовиков, не обратил внимания на
высказанное "Красной звездой" еще в конце марта категорическое утверждение о
том, что как бы ни рассчитывал свои планы Гитлер, а весною наступать будет
не он -- будем мы! Кто, читая первомайские лозунги Центрального Комитета
партии, не порадовался ясно и определенно поставленной задаче: в союзе с
Англией и Америкой разгромить Гитлера в 1942 году!.. Значит, этот союз уже
определился в общем, конкретном плане совместных боевых действий? Значит,
реально наконец близкое открытие Второго фронта?..
До сих пор мы практически сражаемся с Гитлером один на один. Никто не
сомневается: мы можем выиграть войну и без Второго фронта. Но скольких
лишних жертв это будет нам стоить! И какая это будет затяжка всей мировой
войны! Все мы понимаем -- не о наших интересах Англия и США думают! Вся
обстановка мировой войны складывается благодаря нашему мужеству и нашей
выдержке так, что американцам и англичанам (даже ради их расчета только па
собственные экономические и политические интересы!) пора открыть Второй
фронт...
Из многих источников доходят до меня сведения, что Гитлер весною этого
года готовит наступление на Ленинград, концентрирует вокруг Ленинграда силы,
чтобы вновь попытаться взять город штурмом. Есть основания для тревожности.
Немецкие войска, осаждающие Ленинград, конечно, знают, что у нас ощу-
щается недостаток в боеприпасах, что каждый выпущенный нами снаряд на
учете, что нормы расходования боеприпасов у нас жесткие, суровые. Но, думаю,
если они рассчитывают на это в своих планах штурма Ленинграда, то
просчитаются. Обороноспособность наша в этом отношении так быстро растет,
что сунься немец на штурм -- туго ему придется.
Есть сведения, что немцы стягивают резервы на участок, прилегающий к
городам Красное Село Пушкин, подтягивают сюда свои танки Есть признаки
приготовлении немцев к химической войне -- было два-три случая разрыва
химических снарядов... В апреле немцы совершили несколько массированных
налетов бомбардировщиков на Ленинград, усилили обстрелы города. Только
восемь дней в апреле были без обстрелов!
Вот-вот на нашем фронте начнутся ожесточенные боевые действия. Будем же
бдительны!.. Будем готовы к решительному бою, в любой день наступившего
сегодня мая!
Морской патруль в центре города,
на Чебоксарском переулке.
Май 1942 года.
своем, -- командиры не имеют права отходить от кораблей. Зенитки на
палубах в этот день Первого мая ощерены как всегда. Только несколько дней
назад фашистские бомбардировщики прорвались в город, сбросили бомбы вдоль
Невы и в Неву. Были попадания и в корабли. Каждый час налеты могут
возобновиться.
Но праздник ощущается во всем. Вместе с исполинскими сугробами снега
исчезли, канули в прошлое и вереницы саночек, влекомых задыхающимися
родственниками мертвецов, завернутых в тряпки. Живые глаза встречных
любуются распускающимися на деревьях почками, первой зеленью близящегося
лета. Иные, слабые еще люди на скамьях, на вынесенных из дома стульях, у
подворотен своих домов, откинув голову, подставив бледные лица лучам солнца,
полузакрыв глаза, наслаждаются теплом, жадно пьют его каждой порой своего
тела.
Город набирается новых сил. Его дыханье становится ровным. Чувствуется,
что он будет крепнуть теперь с каждым днем...
Да... После страшной зимы, ранняя весна в городе еще не может избавить
ленинградцев от тяжких явлений гипертонии. Да, десяткам тысяч людей уже не
преодолеть губительных для организма последствий дистрофии. Да, цингою
прикованы к постелям еще очень многие ленинградцы, а другие едва владеют
своими опухшими, отечными, в синяках ногами. У иных ноги почти не сгибаются
или совсем не сгибаются в коленях, эти люди ходят с палочками, корчась от
боли... Но главное: полутора миллионам оставшихся в городе людей здоровье
будет возвращено! В больничных палатах, которые еще недавно были только
пропускными воротами на тот свет, теперь уже поставлены железные печурки,
кое-где восстанавливается водопровод, везде соблюдается элементарная
гигиена, уже появилась возможность людей в больницах л еч и т ь.
Авитаминозных цинготных больных, в частности, лечат витамином "С",
изготовленным из хвои, ---по решению горкома партии в Ленинград ежедневно
завозятся десятки тонн хвойных лапок; куда ни зай-
дешь, в столовых, в клубах, в продовольственных магазинах (перед
которыми теперь уже нет очередей), в аптеках -- везде увидишь бутылочки и
скляночки с этим витамином, несущим аромат свежих северных лесов.
Все больше рабочих людей возвращается к труду на своих постепенно
оживающих предприятиях. На многих из них работа, производившаяся всегда
машинами, производится ныне вручную, -- резкая недостача электроэнергии,
горючего, транспорта, смазочных материалов, сырья сказывается во всем. Но
уже несколько десятков возвращающихся к жизни предприятий вступили в апреле
в предмайское социалистическое соревнование: ни бомбежки, ни обстрелы, ни
лишения, ни болезни -- ничто не может помешать ленинградцам ремонтировать
боевую технику, выпускать вооружение и боеприпасы.
Энергично готовится Ленинград -- судостроительные и судоремонтные
заводы, боевые и торговые корабли, весь ленинградский торговый порт,
пристани в дельте Невы, в невских пригородах, на Ладожском озере -- к
открытию навигации. Большие строительные работы развернулись на берегах
Шлиссельбургской губы, где решается жизненная для Ленинграда задача --
заменить ледовую трассу водной... Для Ладоги строятся маленькие грузовые
катера -- металлический корпус, автомобильный мотор, палуба, рубка. Таких
катеров должно быть выпущено на водную трассу много!
Еще с конца февраля, с начала марта из воинских частей, сражающихся под
Ленинградом, из морской пехоты стали возвращать на флот различных
специалистов. Члены экипажа многих судов -- военных и Балтийского
пароходства сами ремонтируют свои корабли: машины, такелаж, грузовые
устройства, заделывают пробоины от снарядов, повышают плавучесть, запасаются
топливом. Я слышал сегодня от моряков, что в Угольной гавани уголь,
оседавший на дно в течение десятилетий, будет извлекаться водолазами. Его
будут со дна морского грузить в баржи и шаланды, и конечно -- под прицельным
огнем немецкой артилле-
рии, поскольку Угольная гавань просматривается немцами в оптические
приборы...
В такой день, как сегодня, хочется окинуть мысленным взором все
гигантское поле битвы, развернувшейся во всех направлениях мировой войны.
Хочется вдуматься во все главные события, происшедшие за последнее время в
мире. И о том, к чему практически приведут закончившиеся переговоры Англии и
Соединенных Штатов Америки о координации действий для наступления на всех
фронтах. И о налетах английской авиации на Шербур, Дюнкерк, Кале, Гавр,
Абвиль и Росток...
Кто из нас, ленинградцев-фронтовиков, не обратил внимания на
высказанное "Красной звездой" еще в конце марта категорическое утверждение о
том, что как бы ни рассчитывал свои планы Гитлер, а весною наступать будет
не он -- будем мы! Кто, читая первомайские лозунги Центрального Комитета
партии, не порадовался ясно и определенно поставленной задаче: в союзе с
Англией и Америкой разгромить Гитлера в 1942 году!.. Значит, этот союз уже
определился в общем, конкретном плане совместных боевых действий? Значит,
реально наконец близкое открытие Второго фронта?..
До сих пор мы практически сражаемся с Гитлером один на один. Никто не
сомневается: мы можем выиграть войну и без Второго фронта. Но скольких
лишних жертв это будет нам стоить! И какая это будет затяжка всей мировой
войны! Все мы понимаем -- не о наших интересах Англия и США думают! Вся
обстановка мировой войны складывается благодаря нашему мужеству и нашей
выдержке так, что американцам и англичанам (даже ради их расчета только па
собственные экономические и политические интересы!) пора открыть Второй
фронт...
Из многих источников доходят до меня сведения, что Гитлер весною этого
года готовит наступление на Ленинград, концентрирует вокруг Ленинграда силы,
чтобы вновь попытаться взять город штурмом. Есть основания для тревожности.
Немецкие войска, осаждающие Ленинград, конечно, знают, что у нас ощу-
щается недостаток в боеприпасах, что каждый выпущенный нами снаряд на
учете, что нормы расходования боеприпасов у нас жесткие, суровые. Но, думаю,
если они рассчитывают на это в своих планах штурма Ленинграда, то
просчитаются. Обороноспособность наша в этом отношении так быстро растет,
что сунься немец на штурм -- туго ему придется.
Есть сведения, что немцы стягивают резервы на участок, прилегающий к
городам Красное Село Пушкин, подтягивают сюда свои танки Есть признаки
приготовлении немцев к химической войне -- было два-три случая разрыва
химических снарядов... В апреле немцы совершили несколько массированных
налетов бомбардировщиков на Ленинград, усилили обстрелы города. Только
восемь дней в апреле были без обстрелов!
Вот-вот на нашем фронте начнутся ожесточенные боевые действия. Будем же
бдительны!.. Будем готовы к решительному бою, в любой день наступившего
сегодня мая!
 Политрук Вера Лебедева. * Весна 1942 года.
кими очередями, выбивая передних слева, затем передних справа. Лес
оглашается треском вражеских автоматов -- пули начинают сечь воздух, все
ближе врываются в снег. Вера быстро отползает в сторону, метра на три, снова
дает короткие очереди. Бьет спокойно, уверенно -- цепь редеет, неподвижные
темные фигуры остаются на снегу, истошные вопли множатся, но, смыкая цепь,
гитлеровцы подползают все ближе.
Один диск у Веры уже израсходован. Она вставляет второй, а немцы уже с
трех сторон; все чаще переползает Вера с места на место, сбивает врагу
фланги и бьет ему в лоб, -- и второй диск подходит к концу. Дать бы сейчас
длинную очередь, но нельзя -- надо точно, рассчитанно, каждой пулей по
одному. Пустеющий диск начинает трещать, патронов все меньше, пять-шесть
выстрелов, и пулемет отказывает, диск пуст, а враги ползут...
Вера хочет вставить третий, последний диск, но левая рука вдруг виснет
бессильно. "Ранена!" -- понимает Вера, это некстати, Вере необходимо, чтоб
рука сейчас действовала, она приподымает свою левую правой, пальцы еще
работают, она вставляет третий, последний диск и начинает стрелять
одиночными. Но на нескольких фашистов ей приходится истратить по две пули, и
Вера досадует: "Как же это так, нерасчетливо!" Вдруг, вслед за разрывом
мины, резкий удар в поясницу, и только при этом ударе Вера осознает, что
ведь все время вокруг нее разрывались мины, а она даже не замечала этого. Но
удар в поясницу был не очень силен. Вера продолжает стрелять. Ей нужно
переползать с места на место, а левая бессильная рука ей мешает,
подворачивается, и Вера отпихивает ее другой рукой влево, а потом
подвигается боком и снова -- одной правой ставит пулемет как надо,
подправляет его головой, целится, дает один выстрел, целится снова, дает еще
один. Фашисты начинают бросать в Веру гранаты. Некоторые рвутся поодаль,
другие -- близко. Вера слышит жадные, злобные возгласы, высчитывает ту
секунду, когда разорвется очередная граната, чтобы зря не опускать голову,
не потерять только что выбранную цель... Вот граната падает
у самого пулемета. Вера мгновенно подхватывает и отшвыривает ее в
сторону врагов, взрыв раздается среди них. Вера зло усмехается. Опять
стреляет, но диск -- третий, последний диск -- начинает трещать, а в боку у
Веры острое жжение и между лопаток под гимнастеркой и ватником мокро. И у
Веры мысль: "Мне жарко, вспотела!"
Вера ждет чуда от диска, уже точно зная, что в нем осталось три-четыре
патрона. Снова разрыв гранаты, обожгло ногу. Вера думает о своих, о помощи:
"Подойдут... Неужели не подойдут?" И снова дает выстрел, и пулемет, стукнув,
будто говорит: "Не отдам!" И второй -- "Не отдам!". Вере чудится, что это в
самом деле не она думает, что это голос пулемета...
Остались один или два патрона. И тогда само собой, как совершенно
естественное продолжение всего, что делает она здесь, приходит решение:
встать, бросить "лимонку" -- все, что еще есть у нее, единственную
"лимонку", чтоб себя и -- побольше -- их... Надо только выждать, когда они
разом кинутся!..
Вера выпускает последние две пули. Два гитлеровца, пытавшиеся к ней
подползти, замирают. Вера поднимает голову, и что-то яснеет для нее сразу,
будто чего-то раньше не замечала она. Это -- тишина. Никто не стреляет,
враги лежат метрах в двадцати и не ползут ближе. И наших позади нет.
Конечно, немцы остерегаются и выжидают, чуя, что патроны у русского
пулеметчика на исходе...
"Ну вот", -- мысленно подтверждает свое решение Вера, валит пулемет
набок, быстро ладонью забрасывает его снегом, затем выдергивает из "лимонки"
чеку, вздохнув, поднимается во весь рост. Возле нее -- ветви разлапой,
заснеженной ели. Смотрит на небо и видит звезды, в первый раз в эту ночь
видит крупные, чудесные звезды, и ей сразу становится хорошо: перед ее
взором будто среди звезд возникает доброе лицо матери, родное, так реально
зримое ею лицо. "Мама радуется за меня!", и торжественное спокойствие в это
мгновение овладевает Верой.
Просветленным взором она смотрит теперь на врагов, слышит голос
команды, вслух легко и свободно
произносит: "Идите теперь!" -- и видит: немцы вскакивают, бегут, бегут
к ней, и Вера заносит "лимонку" над своей головой и закрывает глаза и
ждет... И счастливо повторяет: "Ну, все... все!"
Смутно слышит ожесточенный треск автоматов и больше не помнит уже
вообще ничего...
Это были автоматчики, подоспевшие на помощь. Они скосили фашистов
прежде, чем те подбежали к Вере. Веру нашли лежащей без сознания, навзничь,
раскинув руки, -- ватник ее был распахнут, а волосы разметались по снегу.
Склонившись над ней, старший сержант уловил легкий пар ее непрекратившегося
дыхания. Потрогал ее плечи, руки... "Лимонка" вместе с рычажком была так
плотно сжата ее омертвевшей рукой, что не разорвалась. Старший сержант,
осторожно разжав сведенные пальцы Веры, придержал своей рукой рычажок,
крикнул бойцам: "Ложись!" -- и отшвырнул гранату за трупы гитлеровцев.
"Лимонка" разорвалась в снегу...
Вера очнулась возле все еще горевшей землянки. Увидела: "всего вокруг
много, много: люди, пламя, движение, оружие"... Услышала голоса. Ей не было
ни больно, ни трудно, только все было сложно в красном тумане, Вера осознала
себя лежащею на шинели, заметила рядом раненых. Опережая сознание, ее
внезапно вновь подхватило возбуждение боя, она была, конечно, в полубреду.
Вскочив, подбежала к кричащему раненому бойцу, чтобы перевязать его. Она не
могла найти раны; опустившись на снег, рылась правой рукой в его
окровавленной разорванной ватной куртке, пока какой-то красноармеец не
возник над ней силуэтом, распахнув ту же ватную куртку, отчетливо произнес:
"Вот рана!"
"Пакет!.. Есть у тебя пакет? -- спросила его Вера. -- Разорви!"
Но едва, забыв о себе, 'ничего не сознавая, кроме желания перевязать
раненого, она вместе с красноармейцем перевернула его, сзади послышались
свист, вой, и, почувствовав удар в спину, Вера, отброшенная разрывом мины,
снова потеряла сознание...
Снова очнулась она, покачиваясь на руках несших ее бойцов. Тянулись
стенки траншеи, сияли над Верой звезды, под ногами бойцов поскрипывал снег.
Окончательно пробудил ее голос командира роты Чапаева: "Вера! Вера!", -- и
только услышав его, она опять поняла, что жива, и безотчетно рванула правой
рукой, отталкивая несущих ее бойцов, крикнула: "Я сама пойду... Где
раненые?" Встала, но, сделав несколько неверных шагов, упала, прежде чем
бойцы успели ее подхватить...
"Возьмите и несите ее! -- крикнул Чапаев. -- Она в бреду!"
До Веры эти слова дошли словно из глубины колодца, но она все-таки
встала и пошла, не даваясь бойцам, не слыша, стреляет ли враг, рвутся ли
снаряды. А снаряды рвались, а Чапаев уже ничего больше не приказывал, потому
что, сам раненный, впал в бессознательное состояние на руках подхвативших
его бойцов.
До командного пункта роты было метров шестьсот, и эти шестьсот метров
Вера прошла сама, поддерживаемая бойцами. И когда переступила порог
землянки, ничего не узнала, узнала только Клавушку, которая, испуганно
взглянув на нее, кинулась к ней и заплакала, повторяя: "Вера, Вера!.. "
Вера стояла пошатываясь, поддерживаемая бойцами, рванула вверх свою
гимнастерку, заправленную в ватные брюки, и на пол посыпались ледышки крови,
-- их было много, они сыпались на пол, звеня, темно-красные, отблескивая в
свете керосиновой лампы... Но это уже было последнее, что запомнила Вера из
той необыкновенной ночи. Она потеряла сознание -- на долгие часы... Ее
увезли на ПМП. Она была ранена пятью осколками мин и ручных гранат. Два из
этих ранений оказались тяжелыми.
Вновь открыла глаза Вера, уже лежа в белых простынях, на пружинной
кровати -- в госпитале. Это был госпиталь No 1000, в Ленинграде. И первое,
что почему-то припомнилось ей, -- была ее кубанка, оставшаяся на снегу там,
рядом с поваленным набок пулеметом, -- кубанка, сшибленная с ее головы
осколком
немецкой мины. Тогда она и не заметила этого, а теперь кубанка возникла
перед ее глазами отчетливо. На столике возле себя Вера увидела цветы и
конфеты, подумала: "Откуда они могут быть?" (ведь это было в самом начале
апреля!) Но на душе стало легко и приятно. Ей сказали, что в госпиталь
приезжал генерал-майор, начальник Политуправления фронта и что он приедет
еще раз. И кроме того, ей сказали, что кроме медали "За отвагу", которая уже
есть у нее за прежние боевые дела, теперь у нее будет орден -- она
представлена к ордену Красного Знамени. Вера улыбнулась, закрыла глаза и
заснула.
Политрук Вера Лебедева. * Весна 1942 года.
кими очередями, выбивая передних слева, затем передних справа. Лес
оглашается треском вражеских автоматов -- пули начинают сечь воздух, все
ближе врываются в снег. Вера быстро отползает в сторону, метра на три, снова
дает короткие очереди. Бьет спокойно, уверенно -- цепь редеет, неподвижные
темные фигуры остаются на снегу, истошные вопли множатся, но, смыкая цепь,
гитлеровцы подползают все ближе.
Один диск у Веры уже израсходован. Она вставляет второй, а немцы уже с
трех сторон; все чаще переползает Вера с места на место, сбивает врагу
фланги и бьет ему в лоб, -- и второй диск подходит к концу. Дать бы сейчас
длинную очередь, но нельзя -- надо точно, рассчитанно, каждой пулей по
одному. Пустеющий диск начинает трещать, патронов все меньше, пять-шесть
выстрелов, и пулемет отказывает, диск пуст, а враги ползут...
Вера хочет вставить третий, последний диск, но левая рука вдруг виснет
бессильно. "Ранена!" -- понимает Вера, это некстати, Вере необходимо, чтоб
рука сейчас действовала, она приподымает свою левую правой, пальцы еще
работают, она вставляет третий, последний диск и начинает стрелять
одиночными. Но на нескольких фашистов ей приходится истратить по две пули, и
Вера досадует: "Как же это так, нерасчетливо!" Вдруг, вслед за разрывом
мины, резкий удар в поясницу, и только при этом ударе Вера осознает, что
ведь все время вокруг нее разрывались мины, а она даже не замечала этого. Но
удар в поясницу был не очень силен. Вера продолжает стрелять. Ей нужно
переползать с места на место, а левая бессильная рука ей мешает,
подворачивается, и Вера отпихивает ее другой рукой влево, а потом
подвигается боком и снова -- одной правой ставит пулемет как надо,
подправляет его головой, целится, дает один выстрел, целится снова, дает еще
один. Фашисты начинают бросать в Веру гранаты. Некоторые рвутся поодаль,
другие -- близко. Вера слышит жадные, злобные возгласы, высчитывает ту
секунду, когда разорвется очередная граната, чтобы зря не опускать голову,
не потерять только что выбранную цель... Вот граната падает
у самого пулемета. Вера мгновенно подхватывает и отшвыривает ее в
сторону врагов, взрыв раздается среди них. Вера зло усмехается. Опять
стреляет, но диск -- третий, последний диск -- начинает трещать, а в боку у
Веры острое жжение и между лопаток под гимнастеркой и ватником мокро. И у
Веры мысль: "Мне жарко, вспотела!"
Вера ждет чуда от диска, уже точно зная, что в нем осталось три-четыре
патрона. Снова разрыв гранаты, обожгло ногу. Вера думает о своих, о помощи:
"Подойдут... Неужели не подойдут?" И снова дает выстрел, и пулемет, стукнув,
будто говорит: "Не отдам!" И второй -- "Не отдам!". Вере чудится, что это в
самом деле не она думает, что это голос пулемета...
Остались один или два патрона. И тогда само собой, как совершенно
естественное продолжение всего, что делает она здесь, приходит решение:
встать, бросить "лимонку" -- все, что еще есть у нее, единственную
"лимонку", чтоб себя и -- побольше -- их... Надо только выждать, когда они
разом кинутся!..
Вера выпускает последние две пули. Два гитлеровца, пытавшиеся к ней
подползти, замирают. Вера поднимает голову, и что-то яснеет для нее сразу,
будто чего-то раньше не замечала она. Это -- тишина. Никто не стреляет,
враги лежат метрах в двадцати и не ползут ближе. И наших позади нет.
Конечно, немцы остерегаются и выжидают, чуя, что патроны у русского
пулеметчика на исходе...
"Ну вот", -- мысленно подтверждает свое решение Вера, валит пулемет
набок, быстро ладонью забрасывает его снегом, затем выдергивает из "лимонки"
чеку, вздохнув, поднимается во весь рост. Возле нее -- ветви разлапой,
заснеженной ели. Смотрит на небо и видит звезды, в первый раз в эту ночь
видит крупные, чудесные звезды, и ей сразу становится хорошо: перед ее
взором будто среди звезд возникает доброе лицо матери, родное, так реально
зримое ею лицо. "Мама радуется за меня!", и торжественное спокойствие в это
мгновение овладевает Верой.
Просветленным взором она смотрит теперь на врагов, слышит голос
команды, вслух легко и свободно
произносит: "Идите теперь!" -- и видит: немцы вскакивают, бегут, бегут
к ней, и Вера заносит "лимонку" над своей головой и закрывает глаза и
ждет... И счастливо повторяет: "Ну, все... все!"
Смутно слышит ожесточенный треск автоматов и больше не помнит уже
вообще ничего...
Это были автоматчики, подоспевшие на помощь. Они скосили фашистов
прежде, чем те подбежали к Вере. Веру нашли лежащей без сознания, навзничь,
раскинув руки, -- ватник ее был распахнут, а волосы разметались по снегу.
Склонившись над ней, старший сержант уловил легкий пар ее непрекратившегося
дыхания. Потрогал ее плечи, руки... "Лимонка" вместе с рычажком была так
плотно сжата ее омертвевшей рукой, что не разорвалась. Старший сержант,
осторожно разжав сведенные пальцы Веры, придержал своей рукой рычажок,
крикнул бойцам: "Ложись!" -- и отшвырнул гранату за трупы гитлеровцев.
"Лимонка" разорвалась в снегу...
Вера очнулась возле все еще горевшей землянки. Увидела: "всего вокруг
много, много: люди, пламя, движение, оружие"... Услышала голоса. Ей не было
ни больно, ни трудно, только все было сложно в красном тумане, Вера осознала
себя лежащею на шинели, заметила рядом раненых. Опережая сознание, ее
внезапно вновь подхватило возбуждение боя, она была, конечно, в полубреду.
Вскочив, подбежала к кричащему раненому бойцу, чтобы перевязать его. Она не
могла найти раны; опустившись на снег, рылась правой рукой в его
окровавленной разорванной ватной куртке, пока какой-то красноармеец не
возник над ней силуэтом, распахнув ту же ватную куртку, отчетливо произнес:
"Вот рана!"
"Пакет!.. Есть у тебя пакет? -- спросила его Вера. -- Разорви!"
Но едва, забыв о себе, 'ничего не сознавая, кроме желания перевязать
раненого, она вместе с красноармейцем перевернула его, сзади послышались
свист, вой, и, почувствовав удар в спину, Вера, отброшенная разрывом мины,
снова потеряла сознание...
Снова очнулась она, покачиваясь на руках несших ее бойцов. Тянулись
стенки траншеи, сияли над Верой звезды, под ногами бойцов поскрипывал снег.
Окончательно пробудил ее голос командира роты Чапаева: "Вера! Вера!", -- и
только услышав его, она опять поняла, что жива, и безотчетно рванула правой
рукой, отталкивая несущих ее бойцов, крикнула: "Я сама пойду... Где
раненые?" Встала, но, сделав несколько неверных шагов, упала, прежде чем
бойцы успели ее подхватить...
"Возьмите и несите ее! -- крикнул Чапаев. -- Она в бреду!"
До Веры эти слова дошли словно из глубины колодца, но она все-таки
встала и пошла, не даваясь бойцам, не слыша, стреляет ли враг, рвутся ли
снаряды. А снаряды рвались, а Чапаев уже ничего больше не приказывал, потому
что, сам раненный, впал в бессознательное состояние на руках подхвативших
его бойцов.
До командного пункта роты было метров шестьсот, и эти шестьсот метров
Вера прошла сама, поддерживаемая бойцами. И когда переступила порог
землянки, ничего не узнала, узнала только Клавушку, которая, испуганно
взглянув на нее, кинулась к ней и заплакала, повторяя: "Вера, Вера!.. "
Вера стояла пошатываясь, поддерживаемая бойцами, рванула вверх свою
гимнастерку, заправленную в ватные брюки, и на пол посыпались ледышки крови,
-- их было много, они сыпались на пол, звеня, темно-красные, отблескивая в
свете керосиновой лампы... Но это уже было последнее, что запомнила Вера из
той необыкновенной ночи. Она потеряла сознание -- на долгие часы... Ее
увезли на ПМП. Она была ранена пятью осколками мин и ручных гранат. Два из
этих ранений оказались тяжелыми.
Вновь открыла глаза Вера, уже лежа в белых простынях, на пружинной
кровати -- в госпитале. Это был госпиталь No 1000, в Ленинграде. И первое,
что почему-то припомнилось ей, -- была ее кубанка, оставшаяся на снегу там,
рядом с поваленным набок пулеметом, -- кубанка, сшибленная с ее головы
осколком
немецкой мины. Тогда она и не заметила этого, а теперь кубанка возникла
перед ее глазами отчетливо. На столике возле себя Вера увидела цветы и
конфеты, подумала: "Откуда они могут быть?" (ведь это было в самом начале
апреля!) Но на душе стало легко и приятно. Ей сказали, что в госпиталь
приезжал генерал-майор, начальник Политуправления фронта и что он приедет
еще раз. И кроме того, ей сказали, что кроме медали "За отвагу", которая уже
есть у нее за прежние боевые дела, теперь у нее будет орден -- она
представлена к ордену Красного Знамени. Вера улыбнулась, закрыла глаза и
заснула.
 Хлебный паек достаточен! 8-я армия. Весна 1942 года.
смертью и сами уже, можно сказать, ворочались в ее лапах! Было сознание
героичности всего нами переживаемого. Даже в самых страшных трагедиях было
ощущение необыденности, исключительности непрестанного нашего подвига. Здесь
такого ощущения нет. Затишье!..
Конечно же и положение и это, и такое состояние духа -- явление
частное, местное, временное!
Мне хочется поездить опять по передовым, но все кругом убеждают меня,
что я напрасно стремлюсь "рыпаться", ибо нигде, ни в одном подразделении
армии, не найду решительно никакого боевого "материала": нигде ничего не
происходит. Сегодня политрук Курчавов, информатор политотдела, уговаривал
меня: "Наберитесь терпенья, поездка в любую часть была бы пустой тратой сил
и времени".
Не верю! Сидеть так не могу. Вот отредактировал за четыре дня книжку
Курчавова о действиях понтонеров на Неве в районе Невского "пятачка" осенью
-- зимой прошлого года и решил: как только переберемся из Полян на новое
местожительство, поеду по частям. Что-нибудь да найду! Если не как спецкор
ТАСС, то как писатель -- хотя бы для будущего!..
Вчера в редакции был сотрудник газеты "В решающий бой", приехавший из
соседней с нами 54-й армии. Рассказывает, что там так же тихо, как и здесь,
-- никаких боев, даже мелких. Действует только корпус Гагена, на днях он
продвинулся на четыре километра вперед, в направлении западнее Любани...
... Странно каждый день, по пути в столовую, смотреть на проходящие у
самой деревни рельсы безжизненной железной дороги. По ней до Ленинграда
семьдесят два километра. Из них километров двенадцать заняты немцами.
Сколько раз проезжал я в поезде по этой дороге! Думал ли когда-нибудь, что
вот буду жить в такой вот, никогда прежде не замечаемой мною деревушке; что
она станет первой линией фронта и что путь от нее до Ленинграда окажется
неодолимым для всей нашей страны на долгие месяцы!
А столбы высоковольтной линии, что стоят сейчас как мертвые пугала на
заброшенном огороде! Они --
без проводов. Провода пошли на всяческие саперные работы, на всякие
поделки. Они рассеяны по армии кусочками проволоки, употребленной для
удовлетворения самых мелких, порой попросту бытовых нужд!.. Сегодня немецкая
авиация опять бомбила Назию. Взрывы слышались близко, отчетливо...
Взгляд в глубину пространств
12 мая. Лес, северо-восточнее дер. Городище
Сегодня редакция "Ленинского пути" перебралась сюда, на заросшую мелким
молоднячком, заболоченную опушку высокого соснового леса. Странно, что почва
болотиста, -- ведь эти места находятся на значительной высоте над уровнем
Ладожского озера!
Через Жихарево и Троицкое ехал я сюда со Всеволодом Рождественским на
перегруженном редакционным имуществом грузовике. Дорога, с таким трудом
сооруженная по болоту, плоха, проседает, вся в рытвинах и буграх, болото
везде водянисто и глубоко. Только здесь, вокруг деревни Городище, местность
суше, здесь начинается жизнь: пашни разрыхлены, в бороздах; колхозницы в
ватных штанах, с граблями идут по дороге. Сельскохозяйственным работам
коегде помогают красноармейцы. В деревнях резвятся ребятишки, но каждая
деревня, конечно, превращена в военный лагерь, всюду лошади, обозы, военное
имущество, красноармейцы. В лесу -- в землянках и палатках -- располагается
теперь второй эшелон штаба армии. Немецкие самолеты проходят низко и, слышу,
то здесь, то там бомбят лес.
Я с Всеволодом расположился в большой палатке, превратив привезенные из
Полян ворота в нары, застлав их плащ-палаткой и выделив себе ложе среди
сваленных в кучу вещей.
Если выйти на край опушки, возвышенной над всей окружающей местностью,
то отсюда видны десятки километров пространств. На переднем плане -- грань
внешнего кольца блокады: прямо против нас --
церквушки деревни Лаврове, расположенной на нашем, восточном, берегу
Ладожского озера. Этой деревушке суждено сыграть огромную роль в обороне
Ленинграда: вдоль побережья строится важнейший для ладожских перевозок порт.
В озеро вытягиваются длинные строящиеся пирсы -- к ним после открытия
навигации будут причаливать десятки военных и транспортных судов. Они
привезут сюда десятки тысяч эвакуируемых ленинградцев и повезут отсюда к
западному берегу озера сотни тысяч тонн продовольствия, боеприпасов и других
грузов. Уже проложена зимою в Лаврово, в Кобону и далее, до косы Кареджи,
ветка железной дороги от Войбокалы; с 17 февраля начались работы по
организации в Лаврове крупнейшего эвакопункта. Скапливаются повсюду
гигантские запасы муки, сахара, масла, всяческого продовольствия для
ленинградцев.
Деревня Поляны, которую мы сегодня покинули, включается в новый
дополнительный пояс обороны, призванный уберечь ладожские перевозки от
вторжения врага. Уже присылаемые нашей армии войсковые резервы насытят этот
пояс надолбами, рвами, дзотами, всеми видами инженерных сооружений...
Разложив на сыроватой земле карту и поставив как надо компас, я изучаю
открывшиеся передо мною дали. Впереди, за деревней Лаврово, простираются
бело-голубоватые полосы Ладожского озера, еще не стаявшие его льды. Вот уже
больше двух недель никакого сообщения по озеру с ленинградским берегом нет.
От Большой земли Ленинград все еще отрезан везде, его блокада -- полная.
Понемногу доходят до меня подробности того, о чем писал раньше. Вот
они...
20 апреля поверх льда на озере разлилась вода. Машины шли, поднимая
колесами белые буруны. Шоферы умудрялись выискивать и огибать невидимые
промывины и полыньи. 23-го много машин утонуло, па следующий день ледовая
трасса была закрыта. Но и в тот и в следующий дни сотни людей, шагая по
воде, пронесли последний груз на своих спинах. Этот груз -- шестьдесят пять
тонн драгоцен-
ного лука -- был подарком населению Ленинграда к Первому мая.
Затем уже ни один человек не мог бы перейти озеро: 26 апреля оно
вскрылось, и до сих пор через озеро нет никакого пути. Сгрудившиеся под
напором свирепых ветров льдины забили всю Шлиссельбургскую губу, превратив
ее в хаос торосов.
Гляжу я на это озеро и вижу: за ним синеющей полоской тянутся леса
противоположного, западного берега, там -- ленинградская сторона кольца
блокады!
Вижу: впереди по ту сторону озера вдруг показался быстро движущийся
паровозный дым. Поезд идет влево и постепенно уходит за горизонт. Определяю
точно: этот поезд отошел от станции "Ладожское озеро" -- приходящейся по
компасу как раз на створе с деревней Лаврово. Он направился в Ленинград.
Что везет этот поезд "внутриблокадной" Ириновской железной дороги?
Напрягшись, как туго натянутая струна, она вынесла на себе зимою два
гигантских встречных потока -- эвакуантов из Ленинграда и -- от Ладоги в
Ленинград -- всего, что нужно для жизни и обороны города. Для ленинградцев
эта железнодорожная линия стала вместе с ледовой трассой "Дорогой жизни". Но
для многих самоотверженных железнодорожников, так же как и для шоферов
ледовой трассы, преодолевавших путь к Большой земле и обратно под бомбежками
с воздуха и обстрелом вражеской артиллерии, -- "Дорогой смерти"...
Как странно, как томительно для души видеть мне сейчас этот поезд, что
придет через несколько часов в Ленинград, бесконечно далекий отсюда,
терпеливо ждущий, когда же на Ладожском озере стают льды! Сколько дней --
неделю иль две? -- надо выдержать до открытия навигации?.. И какие еще
бомбежки предстоят тогда и этой маленькой деревушке Лаврово, в которую я
всматриваюсь сейчас, и кораблям Ладоги, и тысячам людей портов, строящихся
вдоль обоих ее берегов?
Вот левее видны темные полосы запятых немцами южных, шлиссельбургских
берегов губы. Немцы в
Шлиссельбурге и в Липках, конечно, тоже видели этот поезд, прослеживали
его путь и, наверное, обстреливали его из своих дальнобойных орудий!..
... Небо -- в облаках, между которыми гуляет слабо светящее солнце.
Воздух чудесен. Сижу на болотной кочке, подложив под себя шинель. На коленях
-- лист фанеры, в нем вырезана дырочка. В эту дырочку вставлена чернильница.
Пишу.
Кругом, в радиусе ста метров, на пеньках, на кочках, на дощечках сидят
и пишут сотрудники редакции. Налево, у большой палатки синеет свитер Маруси,
поставившей пишущую машинку на табурет. Она стучит под сосенкой, как быстрый
дятел. Там же, налево, в лесу виднеются другие палатки. Одна из них --
радистки Екатерины Ильиничны и машинистки Маруси -- вынесена форпостом в
мелколесье направо, ее не видно.
-- Как мухоморы всюду выглядывают! -- смеется, подойдя ко мне,
Ильинична. Села на пень и рассказывает Всеволоду содержание сводки --
"упорные бои на Крымском полуострове" и о том, как зябко ей здесь и как надо
сделать нары повыше!
Хлебный паек достаточен! 8-я армия. Весна 1942 года.
смертью и сами уже, можно сказать, ворочались в ее лапах! Было сознание
героичности всего нами переживаемого. Даже в самых страшных трагедиях было
ощущение необыденности, исключительности непрестанного нашего подвига. Здесь
такого ощущения нет. Затишье!..
Конечно же и положение и это, и такое состояние духа -- явление
частное, местное, временное!
Мне хочется поездить опять по передовым, но все кругом убеждают меня,
что я напрасно стремлюсь "рыпаться", ибо нигде, ни в одном подразделении
армии, не найду решительно никакого боевого "материала": нигде ничего не
происходит. Сегодня политрук Курчавов, информатор политотдела, уговаривал
меня: "Наберитесь терпенья, поездка в любую часть была бы пустой тратой сил
и времени".
Не верю! Сидеть так не могу. Вот отредактировал за четыре дня книжку
Курчавова о действиях понтонеров на Неве в районе Невского "пятачка" осенью
-- зимой прошлого года и решил: как только переберемся из Полян на новое
местожительство, поеду по частям. Что-нибудь да найду! Если не как спецкор
ТАСС, то как писатель -- хотя бы для будущего!..
Вчера в редакции был сотрудник газеты "В решающий бой", приехавший из
соседней с нами 54-й армии. Рассказывает, что там так же тихо, как и здесь,
-- никаких боев, даже мелких. Действует только корпус Гагена, на днях он
продвинулся на четыре километра вперед, в направлении западнее Любани...
... Странно каждый день, по пути в столовую, смотреть на проходящие у
самой деревни рельсы безжизненной железной дороги. По ней до Ленинграда
семьдесят два километра. Из них километров двенадцать заняты немцами.
Сколько раз проезжал я в поезде по этой дороге! Думал ли когда-нибудь, что
вот буду жить в такой вот, никогда прежде не замечаемой мною деревушке; что
она станет первой линией фронта и что путь от нее до Ленинграда окажется
неодолимым для всей нашей страны на долгие месяцы!
А столбы высоковольтной линии, что стоят сейчас как мертвые пугала на
заброшенном огороде! Они --
без проводов. Провода пошли на всяческие саперные работы, на всякие
поделки. Они рассеяны по армии кусочками проволоки, употребленной для
удовлетворения самых мелких, порой попросту бытовых нужд!.. Сегодня немецкая
авиация опять бомбила Назию. Взрывы слышались близко, отчетливо...
Взгляд в глубину пространств
12 мая. Лес, северо-восточнее дер. Городище
Сегодня редакция "Ленинского пути" перебралась сюда, на заросшую мелким
молоднячком, заболоченную опушку высокого соснового леса. Странно, что почва
болотиста, -- ведь эти места находятся на значительной высоте над уровнем
Ладожского озера!
Через Жихарево и Троицкое ехал я сюда со Всеволодом Рождественским на
перегруженном редакционным имуществом грузовике. Дорога, с таким трудом
сооруженная по болоту, плоха, проседает, вся в рытвинах и буграх, болото
везде водянисто и глубоко. Только здесь, вокруг деревни Городище, местность
суше, здесь начинается жизнь: пашни разрыхлены, в бороздах; колхозницы в
ватных штанах, с граблями идут по дороге. Сельскохозяйственным работам
коегде помогают красноармейцы. В деревнях резвятся ребятишки, но каждая
деревня, конечно, превращена в военный лагерь, всюду лошади, обозы, военное
имущество, красноармейцы. В лесу -- в землянках и палатках -- располагается
теперь второй эшелон штаба армии. Немецкие самолеты проходят низко и, слышу,
то здесь, то там бомбят лес.
Я с Всеволодом расположился в большой палатке, превратив привезенные из
Полян ворота в нары, застлав их плащ-палаткой и выделив себе ложе среди
сваленных в кучу вещей.
Если выйти на край опушки, возвышенной над всей окружающей местностью,
то отсюда видны десятки километров пространств. На переднем плане -- грань
внешнего кольца блокады: прямо против нас --
церквушки деревни Лаврове, расположенной на нашем, восточном, берегу
Ладожского озера. Этой деревушке суждено сыграть огромную роль в обороне
Ленинграда: вдоль побережья строится важнейший для ладожских перевозок порт.
В озеро вытягиваются длинные строящиеся пирсы -- к ним после открытия
навигации будут причаливать десятки военных и транспортных судов. Они
привезут сюда десятки тысяч эвакуируемых ленинградцев и повезут отсюда к
западному берегу озера сотни тысяч тонн продовольствия, боеприпасов и других
грузов. Уже проложена зимою в Лаврово, в Кобону и далее, до косы Кареджи,
ветка железной дороги от Войбокалы; с 17 февраля начались работы по
организации в Лаврове крупнейшего эвакопункта. Скапливаются повсюду
гигантские запасы муки, сахара, масла, всяческого продовольствия для
ленинградцев.
Деревня Поляны, которую мы сегодня покинули, включается в новый
дополнительный пояс обороны, призванный уберечь ладожские перевозки от
вторжения врага. Уже присылаемые нашей армии войсковые резервы насытят этот
пояс надолбами, рвами, дзотами, всеми видами инженерных сооружений...
Разложив на сыроватой земле карту и поставив как надо компас, я изучаю
открывшиеся передо мною дали. Впереди, за деревней Лаврово, простираются
бело-голубоватые полосы Ладожского озера, еще не стаявшие его льды. Вот уже
больше двух недель никакого сообщения по озеру с ленинградским берегом нет.
От Большой земли Ленинград все еще отрезан везде, его блокада -- полная.
Понемногу доходят до меня подробности того, о чем писал раньше. Вот
они...
20 апреля поверх льда на озере разлилась вода. Машины шли, поднимая
колесами белые буруны. Шоферы умудрялись выискивать и огибать невидимые
промывины и полыньи. 23-го много машин утонуло, па следующий день ледовая
трасса была закрыта. Но и в тот и в следующий дни сотни людей, шагая по
воде, пронесли последний груз на своих спинах. Этот груз -- шестьдесят пять
тонн драгоцен-
ного лука -- был подарком населению Ленинграда к Первому мая.
Затем уже ни один человек не мог бы перейти озеро: 26 апреля оно
вскрылось, и до сих пор через озеро нет никакого пути. Сгрудившиеся под
напором свирепых ветров льдины забили всю Шлиссельбургскую губу, превратив
ее в хаос торосов.
Гляжу я на это озеро и вижу: за ним синеющей полоской тянутся леса
противоположного, западного берега, там -- ленинградская сторона кольца
блокады!
Вижу: впереди по ту сторону озера вдруг показался быстро движущийся
паровозный дым. Поезд идет влево и постепенно уходит за горизонт. Определяю
точно: этот поезд отошел от станции "Ладожское озеро" -- приходящейся по
компасу как раз на створе с деревней Лаврово. Он направился в Ленинград.
Что везет этот поезд "внутриблокадной" Ириновской железной дороги?
Напрягшись, как туго натянутая струна, она вынесла на себе зимою два
гигантских встречных потока -- эвакуантов из Ленинграда и -- от Ладоги в
Ленинград -- всего, что нужно для жизни и обороны города. Для ленинградцев
эта железнодорожная линия стала вместе с ледовой трассой "Дорогой жизни". Но
для многих самоотверженных железнодорожников, так же как и для шоферов
ледовой трассы, преодолевавших путь к Большой земле и обратно под бомбежками
с воздуха и обстрелом вражеской артиллерии, -- "Дорогой смерти"...
Как странно, как томительно для души видеть мне сейчас этот поезд, что
придет через несколько часов в Ленинград, бесконечно далекий отсюда,
терпеливо ждущий, когда же на Ладожском озере стают льды! Сколько дней --
неделю иль две? -- надо выдержать до открытия навигации?.. И какие еще
бомбежки предстоят тогда и этой маленькой деревушке Лаврово, в которую я
всматриваюсь сейчас, и кораблям Ладоги, и тысячам людей портов, строящихся
вдоль обоих ее берегов?
Вот левее видны темные полосы запятых немцами южных, шлиссельбургских
берегов губы. Немцы в
Шлиссельбурге и в Липках, конечно, тоже видели этот поезд, прослеживали
его путь и, наверное, обстреливали его из своих дальнобойных орудий!..
... Небо -- в облаках, между которыми гуляет слабо светящее солнце.
Воздух чудесен. Сижу на болотной кочке, подложив под себя шинель. На коленях
-- лист фанеры, в нем вырезана дырочка. В эту дырочку вставлена чернильница.
Пишу.
Кругом, в радиусе ста метров, на пеньках, на кочках, на дощечках сидят
и пишут сотрудники редакции. Налево, у большой палатки синеет свитер Маруси,
поставившей пишущую машинку на табурет. Она стучит под сосенкой, как быстрый
дятел. Там же, налево, в лесу виднеются другие палатки. Одна из них --
радистки Екатерины Ильиничны и машинистки Маруси -- вынесена форпостом в
мелколесье направо, ее не видно.
-- Как мухоморы всюду выглядывают! -- смеется, подойдя ко мне,
Ильинична. Села на пень и рассказывает Всеволоду содержание сводки --
"упорные бои на Крымском полуострове" и о том, как зябко ей здесь и как надо
сделать нары повыше!
 Командир роты разведчиков Н. Пресс (слева)
и командир отряда капитан Г. Ибрагимов
8-я армия. Май 1942 года.
тыевке -- на Батыевской горе. Ну, просто драчун был, драться любил!
Кроме того, я был боксером, выступал на динамовских соревнованиях по боксу,
-- это уже когда на военную службу пошел, входил в сборную Калининского
военного гарнизона... А когда служил в Эстонии и Латвии, в Тридцать
четвертом полку связи, было много неприятностей, потому что любил выпить:
восемнадцать внеочередных нарядов, тридцать с лишним суток ареста за девять
месяцев, один товарищеский суд и два раза хотели отдать в трибунал. Был
исключен из комсомола.
А когда началась война, я переключился на совершенно иную сторону и
начал жить по-новому. В тридцать четвертом полку шумят обо мне -- не верили,
что я человеком стану! Начальство сначала препятствовало моей работе в
разведке -- не доверяли. Но начальник разведотдела армии полковник Горшков и
ею помощник майор Телегин поручились, сказав,
что из меня выйдет человек. И потом сами же мною тыкали им в глаза.
Представили меня к присвоению звания младшего лейтенанта и к
правительственной награде (я получил медаль "За боевые заслуги", -- приказ
Ленфронта от третьего февраля сорок второго года) и рекомендовали в
партию... Но прежде, чем это произошло, я уже хорошо в боевых операциях
испытан был!
Наум Пресс, сидя на пеньке, поворачивает ко мне узкое свое лицо. У него
очень выразительный, узкий рот, ровные хорошие зубы, прямой нос. Черные
полукружия бровей как бы углубляют дерзкое и насмешливое выражение его
зеленовато-карих глаз. Худощавый, нервный, непоседливый, он, рассказывая о
себе, внимательно поглядывает на бойцов своей первой роты, каждый из которых
возле шалашей в лесочке занимается своим делом. И, то и дело осматриваясь --
так, как это делают летчики в полете, -- он как-то между прочим оценивает
все, что происходит вокруг него, все видит, все замечает, во всем отдает
себе отчет.
Он не только опытный разведчик, но и хороший снайпер:
-- У меня всего на счету сто тринадцать уничтоженных лично и один
пленный! Если б я был истребителем, вернее, если б моя задача была
истреблять фашистов, то, имея такое преимущество, как бесшумную винтовку, и
еще, что я их вижу, а они меня нет, -- я мог бы истреблять их сотнями, из
леса бить, и бить, и бить... Но...
Сам себя перебивая, Наум Пресс рассказывает мне историю за историей из
своего боевого опыта. А последняя из этих "историй" завершилась позавчера.
В ночь на 12 мая, за полтора суток до моего приезда сюда, лейтенант
Наум Пресс и политрук Иван Запашный со своей группой вышли из немецкого
тыла, совершив четырехсуточный рейд вдоль немецких дорог, протянувшихся
между деревнями Карбусель и Турышкино и между Малуксой и Пушечной горой. В
составе группы были старшие сержанты
Иосиф Воронцов и Владимир Желнин, сержант Алексеи Семенков, Иван
Зиновьев, рядовые бойцы Михаил Денисов, Николай Муравьев, Константин
Голубев, Семен Обухшвец и Николай Мосолов. Вся группа, вместе с Прессом,
состояла из одиннадцати человек.
-- Пятого мая, -- рассказывает Пресс, -- я выехал па передний край
Первой отдельной горнострелковой бригады для подготовки к переходу в тыл
противника. Со мной были мои помощники Воронцов, сержант Иван Зиновьев и
красноармеец Семен Обухшвец. Подготовку вели двое суток.
В этом году обстановка на переднем крае немцев значительно изменилась.
Было время -- линию фронта переходили где угодно. Теперь -- оборона у
противника густая, пройти трудно. Поэтому лазейку для перехода я решил
искать в болоте Малуксинский мох. Зимой снеговая наша дорога и линия обороны
проходили по западному берегу этого болота, теперь мы отошли за его
восточный край. Прежде чем выбрать место для перехода, я долго наблюдал на
болоте за насыщенностью артиллерийско-минометного огня немцев, за
пулеметно-ружейным огнем, за ракетами, прислушивался к шумам. Установил, что
справа и слева от меня опасности гораздо больше, а посередине, передо мной
-- затишье. Поэтому и выбрал для моей цели самую середину глубокого болота
-- это место немцы, видимо, считали непроходимым.
Вернулся в штаб горнострелковой бригады, вызвал по телефону своих
разведчиков. С ними приехали капитаны Ибрагимов, Григорьев и командир второй
роты старший лейтенант Кит Николаевич Черепивский. Собрались мы все в штабе
горнострелковой бригады, а вечером 7 мая группа отправилась к переднему краю
для перехода в тыл. 8 мая, вечером, вышли к болоту, до переднего края
капитан Ибрагимов и старший лейтенант Черепивский сопровождали группу. Там
они попрощались с нами.
Мы двинулись. Одеты были в шинели, а следовало бы одеться в куртки.
Некоторые из нас шли в порванных сапогах, даже в ботинках, и это, конечно,
непра-
вильно. Люди все шли хорошие -- и всегда люди хорошие, все всегда
зависит or командира: если он не боится, то и люди идут! А в шинелях шли --
на основании приказа о сдаче зимнего обмундирования. Но шапки теплые были.
Вооружены: десять автоматов и одна бесшумка, у всех гранаты -- по три ручных
малых и по одной противотанковой. У меня парабеллум и у старшего сержанта
Воронцова, моего помощника, сухари, сахар. У меня и у политрука Запашного --
масло. Индивидуальные пакеты -- у всех. Патроны -- по два диска. Семь
компасов, четыре карты. Водки не было -- нет приказа.
Вышли мы ночью из болота Малуксинский мох на немецкий передний край,
дошли до дороги. На дороге -- две подводы с ящиками, три лошади цугом: одна
впереди, две парой -- сзади. На подводах -- немцы. Пропустили мы их, метрах
в тридцати от нас. Дальше, за дорогой -- еще одна дорога, а по ней -- еще
две подводы с ящиками. Пропустили. Немцы шумно разговаривали. Немцы вообще
по одному на подводах не ездят, всегда по два-три человека. Боятся. Они даже
оправляться от места работы или от блиндажа не отходят, -- тут же. Ходят --
свистят, поют: наша земля пятки им жжет!
За второй дорогой -- оборонительные сооружения, без людей. Завал метров
пятьсот, проволочное заграждение. Траншеи, дзоты, блиндажи и котлованы для
установки артиллерии. Но -- пусто и тихо: людей нет. Прошли мы полкилометра,
залезая в воду по грудь, вода холодная, как иголками колет! Когда выходим,
становишься на колени, поднимаешь ногу высоко и выливаешь воду из сапога.
С рассветом остановились в лесу, разожгли костер. Надо уметь
раскладывать: нужны сухие ветки, но не гнилые и помельче; будет гореть
хорошо и не будет дыма, днем за тридцать метров не видно огня в лесу, огонь
сливается с дневным светом, а дыма почти совсем нет... Разделись,
обсушились, выставив двух часовых, они сменялись через каждые тридцать
минут. Сварили в котелках суп, кашу, поели и легли спать до вечера. Слышали
только шум на до-
роге -- машины, подводы. Вечером, когда двинулись в путь услышали
сигналы отбоя.
В ночь на девятое мая видим железную дорогу, и к ней подходит дорога на
стланях. Людей нет. Только справа слышна команда "хальт" -- пост остановил
какую-то подводу. Перешли мы дорогу. Все время -- вода, лес. Наткнулись на
шалаши, в них наши убитые бойцы, ржавые винтовки, лежат тут с осени. Трупы
-- цельные и сгоревшие. Целые сапоги. Товарищ Воронцов сменил свои сапоги.
Сумка из-под рации, -- осмотрели, бросили. Антенна, приборы, запасное
питание, плащ-палатки, гражданская куртка с каракулевым воротником... Но
везде все заминировано, поэтому пошли дальше. Привал, спали и с зарею
двинулись дальше. Наткнулись на строительство дороги, а перед тем наш путь
пересекла река Мга. Я приказал форсировать. Зиновьев: "Тут по горло!" Я:
"Откуда ты знаешь? Ты пробовал?" И посмотрел на него со злостью, -- так он с
берега прыгнул сразу и -- по горло. И -- обратно. И пошли мы вправо, вдоль
берега -- до дороги. Немецкие саперы работали, строили ее. Одеты по форме,
все бриты, стрижены, в куртках. Офицеров мы не видели, но дружно работают,
слышны команды, очень шумят.
Тут эпизод с Обухшвецом -- отстал, оправлялся. Бойцы; "Он сдался в
плен!" Это было неверно, он просто отстал, не выполнил приказания. Я стал
"чистить" всех, что не передали приказания по цепи. И когда тот явился: "Где
был? Почему отстал?" Молчит. Я крепко дал ему. Он: "Знаю, товарищ лейтенант,
что виноват". И дальше: "Простите меня, товарищ лейтенант!" А знаю его: боец
хороший. Ну, оставит без внимания. Саперы ушли, бросив работу в семь часов
вечера. И мы перешли дорогу, пошли дальше, заночевали в лесу.
На рассвете десятого мая--костер. Потом приблизились к железной дороге,
выслали разведку: где удобней пройти, где ближе лес подходит, где нет
насыпи? Подошли сами. Наблюдаем из лесной опушки за поездами. Видели
товарные поезда -- паровозы
наши, вагоны и наши и немецкие. На их платформах высокие борты и
немецкие надписи. Поезда составлены с предосторожностью: впереди -- целая
колонна пустых вагонов. У одного поезда, например, восемнадцать платформ,
затем -- паровоз, затем -- пассажирский вагон и товарные пульмановские
вагоны. Порожняк шел на Мгу от станции Новая Малукса. Шесть поездов таких
прошло. Мы слышали, наши самолеты такую давали -- бомбили Мгу! Немецких
самолетов даже и не видно было.
Перешли мы железную дорогу, вода -- по глотку, как заползли в болото,
-- и купаемся по пояс. Тина, сапоги полные, тяжело, еле ногу вытаскиваем...
Привал и отдых до шести вечера. Костер. Под вечер, около восьми часов, вышли
к дороге Карбусель -- Турышкино, разведали ее: где лучше сделать засаду?
Потом провели подготовительные работы для засады -- натаскали веток к
дороге, замаскировались, договорились, как действовать: группа прикрытия --
по двое с двух сторон; группа захвата -- семь человек; всем кричать "хальт!"
и всем подниматься, включая группу прикрытия. Стрелять только в крайности.
Ждем часа два -- никакого движения. Потом один велосипедист со стороны
Карбусели едет. Я поднимаюсь из-за кустов: "Хальт!" Немец -- это был
оберротмистр -- стал и посмотрел в мою сторону. Тут сбоку: "Хальт!", со всех
сторон: "Хальт!.. " Он было за пистолет, но испугался и -- назад, бежать по
дороге. Очень крепко бежал, длинные ноги, особенно испугался автоматов.
Отбежал метров сто двадцать, мы все сразу из десяти автоматов -- огонь, и
как сноп он свалился от дороги в канаву. Тут немцы из леса стрельбу:
винтовки, автоматы поблизости, прямо перед ним. Мы наскоро осмотрели
карманы, захватили документы, портфель, шинель и убежали в лес. И уволокли
было с собою велосипед, да потом бросили.
В двух километрах от дороги сделали на ночь привал, все проверили.
Покушали то, что нашли у него: две пачки печенья, тридцать три штуки
шоколадных
конфет, плитку шоколаду. Раскурили пять пачек сигар, запечатанных в
каких-то пакетиках-конвертах, и -- спать, выставив часовых. Ночью --
бомбежка Мги.
Утром одиннадцатого мая -- путь к дороге Малукса -- Пушечная гора, по
гористой местности. Напоролись на артиллерийскую батарею. Шли по азимугу
примерно на восток, приблизились к просеке-дорожке. Когда подошли и я
высунулся, как раз -- семь лошадей верховых и на них пять всадников, солдат.
В пяти метрах! Я рукой подал знак: "ложись", и все легли в болото, и немцы
не заметили, хоть лесок не густой, -- разговаривали, не смотрели по
сторонам. А за ними -- артиллерия, конница. Проход невозможен. Выхода нет:
слева -- незачем, впереди -- просека, едут... Все же взял на юг, в болото,
по горло, чуть не утопая, отошли, и- опять по азимуту на восток. И-- к
дороге, на выход! Слыхали близко стрельбу, кто-то крепко храпел; метров
пятьдесят не дошли до блиндажей, где они были, а храпевший остался от нас в
четырех шагах. Приняли правей, пошли на юг к Малуксе -- на выход. Увидели
вторую линию немецкой обороны, пустые блиндажи, завал, минное поле.
Рассматриваешь, идешь, -- поле зимнее, мины почти сверху! Прошли его, дошли
до боевого охранения.
Немец нам вслед бросил ракету. И тут напоролись мы вплотную на группу
немцев. Красноармеец Мосолов шел первым, они хотели его схватить, но увидели
других наших, убежали, подняли тревогу, стали бросать белые ракеты, но мы
ушли в лес, в болото Малуксинский мох. Когда мы залегли, красноармеец
Голубов, стоя возле дерева, заснул, упал. Растолкали его, пошли дальше.
Голубов в болоте спал на ходу, ушел в глубину болота, стал тонуть, закричал:
"Братцы, спасите!" Вытащили! И по болоту -- к нашему взводу автоматчиков...
Там нас ждал командир роты Черепивский, поцеловался со всеми, сказал,
что нас считали погибшими: судя по донесению дивизионной разведки, за нами
погнались пятнадцать фашистских автоматчиков и закрыли здесь обратный
проход.
Нас кормили, нам дали отдых. Мы обсушились, пошли в штаб бригады,
откуда позвонили в отряд, и за нами немедленно выслали машину. Мы сели,
поехали. На перекрестке, у Восьмого поселка нас атаковал "хейнкель -- сто
тринадцать". Мы с ходу, с машины, открыли групповой автоматный огонь, и
"хейнкель" "пикнул" прямо в землю, в лес -- взметнулись огонь и дым. Вообще
весело было, а тут еще веселее! Приехал сюда, здесь -- подполковник Милеев и
наш капитан Ибрагимов. Я доложил, сдал документы, шинель, портфель, все
подробности рассказал. Нам сюда же, в машину-штаб, подали обед с водкой.
Пообедали, выпили. И потом баня -- уже была подготовлена. Помещение чистое,
хороший стол, постели, пища, музыка -- патефон, гармошка, струнный
оркестр!.. Подполковник приказал всем спать, дал пять суток на отдых -- ни
работ, ни занятий. Вот отдыхаем сейчас. Нас, по совокупности с прежними
делами, отмечают, представили к правительственным наградам -- всем медали, а
меня -- к ордену.
Коротко результаты разведки: определили дислокацию немецкой дивизии,
захватили документы, среди них -- приказ о том, что наступления русских
здесь не ожидается. Все целы, благополучны, здоровы. Готовимся к дальнейшей
работе.
О самолете, который мы подбили, есть подтверждение от начальника
химслужбы сто двенадцатого инженерного батальона (он ехал с нами в машине) и
от наблюдателей поста ВНОС -- с вышки...
... Лейтенант Наум Пресс, глядя вдаль будто подернутыми болотной тиной
глазами, рассказал мне и другие эпизоды из своей практики -- о лыжном рейде,
зимой, в район Шапки -- Тосно, когда, заложив мины на дороге, восемь
разведчиков взорвали немецких пехотинцев, порезали линии связи, определили
систему огневых точек противника. Рассказал о рейде в немецкий тыл, за
Веняголово, когда 13 апреля десять разведчиков захватили в боевой схватке
обер-ефрейтора штабной роты 5-й немецкой горнострелковой дивизии ("Горной
козы") Генриха Ерл, -- ходил тогда Пресс со старшим сержантом Мед-
ведевым, с бойцом Обухшвецом и с другими людьми.
Когда Пресс заговорил с пленником по-немецки, этот немец очень
обрадовался и заявил: "Хэр лейтенант, дайте слово, что меня не расстреляют,
я завтра же сниму свою форму, надену вашу и пойду с вами в немецкий тыл!" И
затем прикидывался, как это обычно делают пленные фрицы, чуть ли не
коммунистом. Доставленный в штаб 1-й отдельной горнострелковой бригады, он
дал очень ценные показания.
Пресс говорил и о других рейдах -- по заданию 294-й стрелковой дивизии
и по заданиям других частей, которым нужно было найти проходы в линии
немецкой обороны, разведать систему огневых точек противника и лишить его
связи, добыть "языка" или документы...
Командир роты разведчиков Н. Пресс (слева)
и командир отряда капитан Г. Ибрагимов
8-я армия. Май 1942 года.
тыевке -- на Батыевской горе. Ну, просто драчун был, драться любил!
Кроме того, я был боксером, выступал на динамовских соревнованиях по боксу,
-- это уже когда на военную службу пошел, входил в сборную Калининского
военного гарнизона... А когда служил в Эстонии и Латвии, в Тридцать
четвертом полку связи, было много неприятностей, потому что любил выпить:
восемнадцать внеочередных нарядов, тридцать с лишним суток ареста за девять
месяцев, один товарищеский суд и два раза хотели отдать в трибунал. Был
исключен из комсомола.
А когда началась война, я переключился на совершенно иную сторону и
начал жить по-новому. В тридцать четвертом полку шумят обо мне -- не верили,
что я человеком стану! Начальство сначала препятствовало моей работе в
разведке -- не доверяли. Но начальник разведотдела армии полковник Горшков и
ею помощник майор Телегин поручились, сказав,
что из меня выйдет человек. И потом сами же мною тыкали им в глаза.
Представили меня к присвоению звания младшего лейтенанта и к
правительственной награде (я получил медаль "За боевые заслуги", -- приказ
Ленфронта от третьего февраля сорок второго года) и рекомендовали в
партию... Но прежде, чем это произошло, я уже хорошо в боевых операциях
испытан был!
Наум Пресс, сидя на пеньке, поворачивает ко мне узкое свое лицо. У него
очень выразительный, узкий рот, ровные хорошие зубы, прямой нос. Черные
полукружия бровей как бы углубляют дерзкое и насмешливое выражение его
зеленовато-карих глаз. Худощавый, нервный, непоседливый, он, рассказывая о
себе, внимательно поглядывает на бойцов своей первой роты, каждый из которых
возле шалашей в лесочке занимается своим делом. И, то и дело осматриваясь --
так, как это делают летчики в полете, -- он как-то между прочим оценивает
все, что происходит вокруг него, все видит, все замечает, во всем отдает
себе отчет.
Он не только опытный разведчик, но и хороший снайпер:
-- У меня всего на счету сто тринадцать уничтоженных лично и один
пленный! Если б я был истребителем, вернее, если б моя задача была
истреблять фашистов, то, имея такое преимущество, как бесшумную винтовку, и
еще, что я их вижу, а они меня нет, -- я мог бы истреблять их сотнями, из
леса бить, и бить, и бить... Но...
Сам себя перебивая, Наум Пресс рассказывает мне историю за историей из
своего боевого опыта. А последняя из этих "историй" завершилась позавчера.
В ночь на 12 мая, за полтора суток до моего приезда сюда, лейтенант
Наум Пресс и политрук Иван Запашный со своей группой вышли из немецкого
тыла, совершив четырехсуточный рейд вдоль немецких дорог, протянувшихся
между деревнями Карбусель и Турышкино и между Малуксой и Пушечной горой. В
составе группы были старшие сержанты
Иосиф Воронцов и Владимир Желнин, сержант Алексеи Семенков, Иван
Зиновьев, рядовые бойцы Михаил Денисов, Николай Муравьев, Константин
Голубев, Семен Обухшвец и Николай Мосолов. Вся группа, вместе с Прессом,
состояла из одиннадцати человек.
-- Пятого мая, -- рассказывает Пресс, -- я выехал па передний край
Первой отдельной горнострелковой бригады для подготовки к переходу в тыл
противника. Со мной были мои помощники Воронцов, сержант Иван Зиновьев и
красноармеец Семен Обухшвец. Подготовку вели двое суток.
В этом году обстановка на переднем крае немцев значительно изменилась.
Было время -- линию фронта переходили где угодно. Теперь -- оборона у
противника густая, пройти трудно. Поэтому лазейку для перехода я решил
искать в болоте Малуксинский мох. Зимой снеговая наша дорога и линия обороны
проходили по западному берегу этого болота, теперь мы отошли за его
восточный край. Прежде чем выбрать место для перехода, я долго наблюдал на
болоте за насыщенностью артиллерийско-минометного огня немцев, за
пулеметно-ружейным огнем, за ракетами, прислушивался к шумам. Установил, что
справа и слева от меня опасности гораздо больше, а посередине, передо мной
-- затишье. Поэтому и выбрал для моей цели самую середину глубокого болота
-- это место немцы, видимо, считали непроходимым.
Вернулся в штаб горнострелковой бригады, вызвал по телефону своих
разведчиков. С ними приехали капитаны Ибрагимов, Григорьев и командир второй
роты старший лейтенант Кит Николаевич Черепивский. Собрались мы все в штабе
горнострелковой бригады, а вечером 7 мая группа отправилась к переднему краю
для перехода в тыл. 8 мая, вечером, вышли к болоту, до переднего края
капитан Ибрагимов и старший лейтенант Черепивский сопровождали группу. Там
они попрощались с нами.
Мы двинулись. Одеты были в шинели, а следовало бы одеться в куртки.
Некоторые из нас шли в порванных сапогах, даже в ботинках, и это, конечно,
непра-
вильно. Люди все шли хорошие -- и всегда люди хорошие, все всегда
зависит or командира: если он не боится, то и люди идут! А в шинелях шли --
на основании приказа о сдаче зимнего обмундирования. Но шапки теплые были.
Вооружены: десять автоматов и одна бесшумка, у всех гранаты -- по три ручных
малых и по одной противотанковой. У меня парабеллум и у старшего сержанта
Воронцова, моего помощника, сухари, сахар. У меня и у политрука Запашного --
масло. Индивидуальные пакеты -- у всех. Патроны -- по два диска. Семь
компасов, четыре карты. Водки не было -- нет приказа.
Вышли мы ночью из болота Малуксинский мох на немецкий передний край,
дошли до дороги. На дороге -- две подводы с ящиками, три лошади цугом: одна
впереди, две парой -- сзади. На подводах -- немцы. Пропустили мы их, метрах
в тридцати от нас. Дальше, за дорогой -- еще одна дорога, а по ней -- еще
две подводы с ящиками. Пропустили. Немцы шумно разговаривали. Немцы вообще
по одному на подводах не ездят, всегда по два-три человека. Боятся. Они даже
оправляться от места работы или от блиндажа не отходят, -- тут же. Ходят --
свистят, поют: наша земля пятки им жжет!
За второй дорогой -- оборонительные сооружения, без людей. Завал метров
пятьсот, проволочное заграждение. Траншеи, дзоты, блиндажи и котлованы для
установки артиллерии. Но -- пусто и тихо: людей нет. Прошли мы полкилометра,
залезая в воду по грудь, вода холодная, как иголками колет! Когда выходим,
становишься на колени, поднимаешь ногу высоко и выливаешь воду из сапога.
С рассветом остановились в лесу, разожгли костер. Надо уметь
раскладывать: нужны сухие ветки, но не гнилые и помельче; будет гореть
хорошо и не будет дыма, днем за тридцать метров не видно огня в лесу, огонь
сливается с дневным светом, а дыма почти совсем нет... Разделись,
обсушились, выставив двух часовых, они сменялись через каждые тридцать
минут. Сварили в котелках суп, кашу, поели и легли спать до вечера. Слышали
только шум на до-
роге -- машины, подводы. Вечером, когда двинулись в путь услышали
сигналы отбоя.
В ночь на девятое мая видим железную дорогу, и к ней подходит дорога на
стланях. Людей нет. Только справа слышна команда "хальт" -- пост остановил
какую-то подводу. Перешли мы дорогу. Все время -- вода, лес. Наткнулись на
шалаши, в них наши убитые бойцы, ржавые винтовки, лежат тут с осени. Трупы
-- цельные и сгоревшие. Целые сапоги. Товарищ Воронцов сменил свои сапоги.
Сумка из-под рации, -- осмотрели, бросили. Антенна, приборы, запасное
питание, плащ-палатки, гражданская куртка с каракулевым воротником... Но
везде все заминировано, поэтому пошли дальше. Привал, спали и с зарею
двинулись дальше. Наткнулись на строительство дороги, а перед тем наш путь
пересекла река Мга. Я приказал форсировать. Зиновьев: "Тут по горло!" Я:
"Откуда ты знаешь? Ты пробовал?" И посмотрел на него со злостью, -- так он с
берега прыгнул сразу и -- по горло. И -- обратно. И пошли мы вправо, вдоль
берега -- до дороги. Немецкие саперы работали, строили ее. Одеты по форме,
все бриты, стрижены, в куртках. Офицеров мы не видели, но дружно работают,
слышны команды, очень шумят.
Тут эпизод с Обухшвецом -- отстал, оправлялся. Бойцы; "Он сдался в
плен!" Это было неверно, он просто отстал, не выполнил приказания. Я стал
"чистить" всех, что не передали приказания по цепи. И когда тот явился: "Где
был? Почему отстал?" Молчит. Я крепко дал ему. Он: "Знаю, товарищ лейтенант,
что виноват". И дальше: "Простите меня, товарищ лейтенант!" А знаю его: боец
хороший. Ну, оставит без внимания. Саперы ушли, бросив работу в семь часов
вечера. И мы перешли дорогу, пошли дальше, заночевали в лесу.
На рассвете десятого мая--костер. Потом приблизились к железной дороге,
выслали разведку: где удобней пройти, где ближе лес подходит, где нет
насыпи? Подошли сами. Наблюдаем из лесной опушки за поездами. Видели
товарные поезда -- паровозы
наши, вагоны и наши и немецкие. На их платформах высокие борты и
немецкие надписи. Поезда составлены с предосторожностью: впереди -- целая
колонна пустых вагонов. У одного поезда, например, восемнадцать платформ,
затем -- паровоз, затем -- пассажирский вагон и товарные пульмановские
вагоны. Порожняк шел на Мгу от станции Новая Малукса. Шесть поездов таких
прошло. Мы слышали, наши самолеты такую давали -- бомбили Мгу! Немецких
самолетов даже и не видно было.
Перешли мы железную дорогу, вода -- по глотку, как заползли в болото,
-- и купаемся по пояс. Тина, сапоги полные, тяжело, еле ногу вытаскиваем...
Привал и отдых до шести вечера. Костер. Под вечер, около восьми часов, вышли
к дороге Карбусель -- Турышкино, разведали ее: где лучше сделать засаду?
Потом провели подготовительные работы для засады -- натаскали веток к
дороге, замаскировались, договорились, как действовать: группа прикрытия --
по двое с двух сторон; группа захвата -- семь человек; всем кричать "хальт!"
и всем подниматься, включая группу прикрытия. Стрелять только в крайности.
Ждем часа два -- никакого движения. Потом один велосипедист со стороны
Карбусели едет. Я поднимаюсь из-за кустов: "Хальт!" Немец -- это был
оберротмистр -- стал и посмотрел в мою сторону. Тут сбоку: "Хальт!", со всех
сторон: "Хальт!.. " Он было за пистолет, но испугался и -- назад, бежать по
дороге. Очень крепко бежал, длинные ноги, особенно испугался автоматов.
Отбежал метров сто двадцать, мы все сразу из десяти автоматов -- огонь, и
как сноп он свалился от дороги в канаву. Тут немцы из леса стрельбу:
винтовки, автоматы поблизости, прямо перед ним. Мы наскоро осмотрели
карманы, захватили документы, портфель, шинель и убежали в лес. И уволокли
было с собою велосипед, да потом бросили.
В двух километрах от дороги сделали на ночь привал, все проверили.
Покушали то, что нашли у него: две пачки печенья, тридцать три штуки
шоколадных
конфет, плитку шоколаду. Раскурили пять пачек сигар, запечатанных в
каких-то пакетиках-конвертах, и -- спать, выставив часовых. Ночью --
бомбежка Мги.
Утром одиннадцатого мая -- путь к дороге Малукса -- Пушечная гора, по
гористой местности. Напоролись на артиллерийскую батарею. Шли по азимугу
примерно на восток, приблизились к просеке-дорожке. Когда подошли и я
высунулся, как раз -- семь лошадей верховых и на них пять всадников, солдат.
В пяти метрах! Я рукой подал знак: "ложись", и все легли в болото, и немцы
не заметили, хоть лесок не густой, -- разговаривали, не смотрели по
сторонам. А за ними -- артиллерия, конница. Проход невозможен. Выхода нет:
слева -- незачем, впереди -- просека, едут... Все же взял на юг, в болото,
по горло, чуть не утопая, отошли, и- опять по азимуту на восток. И-- к
дороге, на выход! Слыхали близко стрельбу, кто-то крепко храпел; метров
пятьдесят не дошли до блиндажей, где они были, а храпевший остался от нас в
четырех шагах. Приняли правей, пошли на юг к Малуксе -- на выход. Увидели
вторую линию немецкой обороны, пустые блиндажи, завал, минное поле.
Рассматриваешь, идешь, -- поле зимнее, мины почти сверху! Прошли его, дошли
до боевого охранения.
Немец нам вслед бросил ракету. И тут напоролись мы вплотную на группу
немцев. Красноармеец Мосолов шел первым, они хотели его схватить, но увидели
других наших, убежали, подняли тревогу, стали бросать белые ракеты, но мы
ушли в лес, в болото Малуксинский мох. Когда мы залегли, красноармеец
Голубов, стоя возле дерева, заснул, упал. Растолкали его, пошли дальше.
Голубов в болоте спал на ходу, ушел в глубину болота, стал тонуть, закричал:
"Братцы, спасите!" Вытащили! И по болоту -- к нашему взводу автоматчиков...
Там нас ждал командир роты Черепивский, поцеловался со всеми, сказал,
что нас считали погибшими: судя по донесению дивизионной разведки, за нами
погнались пятнадцать фашистских автоматчиков и закрыли здесь обратный
проход.
Нас кормили, нам дали отдых. Мы обсушились, пошли в штаб бригады,
откуда позвонили в отряд, и за нами немедленно выслали машину. Мы сели,
поехали. На перекрестке, у Восьмого поселка нас атаковал "хейнкель -- сто
тринадцать". Мы с ходу, с машины, открыли групповой автоматный огонь, и
"хейнкель" "пикнул" прямо в землю, в лес -- взметнулись огонь и дым. Вообще
весело было, а тут еще веселее! Приехал сюда, здесь -- подполковник Милеев и
наш капитан Ибрагимов. Я доложил, сдал документы, шинель, портфель, все
подробности рассказал. Нам сюда же, в машину-штаб, подали обед с водкой.
Пообедали, выпили. И потом баня -- уже была подготовлена. Помещение чистое,
хороший стол, постели, пища, музыка -- патефон, гармошка, струнный
оркестр!.. Подполковник приказал всем спать, дал пять суток на отдых -- ни
работ, ни занятий. Вот отдыхаем сейчас. Нас, по совокупности с прежними
делами, отмечают, представили к правительственным наградам -- всем медали, а
меня -- к ордену.
Коротко результаты разведки: определили дислокацию немецкой дивизии,
захватили документы, среди них -- приказ о том, что наступления русских
здесь не ожидается. Все целы, благополучны, здоровы. Готовимся к дальнейшей
работе.
О самолете, который мы подбили, есть подтверждение от начальника
химслужбы сто двенадцатого инженерного батальона (он ехал с нами в машине) и
от наблюдателей поста ВНОС -- с вышки...
... Лейтенант Наум Пресс, глядя вдаль будто подернутыми болотной тиной
глазами, рассказал мне и другие эпизоды из своей практики -- о лыжном рейде,
зимой, в район Шапки -- Тосно, когда, заложив мины на дороге, восемь
разведчиков взорвали немецких пехотинцев, порезали линии связи, определили
систему огневых точек противника. Рассказал о рейде в немецкий тыл, за
Веняголово, когда 13 апреля десять разведчиков захватили в боевой схватке
обер-ефрейтора штабной роты 5-й немецкой горнострелковой дивизии ("Горной
козы") Генриха Ерл, -- ходил тогда Пресс со старшим сержантом Мед-
ведевым, с бойцом Обухшвецом и с другими людьми.
Когда Пресс заговорил с пленником по-немецки, этот немец очень
обрадовался и заявил: "Хэр лейтенант, дайте слово, что меня не расстреляют,
я завтра же сниму свою форму, надену вашу и пойду с вами в немецкий тыл!" И
затем прикидывался, как это обычно делают пленные фрицы, чуть ли не
коммунистом. Доставленный в штаб 1-й отдельной горнострелковой бригады, он
дал очень ценные показания.
Пресс говорил и о других рейдах -- по заданию 294-й стрелковой дивизии
и по заданиям других частей, которым нужно было найти проходы в линии
немецкой обороны, разведать систему огневых точек противника и лишить его
связи, добыть "языка" или документы...
 Командир роты ставит задачу разведчикам,
направляемым в тыл врага. 8-я армия.
Май 1942 года.
С рассветом, двенадцатого, -- труба, подъем играют у них. Поднялись
фрицы, разговоры, шум у них, завтракают они, и сразу пошли на работу. Метров
пятьдесят шли возле нас и тут и работали. Отползли мы метров на сто, -- все
березнячок, кустарник. Тут сидели день. Ходили, наблюдали -- я, Баженов,
Денисов...
Вечером решили воротиться и сделать засаду там, где у них с передовой в
тыл проходит линия связи. Просидели в засаде до трех часов ночи, -- это уже
тринадцатое мая. Стало светаться, пошли на их шалаши, на их первой линии,
передовой, хотели блокировать. Впереди шли Овчинников и Баженов дозором,
нарвались на патруль. Два немца, которые были за деревьями, крикнули: "Уки
ввех!" Мы бы их, возможно, уложили, но они были за толстыми деревьями. Они
открыли огонь -- шесть выстрелов из винтовки. Мы -- за кусты, назад, в
немецкую сторону, глубже, и перебежали их дорогу, и дальше к ним, в тыл. Но
опять попали на двоих -- патруль. Они подняли шум, и мы решили отступить, --
кругом немцы взволновались. Отошли мы на восток, к мостовой дороге, тут еще
два патруля. Мы опять назад, к немцам в тыл, сдали. И кругом обошли их, и --
снова на восток, чтоб выйти на свою передовую. В лесу провели день, таились,
спали...
Опять ночь. Когда подошли к мостовой в другом месте, то оказалось: у
них вышка и избушки, пять штук на дороге, одна от другой далеко. С вышки нас
не заметили, спали там, а у отдельной избушки -- один стоял, видел и --
ничего! За своих принял, что ли? Мы отошли метров двести в сторону,
поворотили строго на север и опять -- через дорогу, и -- на восток, по
болоту. И спокойно, под рассвет, вышли к себе, еще по кустам клюкву собирали
(потому что выходили в разведку, взяли только колбасы да по три сухаря).
Пришли в роту к автоматчикам, здесь нас ждал Черепивский. Он волновался за
нас и плакал, и снились мы ему...
Четырнадцатого день отдыхали, сушились, кушали. Медведева командир роты
Черепивский отстранил
за неправильное руководство: когда мы туда ходили, Медведев настаивал
днем взять "языка", где нельзя было: "пускай, говорил, семь человек
погибнут, один останется!" -- котелок не варил!
Тут пошли под моим руководством... Вот теперь расскажу, как ходили
второй раз... Черепивский приказал идти к тем пяти избушкам, которые мы
приметили, -- одна в стороне, ее, значит, велел блокировать.. И вот что
получилось тут...
Часов в десять вечера, четырнадцатого, пошли... Л Медведеву Черепивский
заявил, чтоб он оправдал доверие, и Медведев теперь шел под моим началом...
Дошли до места нормально, часов в двенадцать, часа два сидели возле избушки,
не доходя метров ста, они не спали, шуму у них много было: смех, стучали,
разговоры. Мы прямо на болоте лежали, в воде.
Часов с двух, когда они утихли, мы начали действовать. Перешли их
оборону и решили зайти к избушке с тыла и напасть. Дошли до их связи,
перерезали связь. И сразу я выделил группу захвата, четырех человек
(Овчинников, Медведев, Баженов и Мохов), а сам с тремя остался метрах в пяти
сзади, на мостовой.
Я им приказал, не доходя метров пятнадцать до избушки, бросать гранаты
по избушке. Они так и сделали, бросили восемь гранат. И сразу же кинулись к
ней все. Когда мы набросились на избушку, видим, под ней -- землянка, и там
у них паника, шум, команда, открывают по одному дверь дощатую. Гранату
выбросит, и выскочит, и сразу драпать по мостовой -- человек пять выскочило,
побросали свои винтовки.
Когда мы подбежали вплотную, стали бросать гранаты в дверь под избушку,
-- первым Овчинников бросил. Тут сразу стоны, крики, шум, не поймешь, чего у
них было. Так еще штук восемь мы бросили, -- я бросил две, Баженов -- две...
Перебили мы, наверное, половину тех, кто в землянке был. Овчинников собрал
брошенные винтовки, прислонил их к избушке. Тут мы были уже ранены теми
гранатами, что выбегавшие немцы бросили. Медведев ко мне: "Меня
ранило!" Я: "Отойди метров на двадцать в болото и дожидай!" И еще у
Медведева одну гранату взял, потому что меня ранило в палец, автомат вышибло
и диску потерял. Тут Денисова ранило, он ничего не сказал, самовольно ушел,
-- не знал я, куда. Овчинникова и Баженова тоже ранило, они доложили.
Отошли все на болото, я один остался проверить, все ли налицо, и тоже
взял отошел. А с Баландюком так было: он шел после всех, когда наступали.
Когда мы отступили, нас собралось пять человек (а троих -- нету). Я: "Где же
люди?" Мохов: "Двое ушло!" (А я знал, что трое, потому что Медведева сам
отослал). Думаю: все люди! Убедился, что все, -- и пошли. Кричали:
"Баландюк, Денисов!.. "
Баландюка убило, потому что ему деваться иначе некуда, в плен некому
было забрать, немцев, кроме пяти убежавших, снаружи никого не было, кто жив
-- в землянке остался, трусили, наружу не вылезали. Мы с час стояли там,
метрах в двадцати, -- ничего не слыхать. Значит, убило. Когда пришли к
командиру роты, то стали пересчитывать всех: семь человек, а восьмого нет.
Мы еще надеялись: может, Баландюк первым до командира роты добрался, но
здесь его тоже не обнаружилось. Я потом, по приказанию Черепивского ("Надо
-- на выручку!"), трех человек направил искать по болоту, -- не нашли,
ничего не оказалось...
Здоровый, загорелый, большелицый Бойко умолк, опустив свои светлые,
большие, красивые глаза. Заговорил Баженов:
-- Баландюк шел в метре от меня. Когда граната взорвалась в двух метрах
от меня, я бежал, меня задело. Пробило мне петлицу, несколько дыр в шинели,
щеку и руку в двух местах задело. Я все внимание бросил на землянку --
некогда было. Той гранатой, наверно, Баландюка убило...
Бойко поднял глаза:
-- Все нападение минут двадцать длилось. Взяли у них брошенное оружие
-- все пять винтовок. Овчинников нес их, как дрова, и все их притащил.
Хорошо действовал. Главное дело, и в ногу раненный, и в руку.
I
А другие винтовки пирамидой с тыльной стороны избушки стояли, видели мы
их, да забежать туда не удалось... Немцев было убито человек пятнадцать как
минимум, а было их там, если по винтовкам считать, наверно, до тридцати...
Всего нами брошено шестнадцать гранат. Стрельбы немцы не открывали. А мы
автоматами действовали, но удивительно: все они отказали!..
На этом вчера мои разговоры с группой разведчиков закончились. Но
сегодня мне захотелось разобраться во всех обстоятельствах этого дела
подробнее. Пресс защищал в моем мнении Медведева (служившего раньше у него
во взводе), которого после первой неудачи Черепивский по настоянию группы
снял с командования. Кто-то даже поговаривал, что Медведев струсил. Пресс по
этому поводу сказал мне, что Медведев никак не трус, боец он хороший,
смелый, а трусили, по-видимому, прочие. И объяснил, почему у него такое
хорошее мнение о Медведеве: Медведев как-то ходил с ним в немецкий тыл
разбивать дзоты и блиндажи. Это было сделано, но потом пришлось отходить с
боем, Медведев оказался отдельно с двумя бойцами -- прикрывали отход
остальных. Один из бойцов был ранен. Медведев сначала долго нес его под
огнем сам, потом нес со своим товарищем. Разрывом мины раненый был добит.
Они продолжали, однако, нести его труп. Спутника Медведева также убило.
Нести двоих в глубоком тылу он не мог. Тогда он взял у обоих оружие и вышел
из боя, принеся их оружие. (Документов у них не было -- были сданы перед
рейдом. )
Я вызвал сегодня Медведева. Кто он? Родился в восемнадцатом году в
Смоленской области, до войны был слесарем-монтажником, работал в Аркадаке,
Омске, Челябинске и в других городах Сибири, потом -- в Кушке,
Петропавловске и в Москве -- всюду, куда его отправляли в командировки как
специалиста по монтажу железнодорожных мостов. Кандидат партии. Холост.
Участвовал в финской войне командиром отделения, курсантом, в 70-й
стрелковой дивизии, на Карельском перешейке. В Отечественной -- с начала.
Был ранен в ноябре, под Колпином. Разведчиком по тылам врага ходил
второй раз.
Белобрысый, с белесыми бровями, широколицый, курносый, он коренаст,
приземист. Долго сидел со мною в шалаше, глядя на меня серыми глазами,
весело рассказывал, смеялся. На меня он произвел хорошее впечатление.
Главное недовольство им, как сказал мне вчера Бойко, вызвано было его
заявлением в тылу врага: "Останемся здесь, возьмем "языка", пусть хоть один
выйдет на нашу передовую, а мы будем прикрывать его огнем, и пусть все мы
отдадим жизнь за Родину, а задача будет выполнена!" Так вот, мол, им
недовольны, решение это, мол, бестолково, ибо к тому не было необходимости.
Из рассказов Медведева я сделал вывод: факт несомненен один -- Медведев
не сумел взять бойцов крепко, по-командирски, в свои руки, слишком много их
спрашивал, советовался с ними ("Я хотел как бы помягче, миром, без
окрика!"), а такой метод в тех условиях негож, -- боец рассуждал каждый
по-своему, придумывая собственные варианты дальнейших действий, и оспаривал
решения Медведева. Бойцы фактически вышли из повиновения, и получилась
неразбериха. И не поняли они Медведева, -- он имел в виду вызвать в них
готовность к самопожертвованию в том случае, если это понадобится, -- только
в том случае!
Когда я отпустил Медведева, ко мне в палатку пришел Черепивский --
поближе познакомиться, побеседовать со мной. Его любят бойцы, любят его и
командиры, -- человек он душевный, о бойцах заботится. Спокойный,
положительный, понравился он и мне. И вот что он рассказал о Медведеве, о
Бойко, об их рейде:
-- Вопрос в руководстве! Самое тяжелое -- управление людьми. Люди у пас
золотые. Но когда видят, что ими руководят нечетко и неуверенно, и сами
становятся такими же неуверенными.
Задача была: зайти в тыл врага на километр, на два, захватить "языка"
или хотя бы документы. Груп-
пе все было обрисовано, дан и подробно разъяснен маршрут. Поскольку у
противника по дороге наблюдалось движение, надо было и засаду устроить у
дороги. Расчет был -- на одну ночь, к утру закончить. Продукты -- колбаса и
сухари -- выданы с расчетом не обременять себя излишком... Я был уверен:
задачу выполнят! Но Медведев в пути не распределил функций. Болото тяжелое
-- вода, под ней лед. Когда они прошли, Медведев сбился с ориентировки.
Прошли передний край, немецкая оборона оказалась и сзади, и впереди, и
вправо. У них создалось впечатление полного окружения. В этом положении их
застало утро. Действовать днем нельзя было, -- немцы находились метрах в
пятнадцати. Медведев развил теорию: выдвинуться на дорогу днем и устроить
засаду. Задача невыполнимая и для них губительная: днем заметят, уничтожат.
Но он: "Поскольку такая задача, то хоть все погибнем или пусть семеро из
восьми погибнут, но "языка" или документы надо достать!" Ему говорят:
"Давайте пройдем через эту оборону и посмотрим, изучим, чтобы ночью
напасть!" Он не соглашается. Так второй день пролежали. Видя беспечность и
нерешительность Медведева, люди: "Надо вернуться!" Бесполезно, мол, и
продуктов нет. Разругались, вернулись растерянные, напоролись на патрули, на
окрики. Если б они организованно действовали, могли бы забросать гранатами
патрули и принести документы...
Вернулись ни с чем. Доложили. Задача должна была быть выполнена к
пятнадцатому мая, а уже наступило четырнадцатое. Я убедился: Медведева
необходимо отстранить. Я сказал ему: "За то, что вы не приняли решительных
мер, вас полагается предать суду военного трибунала. Но вам остается сегодня
ночью оправдать доверие!" Назначаю командиром группы Бойко, а политическим
руководителем бойца Баландюка -- кандидата партии. Он бывший мой связной,
инициативный, грамотный, компас, карту знает, и люди в нем уверены.
Вечером четырнадцатого вышли во второй раз. Задача: захват патрулей или
напасть на примечен-
ную избушку, чтоб "языка" или документы достать. Перед этим я
разработал обязанности каждого бойца, разделил их на группу захвата (четыре
человека), которая должна была сделать все, и на группу обеспечения -- ей
надлежало охранять четверку нападающих и их отход. Иначе все себя
перестреляли бы и не знали бы, что им делать. Разработал я с Бойко все
возможные обстоятельства, которые могли бы возникнуть (из моего опыта, я сам
раньше так делал). Но главное: люди пошли с настроением, с желанием
выполнить задачу. Они поняли: от них зависит судьба тысяч людей -- ведь мы
не знали, что там за группировка у немцев.
В этот вечер я сопровождал группу до определенного рубежа, пока шли
через болото. Чтобы поднять дух, решил сам перепустить их через передний
край. Километра два прошел, остановился. Они двинулись дальше. Пройдя
передний край, приблизились к избушке, но заметили патрули, залегли в болоте
перед избушкой. Уже два часа ночи, скоро -- светать, они решили совершить
нападение -- пройти в тыл, не замеченными патрулями, и с тыла, по дороге,
напасть (в лоб, через болото, нельзя было). Так и сделали. Прошли удачно.
Патрули на мостовой их не заметили. Подошли -- начали гранатами. Овчинников
бросил, шум, паника, но сначала никто из немцев не выскакивал -- видимо, все
перебрались под пол избушки, в землянку.
Группа охранения тоже подошла. Ошибка! Надо было вторично проверить
оружие (не стреляя), -- часть автоматов отказала.
По линии обороны до этого была большая стрельба, а тут -- прекратилась.
Немец, видя, что попал в ловушку, командует. Открывали дверь землянки,
бросали гранаты. Наших ранило. Стали наши окружать землянку. Овчинников
встал у двери: "Как выходить будет, стукну по голове!" Полного окружения
землянки не удалось сделать, что и повлияло на выполнение задачи. И еще:
часть наших не нашли себе сразу места -- где кому и как действовать.
Овчинников бросает последнюю, четвертую, гранату Ф-1, открывает дверь:
"Руки вверх, выходи!" Тут -- граната противника, и Овчинников получает
вторую рану, руку обожгло. Он -- в сторону. Тут подошли Баженов и Баландюк,
Баженова ранило, Баландюка накрыло -- он по левую сторону стал заходить, где
никого не было. Тут -- трусость Мохова и Волкова: отошли, вместо того чтоб
сунуться в домик. А другие уже были ранены, кинуться не могли. Остались
только Бойко, Овчинников и Баженов. Уже светает. Овчинников забирает пять
винтовок, отходит. Баженов и Бойко просмотрели место, нет ли оставшихся, но
влево не зашли...
Общий вывод. Первое: Бойко, Баландюк, Денисов и Волков должны были
обеспечить группе захвата завершение нападения. Самим следовало выждать и
только после этого кинуться, захватить пленного или документы, то есть
пройти по расчищенному пути. Поскольку этого не было сделано, группа захвата
не могла ничего поделать, потому что были ранены и не имели такой
активности. Второе: Волков и Мохов допустили в тяжелый момент
нерешительность. Если б они помогли, то пленного или документы взяли бы.
Поучительно: начата операция была очень хорошо, но затем была скомкана.
Иначе говоря, люди не стали мастерами своего дела. Бойко -- смелый, но
задача руководителя сложнее, чем быть только смелым. Он еще не стал мастером
своего дела. Нужно отметить: люди задачу понимали, действовали храбро,
немцев громили беспощадно.
Первая половина рейда, в сущности, была репетицией -- привела к
разведке расположения врага, его огневых точек. Вторая -- экзамен на
выдержку, на проверку моральных качеств, на способность оценивать каждый
свой шаг и поступок. Даже раненые продолжали настойчиво действовать.
Овчинников, захватывая оружие, хотел, чтоб немцам не из чего было
стрелять... А Мохов и Волков все дело испортили. В домике было, конечно, не
меньше тридцати человек. Половина из них была уничтожена.,.
День
Сижу в палатке Пресса, жду отъезда, поеду с Бурцевым, Черепивским и
другими. Завезут меня в Городище. Политрук Запашный за столом разговаривает
с Зиновьевым, подготовляя его к вступлению в партию. Все ходившие в рейд с
Прессом вовлекаются в партию -- видимо, в ближайшее время весь взвод станет
коммунистическим.
Напротив, в палатке, политрук другой роты в пух и прах разносит двух
арестованных бойцов -- сначала одного, потом второго (насколько я понимаю,
за какие-то нехватки продовольствия). Берет с них обещания исправиться,
приказывает их освободить. Они выходят в шинелях без поясов, -- им
возвращают пояса и противогазы. Голос красноармейца: -- Фриц пикирует!
Стрельба зениток. Гудят самолеты, но мне лень сделать два шага, чтобы
выглянуть из палатки и посмотреть. Надоело: самолеты и стрельба по ним весь
день.
... Все-таки вышел. Только что наблюдал воздушный бой восьми
"мессершмиттов" с пятью нашими истребителями. Крутились прямо над головой.
Ушли, и вот подошли опять, воздух наполнен гуденьем моторов и зенитной
стрельбой -- орудийной и пулеметной. Небо облачно, и самолеты то скрываются
в облаках, то выходят из них, выделывая сложные фигуры пилотажа, пикируя,
поднимаясь снова, встречаясь и расходясь. Вот они над головой опять...
... Продолжают летать, кружиться над нами. Наши истребители куда-то
ушли. Из леса, из болота повсюду стрельба. Наши разведчики, смеясь,
пошучивая, наблюдая, выжидают, и как только кто-либо из немцев проходит
достаточно низко, стреляют из автоматов. Но немцы летят преимущественно на
значительной высоте, примерно -- с тысячу метров. Вот пока пишу это --
завывание пикирования и гул удаляющихся машин, и то ближе, то дальше --
стрельба. Часть разведчиков второго взвода продолжает сидеть за столом,
направо от палатки, -- пишут заявле-
ния, заполняют анкеты для приема в партию... Вот низко свистит самолет,
зенитки заухали с новой яростью. Часа полтора назад политрук Запашный
собирал всех... (Оглушительно тарахтят автоматы рядом с палаткой и возгласы
"Идите поднимайте, упал!" -- это смеется над одним из стрелявших другой
боец)... собирал бойцов взвода, убеждал их писать заметки в боевой листок...
И через полчаса весь взвод написал статьи и заметки, -- Запашный за столом
перечитывает всю пачку.
Мне сейчас делать нечего, жду машину. Заходил военком Бурцев, сказал:
"Скоро поедем!" Читаю Тарле -- "Кутузова", брошюрку, изданную в Ленинграде.
На днях почта доставила в части несколько таких брошюрок, изданных
Политуправлением Ленфронта в 1942 году. Написаны они Н. Тихоновым, В.
Саяновым, Е. Федоровым... Это значит, что типографские возможности
Ленинграда улучшились... И еще больше захотелось мне в Ленинград!
Пасмурно. Начинает чуть-чуть накрапывать дождь. В воздухе стало тихо.
Самолеты исчезли. Займусь пока статьей...
Командир роты ставит задачу разведчикам,
направляемым в тыл врага. 8-я армия.
Май 1942 года.
С рассветом, двенадцатого, -- труба, подъем играют у них. Поднялись
фрицы, разговоры, шум у них, завтракают они, и сразу пошли на работу. Метров
пятьдесят шли возле нас и тут и работали. Отползли мы метров на сто, -- все
березнячок, кустарник. Тут сидели день. Ходили, наблюдали -- я, Баженов,
Денисов...
Вечером решили воротиться и сделать засаду там, где у них с передовой в
тыл проходит линия связи. Просидели в засаде до трех часов ночи, -- это уже
тринадцатое мая. Стало светаться, пошли на их шалаши, на их первой линии,
передовой, хотели блокировать. Впереди шли Овчинников и Баженов дозором,
нарвались на патруль. Два немца, которые были за деревьями, крикнули: "Уки
ввех!" Мы бы их, возможно, уложили, но они были за толстыми деревьями. Они
открыли огонь -- шесть выстрелов из винтовки. Мы -- за кусты, назад, в
немецкую сторону, глубже, и перебежали их дорогу, и дальше к ним, в тыл. Но
опять попали на двоих -- патруль. Они подняли шум, и мы решили отступить, --
кругом немцы взволновались. Отошли мы на восток, к мостовой дороге, тут еще
два патруля. Мы опять назад, к немцам в тыл, сдали. И кругом обошли их, и --
снова на восток, чтоб выйти на свою передовую. В лесу провели день, таились,
спали...
Опять ночь. Когда подошли к мостовой в другом месте, то оказалось: у
них вышка и избушки, пять штук на дороге, одна от другой далеко. С вышки нас
не заметили, спали там, а у отдельной избушки -- один стоял, видел и --
ничего! За своих принял, что ли? Мы отошли метров двести в сторону,
поворотили строго на север и опять -- через дорогу, и -- на восток, по
болоту. И спокойно, под рассвет, вышли к себе, еще по кустам клюкву собирали
(потому что выходили в разведку, взяли только колбасы да по три сухаря).
Пришли в роту к автоматчикам, здесь нас ждал Черепивский. Он волновался за
нас и плакал, и снились мы ему...
Четырнадцатого день отдыхали, сушились, кушали. Медведева командир роты
Черепивский отстранил
за неправильное руководство: когда мы туда ходили, Медведев настаивал
днем взять "языка", где нельзя было: "пускай, говорил, семь человек
погибнут, один останется!" -- котелок не варил!
Тут пошли под моим руководством... Вот теперь расскажу, как ходили
второй раз... Черепивский приказал идти к тем пяти избушкам, которые мы
приметили, -- одна в стороне, ее, значит, велел блокировать.. И вот что
получилось тут...
Часов в десять вечера, четырнадцатого, пошли... Л Медведеву Черепивский
заявил, чтоб он оправдал доверие, и Медведев теперь шел под моим началом...
Дошли до места нормально, часов в двенадцать, часа два сидели возле избушки,
не доходя метров ста, они не спали, шуму у них много было: смех, стучали,
разговоры. Мы прямо на болоте лежали, в воде.
Часов с двух, когда они утихли, мы начали действовать. Перешли их
оборону и решили зайти к избушке с тыла и напасть. Дошли до их связи,
перерезали связь. И сразу я выделил группу захвата, четырех человек
(Овчинников, Медведев, Баженов и Мохов), а сам с тремя остался метрах в пяти
сзади, на мостовой.
Я им приказал, не доходя метров пятнадцать до избушки, бросать гранаты
по избушке. Они так и сделали, бросили восемь гранат. И сразу же кинулись к
ней все. Когда мы набросились на избушку, видим, под ней -- землянка, и там
у них паника, шум, команда, открывают по одному дверь дощатую. Гранату
выбросит, и выскочит, и сразу драпать по мостовой -- человек пять выскочило,
побросали свои винтовки.
Когда мы подбежали вплотную, стали бросать гранаты в дверь под избушку,
-- первым Овчинников бросил. Тут сразу стоны, крики, шум, не поймешь, чего у
них было. Так еще штук восемь мы бросили, -- я бросил две, Баженов -- две...
Перебили мы, наверное, половину тех, кто в землянке был. Овчинников собрал
брошенные винтовки, прислонил их к избушке. Тут мы были уже ранены теми
гранатами, что выбегавшие немцы бросили. Медведев ко мне: "Меня
ранило!" Я: "Отойди метров на двадцать в болото и дожидай!" И еще у
Медведева одну гранату взял, потому что меня ранило в палец, автомат вышибло
и диску потерял. Тут Денисова ранило, он ничего не сказал, самовольно ушел,
-- не знал я, куда. Овчинникова и Баженова тоже ранило, они доложили.
Отошли все на болото, я один остался проверить, все ли налицо, и тоже
взял отошел. А с Баландюком так было: он шел после всех, когда наступали.
Когда мы отступили, нас собралось пять человек (а троих -- нету). Я: "Где же
люди?" Мохов: "Двое ушло!" (А я знал, что трое, потому что Медведева сам
отослал). Думаю: все люди! Убедился, что все, -- и пошли. Кричали:
"Баландюк, Денисов!.. "
Баландюка убило, потому что ему деваться иначе некуда, в плен некому
было забрать, немцев, кроме пяти убежавших, снаружи никого не было, кто жив
-- в землянке остался, трусили, наружу не вылезали. Мы с час стояли там,
метрах в двадцати, -- ничего не слыхать. Значит, убило. Когда пришли к
командиру роты, то стали пересчитывать всех: семь человек, а восьмого нет.
Мы еще надеялись: может, Баландюк первым до командира роты добрался, но
здесь его тоже не обнаружилось. Я потом, по приказанию Черепивского ("Надо
-- на выручку!"), трех человек направил искать по болоту, -- не нашли,
ничего не оказалось...
Здоровый, загорелый, большелицый Бойко умолк, опустив свои светлые,
большие, красивые глаза. Заговорил Баженов:
-- Баландюк шел в метре от меня. Когда граната взорвалась в двух метрах
от меня, я бежал, меня задело. Пробило мне петлицу, несколько дыр в шинели,
щеку и руку в двух местах задело. Я все внимание бросил на землянку --
некогда было. Той гранатой, наверно, Баландюка убило...
Бойко поднял глаза:
-- Все нападение минут двадцать длилось. Взяли у них брошенное оружие
-- все пять винтовок. Овчинников нес их, как дрова, и все их притащил.
Хорошо действовал. Главное дело, и в ногу раненный, и в руку.
I
А другие винтовки пирамидой с тыльной стороны избушки стояли, видели мы
их, да забежать туда не удалось... Немцев было убито человек пятнадцать как
минимум, а было их там, если по винтовкам считать, наверно, до тридцати...
Всего нами брошено шестнадцать гранат. Стрельбы немцы не открывали. А мы
автоматами действовали, но удивительно: все они отказали!..
На этом вчера мои разговоры с группой разведчиков закончились. Но
сегодня мне захотелось разобраться во всех обстоятельствах этого дела
подробнее. Пресс защищал в моем мнении Медведева (служившего раньше у него
во взводе), которого после первой неудачи Черепивский по настоянию группы
снял с командования. Кто-то даже поговаривал, что Медведев струсил. Пресс по
этому поводу сказал мне, что Медведев никак не трус, боец он хороший,
смелый, а трусили, по-видимому, прочие. И объяснил, почему у него такое
хорошее мнение о Медведеве: Медведев как-то ходил с ним в немецкий тыл
разбивать дзоты и блиндажи. Это было сделано, но потом пришлось отходить с
боем, Медведев оказался отдельно с двумя бойцами -- прикрывали отход
остальных. Один из бойцов был ранен. Медведев сначала долго нес его под
огнем сам, потом нес со своим товарищем. Разрывом мины раненый был добит.
Они продолжали, однако, нести его труп. Спутника Медведева также убило.
Нести двоих в глубоком тылу он не мог. Тогда он взял у обоих оружие и вышел
из боя, принеся их оружие. (Документов у них не было -- были сданы перед
рейдом. )
Я вызвал сегодня Медведева. Кто он? Родился в восемнадцатом году в
Смоленской области, до войны был слесарем-монтажником, работал в Аркадаке,
Омске, Челябинске и в других городах Сибири, потом -- в Кушке,
Петропавловске и в Москве -- всюду, куда его отправляли в командировки как
специалиста по монтажу железнодорожных мостов. Кандидат партии. Холост.
Участвовал в финской войне командиром отделения, курсантом, в 70-й
стрелковой дивизии, на Карельском перешейке. В Отечественной -- с начала.
Был ранен в ноябре, под Колпином. Разведчиком по тылам врага ходил
второй раз.
Белобрысый, с белесыми бровями, широколицый, курносый, он коренаст,
приземист. Долго сидел со мною в шалаше, глядя на меня серыми глазами,
весело рассказывал, смеялся. На меня он произвел хорошее впечатление.
Главное недовольство им, как сказал мне вчера Бойко, вызвано было его
заявлением в тылу врага: "Останемся здесь, возьмем "языка", пусть хоть один
выйдет на нашу передовую, а мы будем прикрывать его огнем, и пусть все мы
отдадим жизнь за Родину, а задача будет выполнена!" Так вот, мол, им
недовольны, решение это, мол, бестолково, ибо к тому не было необходимости.
Из рассказов Медведева я сделал вывод: факт несомненен один -- Медведев
не сумел взять бойцов крепко, по-командирски, в свои руки, слишком много их
спрашивал, советовался с ними ("Я хотел как бы помягче, миром, без
окрика!"), а такой метод в тех условиях негож, -- боец рассуждал каждый
по-своему, придумывая собственные варианты дальнейших действий, и оспаривал
решения Медведева. Бойцы фактически вышли из повиновения, и получилась
неразбериха. И не поняли они Медведева, -- он имел в виду вызвать в них
готовность к самопожертвованию в том случае, если это понадобится, -- только
в том случае!
Когда я отпустил Медведева, ко мне в палатку пришел Черепивский --
поближе познакомиться, побеседовать со мной. Его любят бойцы, любят его и
командиры, -- человек он душевный, о бойцах заботится. Спокойный,
положительный, понравился он и мне. И вот что он рассказал о Медведеве, о
Бойко, об их рейде:
-- Вопрос в руководстве! Самое тяжелое -- управление людьми. Люди у пас
золотые. Но когда видят, что ими руководят нечетко и неуверенно, и сами
становятся такими же неуверенными.
Задача была: зайти в тыл врага на километр, на два, захватить "языка"
или хотя бы документы. Груп-
пе все было обрисовано, дан и подробно разъяснен маршрут. Поскольку у
противника по дороге наблюдалось движение, надо было и засаду устроить у
дороги. Расчет был -- на одну ночь, к утру закончить. Продукты -- колбаса и
сухари -- выданы с расчетом не обременять себя излишком... Я был уверен:
задачу выполнят! Но Медведев в пути не распределил функций. Болото тяжелое
-- вода, под ней лед. Когда они прошли, Медведев сбился с ориентировки.
Прошли передний край, немецкая оборона оказалась и сзади, и впереди, и
вправо. У них создалось впечатление полного окружения. В этом положении их
застало утро. Действовать днем нельзя было, -- немцы находились метрах в
пятнадцати. Медведев развил теорию: выдвинуться на дорогу днем и устроить
засаду. Задача невыполнимая и для них губительная: днем заметят, уничтожат.
Но он: "Поскольку такая задача, то хоть все погибнем или пусть семеро из
восьми погибнут, но "языка" или документы надо достать!" Ему говорят:
"Давайте пройдем через эту оборону и посмотрим, изучим, чтобы ночью
напасть!" Он не соглашается. Так второй день пролежали. Видя беспечность и
нерешительность Медведева, люди: "Надо вернуться!" Бесполезно, мол, и
продуктов нет. Разругались, вернулись растерянные, напоролись на патрули, на
окрики. Если б они организованно действовали, могли бы забросать гранатами
патрули и принести документы...
Вернулись ни с чем. Доложили. Задача должна была быть выполнена к
пятнадцатому мая, а уже наступило четырнадцатое. Я убедился: Медведева
необходимо отстранить. Я сказал ему: "За то, что вы не приняли решительных
мер, вас полагается предать суду военного трибунала. Но вам остается сегодня
ночью оправдать доверие!" Назначаю командиром группы Бойко, а политическим
руководителем бойца Баландюка -- кандидата партии. Он бывший мой связной,
инициативный, грамотный, компас, карту знает, и люди в нем уверены.
Вечером четырнадцатого вышли во второй раз. Задача: захват патрулей или
напасть на примечен-
ную избушку, чтоб "языка" или документы достать. Перед этим я
разработал обязанности каждого бойца, разделил их на группу захвата (четыре
человека), которая должна была сделать все, и на группу обеспечения -- ей
надлежало охранять четверку нападающих и их отход. Иначе все себя
перестреляли бы и не знали бы, что им делать. Разработал я с Бойко все
возможные обстоятельства, которые могли бы возникнуть (из моего опыта, я сам
раньше так делал). Но главное: люди пошли с настроением, с желанием
выполнить задачу. Они поняли: от них зависит судьба тысяч людей -- ведь мы
не знали, что там за группировка у немцев.
В этот вечер я сопровождал группу до определенного рубежа, пока шли
через болото. Чтобы поднять дух, решил сам перепустить их через передний
край. Километра два прошел, остановился. Они двинулись дальше. Пройдя
передний край, приблизились к избушке, но заметили патрули, залегли в болоте
перед избушкой. Уже два часа ночи, скоро -- светать, они решили совершить
нападение -- пройти в тыл, не замеченными патрулями, и с тыла, по дороге,
напасть (в лоб, через болото, нельзя было). Так и сделали. Прошли удачно.
Патрули на мостовой их не заметили. Подошли -- начали гранатами. Овчинников
бросил, шум, паника, но сначала никто из немцев не выскакивал -- видимо, все
перебрались под пол избушки, в землянку.
Группа охранения тоже подошла. Ошибка! Надо было вторично проверить
оружие (не стреляя), -- часть автоматов отказала.
По линии обороны до этого была большая стрельба, а тут -- прекратилась.
Немец, видя, что попал в ловушку, командует. Открывали дверь землянки,
бросали гранаты. Наших ранило. Стали наши окружать землянку. Овчинников
встал у двери: "Как выходить будет, стукну по голове!" Полного окружения
землянки не удалось сделать, что и повлияло на выполнение задачи. И еще:
часть наших не нашли себе сразу места -- где кому и как действовать.
Овчинников бросает последнюю, четвертую, гранату Ф-1, открывает дверь:
"Руки вверх, выходи!" Тут -- граната противника, и Овчинников получает
вторую рану, руку обожгло. Он -- в сторону. Тут подошли Баженов и Баландюк,
Баженова ранило, Баландюка накрыло -- он по левую сторону стал заходить, где
никого не было. Тут -- трусость Мохова и Волкова: отошли, вместо того чтоб
сунуться в домик. А другие уже были ранены, кинуться не могли. Остались
только Бойко, Овчинников и Баженов. Уже светает. Овчинников забирает пять
винтовок, отходит. Баженов и Бойко просмотрели место, нет ли оставшихся, но
влево не зашли...
Общий вывод. Первое: Бойко, Баландюк, Денисов и Волков должны были
обеспечить группе захвата завершение нападения. Самим следовало выждать и
только после этого кинуться, захватить пленного или документы, то есть
пройти по расчищенному пути. Поскольку этого не было сделано, группа захвата
не могла ничего поделать, потому что были ранены и не имели такой
активности. Второе: Волков и Мохов допустили в тяжелый момент
нерешительность. Если б они помогли, то пленного или документы взяли бы.
Поучительно: начата операция была очень хорошо, но затем была скомкана.
Иначе говоря, люди не стали мастерами своего дела. Бойко -- смелый, но
задача руководителя сложнее, чем быть только смелым. Он еще не стал мастером
своего дела. Нужно отметить: люди задачу понимали, действовали храбро,
немцев громили беспощадно.
Первая половина рейда, в сущности, была репетицией -- привела к
разведке расположения врага, его огневых точек. Вторая -- экзамен на
выдержку, на проверку моральных качеств, на способность оценивать каждый
свой шаг и поступок. Даже раненые продолжали настойчиво действовать.
Овчинников, захватывая оружие, хотел, чтоб немцам не из чего было
стрелять... А Мохов и Волков все дело испортили. В домике было, конечно, не
меньше тридцати человек. Половина из них была уничтожена.,.
День
Сижу в палатке Пресса, жду отъезда, поеду с Бурцевым, Черепивским и
другими. Завезут меня в Городище. Политрук Запашный за столом разговаривает
с Зиновьевым, подготовляя его к вступлению в партию. Все ходившие в рейд с
Прессом вовлекаются в партию -- видимо, в ближайшее время весь взвод станет
коммунистическим.
Напротив, в палатке, политрук другой роты в пух и прах разносит двух
арестованных бойцов -- сначала одного, потом второго (насколько я понимаю,
за какие-то нехватки продовольствия). Берет с них обещания исправиться,
приказывает их освободить. Они выходят в шинелях без поясов, -- им
возвращают пояса и противогазы. Голос красноармейца: -- Фриц пикирует!
Стрельба зениток. Гудят самолеты, но мне лень сделать два шага, чтобы
выглянуть из палатки и посмотреть. Надоело: самолеты и стрельба по ним весь
день.
... Все-таки вышел. Только что наблюдал воздушный бой восьми
"мессершмиттов" с пятью нашими истребителями. Крутились прямо над головой.
Ушли, и вот подошли опять, воздух наполнен гуденьем моторов и зенитной
стрельбой -- орудийной и пулеметной. Небо облачно, и самолеты то скрываются
в облаках, то выходят из них, выделывая сложные фигуры пилотажа, пикируя,
поднимаясь снова, встречаясь и расходясь. Вот они над головой опять...
... Продолжают летать, кружиться над нами. Наши истребители куда-то
ушли. Из леса, из болота повсюду стрельба. Наши разведчики, смеясь,
пошучивая, наблюдая, выжидают, и как только кто-либо из немцев проходит
достаточно низко, стреляют из автоматов. Но немцы летят преимущественно на
значительной высоте, примерно -- с тысячу метров. Вот пока пишу это --
завывание пикирования и гул удаляющихся машин, и то ближе, то дальше --
стрельба. Часть разведчиков второго взвода продолжает сидеть за столом,
направо от палатки, -- пишут заявле-
ния, заполняют анкеты для приема в партию... Вот низко свистит самолет,
зенитки заухали с новой яростью. Часа полтора назад политрук Запашный
собирал всех... (Оглушительно тарахтят автоматы рядом с палаткой и возгласы
"Идите поднимайте, упал!" -- это смеется над одним из стрелявших другой
боец)... собирал бойцов взвода, убеждал их писать заметки в боевой листок...
И через полчаса весь взвод написал статьи и заметки, -- Запашный за столом
перечитывает всю пачку.
Мне сейчас делать нечего, жду машину. Заходил военком Бурцев, сказал:
"Скоро поедем!" Читаю Тарле -- "Кутузова", брошюрку, изданную в Ленинграде.
На днях почта доставила в части несколько таких брошюрок, изданных
Политуправлением Ленфронта в 1942 году. Написаны они Н. Тихоновым, В.
Саяновым, Е. Федоровым... Это значит, что типографские возможности
Ленинграда улучшились... И еще больше захотелось мне в Ленинград!
Пасмурно. Начинает чуть-чуть накрапывать дождь. В воздухе стало тихо.
Самолеты исчезли. Займусь пока статьей...
 Мы накормили и обласкали этих детей, уцелевших при бомбежке села
Путилова.
Мы стояли маленькой группой минут пятнадцать... Ибрагимов и Миронов
хотели навестить Бурцева, дежурный ходил узнать о нем, пришел дежурный врач,
сказал, что Бурцеву только что сделана операция и он не проснулся еще от
наркоза, и поэтому пока навестить его нельзя. И Бурцев ранен не легко,
потому что осколок, пробивший ягодицу, снизу проник в живот, но что Бурцев,
вероятно, все-таки будет жить. А Черепивский уже, за полчаса до нашего
приезда, "захоронен" -- рядом, на кладбище. И что делать с его часами? Надо
бы отослать их его жене.
Всем нам казалось невероятным, что такой богатырь, такой
жизнерадостный, здоровый, всегда веривший в победу человек, так же как вот
мы сейчас, разговаривавший с нами вчера, -- уже лежит в земле...
"Война! -- сказал врач. -- Разве не может сию минуту упасть снаряд и
сюда, где мы стоим, между нами?"
Никто не говорил никаких слов утешения, никаких сентиментов не было,
все было просто и строго, день был теплый и солнечный, жизнь дышала в каждой
травинке. Мы стояли кружком, душу каждого переполняли горечь, и злоба, и
боль, и все были суровы, и все хорошо понимали друг друга, и всем все-таки,
все-таки не верилось, что Черепивского -- живого, вот такого, каким я видел
его вчера: загорелого, крепкого, крутоголового, -- нет...
Но стоять дольше было тут бессмысленно: он исчез навсегда. Ибрагимов
сказал, что на обратном пути заедет сюда, -- можно ли будет повидать
Бурцева? "Конечно, можно, -- сказал врач, -- только лучше недолго и поменьше
с ним разговаривайте, для его, понимаете, пользы!" И Миронов живо
откликнулся: "Да мы только на две минуты... " И Ибрагимов добавил: "Да,
посмотреть на него, и -- пойдем". Ибрагимов попросил врачей ничего не
говорить Бурцеву о смерти Черепивского: "Знаете -- такие были друзья! Всегда
вместе, ругались сколько, и не могли друг без друга дня обойтись!"
Мы пожали руки врачам и вышли из леска на до-
рогу. Дверка машины хлопнула, стекла полетели в кабину. Мы поехали
обратно -- к Путилову, чтобы оттуда продолжать путь к Городищу. Мы ехали...
Ибрагимов и Миронов, как бы жалуясь на свое горе мне, отрывочными фразами,
между которыми были долгие паузы, заполненные раздумьем, делились
воспоминаниями о Черепивском.
Я запомнил один резкий, неожиданный поворот головы Ибрагимова:
-- Если б вы знали, сколько друзей я потерял за эту войну, сколько
хороших друзей! И почему-то смерть Черепивского больше всех на меня
подействовала!..
После другой паузы и после многих разговоров, в которых не было сказано
ни одной казенной или искусственной фразы, Ибрагимов так же резко вдруг
повернулся и сказал:
-- Конечно, за Черепивского мы отомстим!..
Из разговоров на этом полном ходу прыгающей по сухой дороге машины я
узнал о Черепивском больше, чем узнал бы из бесед с ним самим. Каким-то
особенно нелепым обстоятельством представлялась мне следующая случайность:
жена Черепивского осталась где-то на Украине. Он искал ее в продолжение всей
войны -- разыскивал ее письмами, через родственников. Только позавчера
вечером, вернувшись из рейда, он получил письмо от нее: она сообщала, что
находится в семи километрах от линии фронта, что гитлеровцы, на ее счастье,
немножечко не дошли до нее, и вот она благополучна и здорова. И радостный
Черепивский вчера утром послал жене первое письмо по точному адресу, в
котором сообщал, что жив и здоров; меньше чем через сутки Черепивский уже в
могиле. А письмо еще только вчера начало свой долгий и длинный путь на
Украину -- к Харьковщине. Может быть, через три недели, может быть, через
месяц томящаяся в разлуке с мужем жена получит от него радостную весть, из
которой узнает, что 16 мая ее муж, которого она уже давно считала убитым, не
получая вестей от него, был жив, и здоров, и весел, и уверен в победе, во
встрече...
А того, что в первую же ночь после 16 мая муж получил смертельную рану,
жена еще долго-долго не будет знать: адрес ее никому здесь не известен. Она
пришлет сюда ответное, радостное письмо, это письмо вскроют здесь, прочитают
и отошлют тогда сообщение, что муж ее "пал смертью храбрых".
Он был кадровым командиром -- опытным, бесстрашным, любимым командирами
и бойцами. Он не был ничем награжден, и только недавно на утверждение была
послана бумага о присвоении ему звания капитана.
И Ибрагимов в мчавшемся автомобиле говорил, что обязательно представит
Черепивского -- за все прошлые его дела -- к ордену, и что сегодня,
вернувшись в отряд, соберет бойцов и устроит траурный митинг, и что если б
Черепивский уже не был похоронен, то он обязательно похоронил бы его не
здесь, в медсанбате, а у себя в отряде, и что надо будет сделать на могиле
хорошую надпись...
Во всем, что говорилось в машине, не было ни удрученности, ни
подавленности теми ассоциациями, которые, конечно, могли бы возникнуть у
каждого из ехавших, -- ведь война для всех одинакова и судьба каждого никому
не известна. И только раз Миронов сказал, стараясь придать своим словам тон
шутки: "Вот, думаю, сколько ни живу, а не пережить и мне этой войны!" И
Ибрагимов суховато молвил: "Ну, это никому не известно!" А я добавил: "Можно
в самой горячке живым остаться, а после войны попасть под трамвай, -- всяко
может быть, и нечего о том думать!"
Наговорившись о Черепивском, все замолчали и всю дальнейшую дорогу
ехали молча, и я ясно ощушал в этом молчании мысли каждого.
Через час мы приехали в лес, обогнув Городище. Меня довезли до
шлагбаума. Я поблагодарил моих спутников, распрощался с ними. Они поехали в
штаб, а я побрел в чащу леса -- в редакцию.
Я был уверен, что меня наконец ждут письма от моих родных. Но никаких
писем не оказалось. И тревога, большая тревога залила новой волной горечи
душу.
Мы накормили и обласкали этих детей, уцелевших при бомбежке села
Путилова.
Мы стояли маленькой группой минут пятнадцать... Ибрагимов и Миронов
хотели навестить Бурцева, дежурный ходил узнать о нем, пришел дежурный врач,
сказал, что Бурцеву только что сделана операция и он не проснулся еще от
наркоза, и поэтому пока навестить его нельзя. И Бурцев ранен не легко,
потому что осколок, пробивший ягодицу, снизу проник в живот, но что Бурцев,
вероятно, все-таки будет жить. А Черепивский уже, за полчаса до нашего
приезда, "захоронен" -- рядом, на кладбище. И что делать с его часами? Надо
бы отослать их его жене.
Всем нам казалось невероятным, что такой богатырь, такой
жизнерадостный, здоровый, всегда веривший в победу человек, так же как вот
мы сейчас, разговаривавший с нами вчера, -- уже лежит в земле...
"Война! -- сказал врач. -- Разве не может сию минуту упасть снаряд и
сюда, где мы стоим, между нами?"
Никто не говорил никаких слов утешения, никаких сентиментов не было,
все было просто и строго, день был теплый и солнечный, жизнь дышала в каждой
травинке. Мы стояли кружком, душу каждого переполняли горечь, и злоба, и
боль, и все были суровы, и все хорошо понимали друг друга, и всем все-таки,
все-таки не верилось, что Черепивского -- живого, вот такого, каким я видел
его вчера: загорелого, крепкого, крутоголового, -- нет...
Но стоять дольше было тут бессмысленно: он исчез навсегда. Ибрагимов
сказал, что на обратном пути заедет сюда, -- можно ли будет повидать
Бурцева? "Конечно, можно, -- сказал врач, -- только лучше недолго и поменьше
с ним разговаривайте, для его, понимаете, пользы!" И Миронов живо
откликнулся: "Да мы только на две минуты... " И Ибрагимов добавил: "Да,
посмотреть на него, и -- пойдем". Ибрагимов попросил врачей ничего не
говорить Бурцеву о смерти Черепивского: "Знаете -- такие были друзья! Всегда
вместе, ругались сколько, и не могли друг без друга дня обойтись!"
Мы пожали руки врачам и вышли из леска на до-
рогу. Дверка машины хлопнула, стекла полетели в кабину. Мы поехали
обратно -- к Путилову, чтобы оттуда продолжать путь к Городищу. Мы ехали...
Ибрагимов и Миронов, как бы жалуясь на свое горе мне, отрывочными фразами,
между которыми были долгие паузы, заполненные раздумьем, делились
воспоминаниями о Черепивском.
Я запомнил один резкий, неожиданный поворот головы Ибрагимова:
-- Если б вы знали, сколько друзей я потерял за эту войну, сколько
хороших друзей! И почему-то смерть Черепивского больше всех на меня
подействовала!..
После другой паузы и после многих разговоров, в которых не было сказано
ни одной казенной или искусственной фразы, Ибрагимов так же резко вдруг
повернулся и сказал:
-- Конечно, за Черепивского мы отомстим!..
Из разговоров на этом полном ходу прыгающей по сухой дороге машины я
узнал о Черепивском больше, чем узнал бы из бесед с ним самим. Каким-то
особенно нелепым обстоятельством представлялась мне следующая случайность:
жена Черепивского осталась где-то на Украине. Он искал ее в продолжение всей
войны -- разыскивал ее письмами, через родственников. Только позавчера
вечером, вернувшись из рейда, он получил письмо от нее: она сообщала, что
находится в семи километрах от линии фронта, что гитлеровцы, на ее счастье,
немножечко не дошли до нее, и вот она благополучна и здорова. И радостный
Черепивский вчера утром послал жене первое письмо по точному адресу, в
котором сообщал, что жив и здоров; меньше чем через сутки Черепивский уже в
могиле. А письмо еще только вчера начало свой долгий и длинный путь на
Украину -- к Харьковщине. Может быть, через три недели, может быть, через
месяц томящаяся в разлуке с мужем жена получит от него радостную весть, из
которой узнает, что 16 мая ее муж, которого она уже давно считала убитым, не
получая вестей от него, был жив, и здоров, и весел, и уверен в победе, во
встрече...
А того, что в первую же ночь после 16 мая муж получил смертельную рану,
жена еще долго-долго не будет знать: адрес ее никому здесь не известен. Она
пришлет сюда ответное, радостное письмо, это письмо вскроют здесь, прочитают
и отошлют тогда сообщение, что муж ее "пал смертью храбрых".
Он был кадровым командиром -- опытным, бесстрашным, любимым командирами
и бойцами. Он не был ничем награжден, и только недавно на утверждение была
послана бумага о присвоении ему звания капитана.
И Ибрагимов в мчавшемся автомобиле говорил, что обязательно представит
Черепивского -- за все прошлые его дела -- к ордену, и что сегодня,
вернувшись в отряд, соберет бойцов и устроит траурный митинг, и что если б
Черепивский уже не был похоронен, то он обязательно похоронил бы его не
здесь, в медсанбате, а у себя в отряде, и что надо будет сделать на могиле
хорошую надпись...
Во всем, что говорилось в машине, не было ни удрученности, ни
подавленности теми ассоциациями, которые, конечно, могли бы возникнуть у
каждого из ехавших, -- ведь война для всех одинакова и судьба каждого никому
не известна. И только раз Миронов сказал, стараясь придать своим словам тон
шутки: "Вот, думаю, сколько ни живу, а не пережить и мне этой войны!" И
Ибрагимов суховато молвил: "Ну, это никому не известно!" А я добавил: "Можно
в самой горячке живым остаться, а после войны попасть под трамвай, -- всяко
может быть, и нечего о том думать!"
Наговорившись о Черепивском, все замолчали и всю дальнейшую дорогу
ехали молча, и я ясно ощушал в этом молчании мысли каждого.
Через час мы приехали в лес, обогнув Городище. Меня довезли до
шлагбаума. Я поблагодарил моих спутников, распрощался с ними. Они поехали в
штаб, а я побрел в чащу леса -- в редакцию.
Я был уверен, что меня наконец ждут письма от моих родных. Но никаких
писем не оказалось. И тревога, большая тревога залила новой волной горечи
душу.
| Сбито самолетов противника на 1 мая Фамилии летчиков лично группой Герой Советского Союза майор Петров Г. Г 1 6 Орденоносец капитан Булаев 9 5 Орденоносец капитан Власов 4 7 Герой Советского Союза ст. лейт. Лукьянов 5 5 Орденоносец ст. лейт. Шевцов.... 5 4 Орденоносец капитан Михальский... 5 1 Орденоносец ст. лейтенант Лихолетов 5 -- Орденоносец ст. лейт. Щуров 5 7 Орденоносец лейт. Зотов 2 4 Орденоносец лейт. Рощупкин 2 2 Орденоносец лейт. Кудрявцев 1 -- Лейт. Кудряшев 1 3 Лейт. Лукин 1 1 |
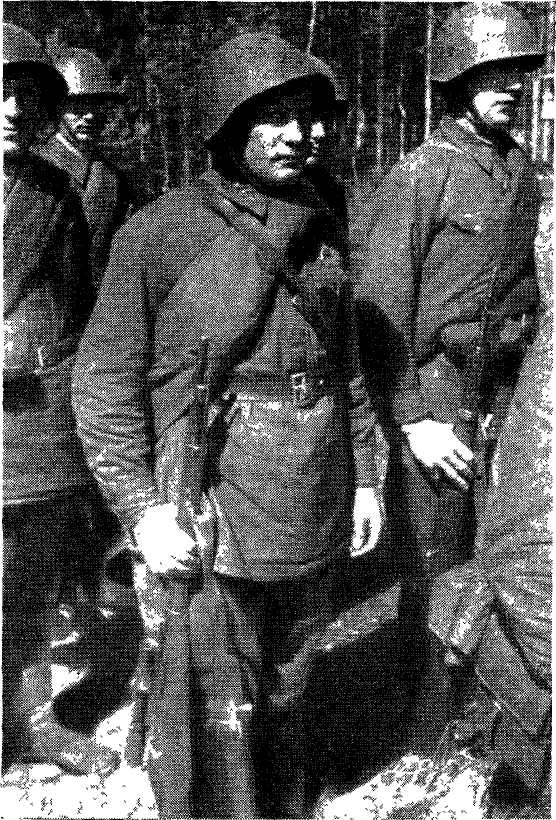 В роте снайперов-истребителей.
Снайпер А. Седашкин. 128-я сд.
Июнь 1942 года.
промокнув вчера под дождем и затем не просушившись, я простудился.
Зачинатели истребительного движения в 128-й дивизии и самые опытные
снайперы -- Седашкин, Статуев и Кочегаров. Их прежде всего и захотелось мне
повидать. Седашкин 18 мая был ранен и только вчера, в день моего приезда
сюда, вернулся в роту.
Вызванный командиром роты, он пришел ко мне в блиндаж -- суровый,
кряжистый, серьезный, с орденом Красной Звезды на своей выцветшей и
залатанной гимнастерке, глянул на меня пристально свинцовыми глазами,
вытянулся.
-- Старший сержант Седашкин А. И. (он так и сказал "А. И. ", вместо
"Александр Иванович") явился по вашему приказанию! -- низким и сильным
голосом "доложил" он мне, приставив к пилотке огромную ладонь.
Я сразу прикинул взглядом, как он, кочегар и алтайский охотник, брал на
вилы медведя, как враз душил своими ручищами волка и как, легко играючи
топором, рубил в тайге стволы вековых деревьев...
Мне. трудно было заставить Седашкина чувствовать себя "свободно" со
мной, когда "по моему приказанию" он бочком, стеснительно присел на краешек
скамьи перед столом, глядел не на меня, а на мои "шпалы" старшего командира,
пожелавшего невесть зачем "спытать" его солдатскую душу. И никак не мог с
докладного, официального языка перейти на простую, конечно, гораздо более
свойственную ему да, вероятно, и очень сочную русскую речь.
Я сразу узнал, что образования у него -- никакого, что в его таежной
семье грамотностью считалось знание звериных и птичьих повадок, что в
охотничьей артели он работал по договорам, а с 1928 года, "когда стали всех
в колхоз соединять", выехал в Барнаул и поступил работать на производство,
кочегаром на хлебокомбинат... Мобилизованный осенью сорок первого года, он
сразу попал в 128-ю дивизию, на фронт.
Положив свои мощные руки на стол, Седашкин заговорил сухо, скупо:
-- Двадцать первое декабря было Я пошел в на-
ступление, ходили мы семьдесят человек пулеметчиков, минометчиков, и --
из всех семидесяти -- нас. стрелков, восемнадцать было, командиром отделения
я ходил. Уничтожили всего триста пятьдесят человек, а из нас, восемнадцати
стрелков, осталось тринадцать. А всего мы потеряли своих двадцать три
человека.
Мы вышибали немцев, вклинившихся в нашу оборону. После боя я ходил по
полю боя, обнаружил в блиндаже офицеров -- восемь человек. Бросил две
гранаты, убил семерых, одного ранил и добил. Документы и прочее -- осталось.
Эти у меня не в счету, потому что нашего начальника не было и я не считал
их.
Зимой было еще: я и Кочегаров вытащили из-под огня шесть наших человек
убитых и одного раненого. Сутки, однако, лежали под немецким взглядом, и
раненый тот замерз. У немцев их снайперы подстерегали нас, я всех увидел,
одного снял с трубы избы. За другим снайпером два дня охотился. Обманул его
-- шапкой мотал, -- убил его...
Восемнадцатого мая командир роты пятьсот тридцать третьего полка, куда
мы прибыли (пять снайперов со мной, я -- шестой), попросил выследить их
снайпера и снять. Я, значит, два дня выползал вперед и не мог ничего
обнаружить. Видел только попа ихнего и не стрелял (в шляпе, в белом халате,
и виски длинные). Мои снайперы стреляли и не попали. А я не стрелял потому,
что не обязан был, надо было приказание выполнить, снайпера снять. На третий
день я его обнаружил -- на сосне, замаскированного, и снял с первого
выстрела. Другой начал его подбирать, я и другого убил. И сразу оборотился
назад, зная, что их ротный миномет будет бить, потому что я обнаружил себя
уже. И покуда до траншеи лез -- метров двадцать, -- он тридцать пять мин
выпустил, и меня ранило в голову осколком, уже в траншее. Лежал в санбате с
восемнадцатого мая до десятого июня. Самочувствие хорошее.
Из ста двадцати трех гитлеровцев, которых в снайперской охоте убил
Седашкин, сто пять были истреблены им еще в его бытность в 374-м стрелковом
полку, а рассказывать мне он счел нужным только о восем-
надцати, убитых им с тех пор, как перешел в состав истребительной роты.
В общем доброго разговора с Седашкиным у меня так и не получилось, я
понял, что "разговориться" со мною он мог бы только вне "службы", у
какого-нибудь костра-дымокура в лесу. Я оставил его в покое, его сменил
вошедший в блиндаж снайпер Александр Михайлович Статуев...
Этот оказался человеком другого толка. Веселый, ясные, живые серые
глаза, пленительная улыбка, открывающая здоровые зубы и скрывающая
недостаток крепкого, загорелого лица -- слишком выпяченную верхнюю губу; она
никак не сочетается с его ребячески вздернутым носом и придает лицу
двадцатичетырехлетнего парня несвойственное ему стариковское выражение... Но
это только когда он не улыбается, а улыбка у него почти не сходит с лица.
Не с этой ли улыбкой он и убивает немцев?
Статуев тоже -- старший сержант, образование у него семиклассное, до
войны он служил завскладом промартели в Кинешме, где его жена с двумя детьми
живет и сейчас, работая продавщицей в продовольственном магазине.
Находясь в 374-м стрелковом полку, Статуев истребил пятьдесят два немца
и, вступив в роту снайперов, -- еще девятнадцать. Награжден медалью "За
отвагу", готовится из кандидатов ВКП(б) стать членом партии, в свободные
часы старательно читает военную и политическую литературу.
В составе 128-й дивизии он почти с начала войны -- с 10 июля 1941 года,
был тогда бойцом, с дивизией прошел весь ее путь...
Записал я и его рассказ, который он вел охотно, толково, -- о том, как
ходит он в паре с Овчинниковым, о ложных ячейках ("... шапку гражданскую
поставишь! Раз, -- веревочку на сто метров кидал из миномета, -- чучело
качалось, внутрь чучела -- вязевая палочка... У нас были три ячейки --
основная, запасная и ложная, на двоих... "), о методах прицеливания и
боковых поправках на ветер, о кратком своем дневнике...
Этот дневник открывается такой записью:
В роте снайперов-истребителей.
Снайпер А. Седашкин. 128-я сд.
Июнь 1942 года.
промокнув вчера под дождем и затем не просушившись, я простудился.
Зачинатели истребительного движения в 128-й дивизии и самые опытные
снайперы -- Седашкин, Статуев и Кочегаров. Их прежде всего и захотелось мне
повидать. Седашкин 18 мая был ранен и только вчера, в день моего приезда
сюда, вернулся в роту.
Вызванный командиром роты, он пришел ко мне в блиндаж -- суровый,
кряжистый, серьезный, с орденом Красной Звезды на своей выцветшей и
залатанной гимнастерке, глянул на меня пристально свинцовыми глазами,
вытянулся.
-- Старший сержант Седашкин А. И. (он так и сказал "А. И. ", вместо
"Александр Иванович") явился по вашему приказанию! -- низким и сильным
голосом "доложил" он мне, приставив к пилотке огромную ладонь.
Я сразу прикинул взглядом, как он, кочегар и алтайский охотник, брал на
вилы медведя, как враз душил своими ручищами волка и как, легко играючи
топором, рубил в тайге стволы вековых деревьев...
Мне. трудно было заставить Седашкина чувствовать себя "свободно" со
мной, когда "по моему приказанию" он бочком, стеснительно присел на краешек
скамьи перед столом, глядел не на меня, а на мои "шпалы" старшего командира,
пожелавшего невесть зачем "спытать" его солдатскую душу. И никак не мог с
докладного, официального языка перейти на простую, конечно, гораздо более
свойственную ему да, вероятно, и очень сочную русскую речь.
Я сразу узнал, что образования у него -- никакого, что в его таежной
семье грамотностью считалось знание звериных и птичьих повадок, что в
охотничьей артели он работал по договорам, а с 1928 года, "когда стали всех
в колхоз соединять", выехал в Барнаул и поступил работать на производство,
кочегаром на хлебокомбинат... Мобилизованный осенью сорок первого года, он
сразу попал в 128-ю дивизию, на фронт.
Положив свои мощные руки на стол, Седашкин заговорил сухо, скупо:
-- Двадцать первое декабря было Я пошел в на-
ступление, ходили мы семьдесят человек пулеметчиков, минометчиков, и --
из всех семидесяти -- нас. стрелков, восемнадцать было, командиром отделения
я ходил. Уничтожили всего триста пятьдесят человек, а из нас, восемнадцати
стрелков, осталось тринадцать. А всего мы потеряли своих двадцать три
человека.
Мы вышибали немцев, вклинившихся в нашу оборону. После боя я ходил по
полю боя, обнаружил в блиндаже офицеров -- восемь человек. Бросил две
гранаты, убил семерых, одного ранил и добил. Документы и прочее -- осталось.
Эти у меня не в счету, потому что нашего начальника не было и я не считал
их.
Зимой было еще: я и Кочегаров вытащили из-под огня шесть наших человек
убитых и одного раненого. Сутки, однако, лежали под немецким взглядом, и
раненый тот замерз. У немцев их снайперы подстерегали нас, я всех увидел,
одного снял с трубы избы. За другим снайпером два дня охотился. Обманул его
-- шапкой мотал, -- убил его...
Восемнадцатого мая командир роты пятьсот тридцать третьего полка, куда
мы прибыли (пять снайперов со мной, я -- шестой), попросил выследить их
снайпера и снять. Я, значит, два дня выползал вперед и не мог ничего
обнаружить. Видел только попа ихнего и не стрелял (в шляпе, в белом халате,
и виски длинные). Мои снайперы стреляли и не попали. А я не стрелял потому,
что не обязан был, надо было приказание выполнить, снайпера снять. На третий
день я его обнаружил -- на сосне, замаскированного, и снял с первого
выстрела. Другой начал его подбирать, я и другого убил. И сразу оборотился
назад, зная, что их ротный миномет будет бить, потому что я обнаружил себя
уже. И покуда до траншеи лез -- метров двадцать, -- он тридцать пять мин
выпустил, и меня ранило в голову осколком, уже в траншее. Лежал в санбате с
восемнадцатого мая до десятого июня. Самочувствие хорошее.
Из ста двадцати трех гитлеровцев, которых в снайперской охоте убил
Седашкин, сто пять были истреблены им еще в его бытность в 374-м стрелковом
полку, а рассказывать мне он счел нужным только о восем-
надцати, убитых им с тех пор, как перешел в состав истребительной роты.
В общем доброго разговора с Седашкиным у меня так и не получилось, я
понял, что "разговориться" со мною он мог бы только вне "службы", у
какого-нибудь костра-дымокура в лесу. Я оставил его в покое, его сменил
вошедший в блиндаж снайпер Александр Михайлович Статуев...
Этот оказался человеком другого толка. Веселый, ясные, живые серые
глаза, пленительная улыбка, открывающая здоровые зубы и скрывающая
недостаток крепкого, загорелого лица -- слишком выпяченную верхнюю губу; она
никак не сочетается с его ребячески вздернутым носом и придает лицу
двадцатичетырехлетнего парня несвойственное ему стариковское выражение... Но
это только когда он не улыбается, а улыбка у него почти не сходит с лица.
Не с этой ли улыбкой он и убивает немцев?
Статуев тоже -- старший сержант, образование у него семиклассное, до
войны он служил завскладом промартели в Кинешме, где его жена с двумя детьми
живет и сейчас, работая продавщицей в продовольственном магазине.
Находясь в 374-м стрелковом полку, Статуев истребил пятьдесят два немца
и, вступив в роту снайперов, -- еще девятнадцать. Награжден медалью "За
отвагу", готовится из кандидатов ВКП(б) стать членом партии, в свободные
часы старательно читает военную и политическую литературу.
В составе 128-й дивизии он почти с начала войны -- с 10 июля 1941 года,
был тогда бойцом, с дивизией прошел весь ее путь...
Записал я и его рассказ, который он вел охотно, толково, -- о том, как
ходит он в паре с Овчинниковым, о ложных ячейках ("... шапку гражданскую
поставишь! Раз, -- веревочку на сто метров кидал из миномета, -- чучело
качалось, внутрь чучела -- вязевая палочка... У нас были три ячейки --
основная, запасная и ложная, на двоих... "), о методах прицеливания и
боковых поправках на ветер, о кратком своем дневнике...
Этот дневник открывается такой записью:
| Колич. Где и при каких Дата Часы уничт. обстоятельствах уничтожил фашиста 15. 12. 41 11. 00 2 В дер. Липки при переходе с левого фланга на правый фланг второго канала, в количестве 6 человек, шли; потратили патронов 10 штук. Вот выдержка (за май): 1. 5. 42 8. 00 2 Убил у блиндажа. 533-й 18. 10 сп. Стояли с группой в количестве трех человек. Когда немцы стали нести убитого, убили второго. 5. 5. 42 9. 00 1 741-й сп. Убили у 8-го поселка при ходьбе по поселку. 10. 5. 42 13. 00 1 374-й сп. Убил на 2-м канале, при переходе через канал. 11. 5. 42 13. 00 2 374-й сп. Первого убил 16. 00 в середине деревни при ходьбе в глубь деревни. Второго убил на втором канале, при ходьбе, шел на умыванье. 23. 5. 42 15. 00 1 374-й сп. Убил на 2-м канале при ходьбе, шел на канал умываться. 24. 5. 42 11. 00 2 374-й сп. Первого убил 16. 00 на 2-м канале. Носили бревна, и был убит из двух один. Второго убил на шоссе при переходе с кладбища в дер. Липки. 25. 5. 42 14. 00 1 374-й сп. Убил на правом канале при перебежке на канал за водою. |
| [*] Колич. Где и при каких Дата Часы уничт. обстоятельствах уничтожил фашиста 30. 5. 42 8. 00 1 533-й сп. Убил у обороны Черной речки 1, шел в полный рост и где был убит. 31. 5. 42 8. 00 2 533-й сп. Первого убил 19. 00 на передовой линии на Черной речке у блиндажа. Второго убил -- то же самое место, где и первого; очевидно, он подходил и узнавал, откуда же стреляют снайпера... |
 Снайпер А. Кочегаров и автор книги
в роте снайперов-истребителей 128-й сд.
* Июнь 1942 года.
Фото Г. Чертова.
Выходим к каналам. Оба они -- старый и новый -- текут здесь почти
впритык, рядышком. Дорога, ведущая по восточной бровке старого канала, скаты
берегов, даже видимое сквозь прозрачную воду дно -- избиты вражеской
артиллерией. Воронки, побитые поваленные деревья, опрокинутый в канал
грузовик. На дороге следы автомобильных шин.
-- Боеприпасы подвозят! -- молвит Кочегаров. -- Ну и раненых вывозить
требуется. Только машинами плохо: услышит -- минами сыплет. На бричках
сподручнее!
Рассказываю, как в старину бури на Ладоге топили караваны торговых
судов и как по велению Петра Первого строился канал, вдоль которого мы идем.
-- Русский мужик поработал тут! -- задумчиво замечает Кочегаров. -- С
царей да поныне труда вложоно!
Вправо от нас остается разбитая, постоянно, обстреливаемая башня
Бугровского маяка. До немцев отсюда по каналам не больше двух километров.
Слева потянулась полоса болота, сходим с дороги в лес, идем вдоль болота.
Березы здесь все те же, у земли их кора кажется грубой, серой, а чем выше по
стволу, тем нежнее; молодая, в свете нарядной зари -- бело-розовая.
Расщепленные ветви свиты в жгуты, тени от них коротки и причудливы.
Прикрытые сухой листвой траншеи заняты бойцами 374-го стрелкового
полка. Наш путь дальше -- туда, где поредевший лес совсем изувечен, где из
земли торчат уже не стволы, а только голые обглодыши. Алеющей зарей освещена
каждая выбоинка в разбитых стволах. Походка тяжелого на ногу алтайца Алексея
Кочегарова становится легкой, упругой, охотничьей...
Огневой налет ломает лес вокруг нас. Разрывы вздымают почву и стволы
деревьев справа и слева. Приникаем к земле. Враг неистовствует. Но
Кочегаров, прислушавшись, оценив обстановку, говорит:
Боится!
Чего боится?
Пара боится. Сосредоточенья какого у нас не
случилось бы. Щупает! Переждем минут пяток, товарищ майор, утишится!
Я не понял, о каком паре сказал Кочегаров, но не переспрашиваю. А он,
помолчав, предается воспоминаниям:
-- На этом месте в точности я и первое боевое крещение получил! В
октябре это было. Из запасного полка, после мобилизации приехал я сюда
десятого октября. Меня сразу в триста семьдесят четвертый полк, первый
батальон, вторую роту... И привели нас на это место к Липкам. Командир роты
был старшина Смирнов, политрук был рядовой Смирнов... Сейчас они --
лейтенант и младший политрук. Живы... А черт, чтоб тебя разорвало!
Последнее замечание сопроводило как раз разрыв сразу трех мин -- нас
осыпало ветками и землей...
-- Хорошо --в ямочке лежим! -- отряхиваясь, удовлетворенно говорит
Кочегаров. -- Теперь пойдет по канальной дороге сыпать. Я его знаю!.. Да...
Привели нас сюда. Окопались немножечко -- и в наступление. Похвалиться
нечем, результатов не получилось, мы были послабее, немец крепче, -- как
пойдем, так он нам жизни дает. Сначала страшновато было, до первого боя, а
как сходили, бояться перестали. Тут нас после первого боя командование сразу
полюбило. Меня сразу назначили вторым номером, пулеметчиком. Ну, и в бою,
верно, я как-то не терялся, ориентин вел (Кочегаров так и сказал:
"ориентин"). Пулеметчик мой терялся, а я лучше -- давал ему путь: куда
перебежать и как маскироваться. И его вскорости контужило.
А рота вся новая была, и все -- сибиряки, алтайцы. Действовали смело,
прямиком. Но нас косили здорово!..
Кочегаров рассказывает подробности этого боя. Мы идем дальше.
-- Тут каждое местечко мне памятное!.. -- прерывает свой рассказ
Кочегаров. -- Вон Липки, видите?
Наш лесной массив беспощадно оборван войной, впереди -- унылая пустошь.
Обожженными корявинами торчат деревья, убитые или тяжело раненные
горячим металлом. Только отдельные ветки на них, словно преодолев
мучительную боль, покрыты своей ярко-зеленой листвою. Смотреть издали, -- на
болезненную сыпь походят рваные пни. Вся пустошь изрыта ходами сообщения и
траншеями, усыпана искореженным металлическим ломом, изъязвлена воронками...
Пустырь вдвигается узкими клиньями в простертое впереди болото. На болоте
виднеются редкие зеленые купы кустарников... За болотом, где -- в километре
и где -- ближе, начинается такой же опустошенный немецкий передний край.
Справа, проходя поперек болота, тянутся из нашего тыла далеко в немецкий тыл
два параллельных канала, заключенных каждый в высокие береговые валы. Правее
каналов, за желтой песчаной полоской, уходит к горизонту ясная синь
Ладожского озера. А между каналами серовато-бурым нагромождением руин и
немецких укреплений лежит бывшая рыбацкая деревня Липки: огородные участки,
отмаскированные плетнем, остатки пристани, бугорки дзотов, насыпи, разбитые,
погорелые избы, развалины нескольких кирпичных домов.
Сделав рукой полукруг, Кочегаров показывает мне предстоящий путь: от
каналов -- вперед, к югу, вдоль наших позиций, затем с полкилометра на
запад, по выдвигающемуся в болото узкому клину пустоши, и от оконечности
этого клина опять на север -- в болото, по болоту к каналам, но уже в том
месте, против Липок, где они превращены в немецкий передний край.
-- Прямо к немцам, в мешок! -- усмехается Кочегаров. -- Там есть
ячеечка у меня, на двоих как раз. На островочке!
По болотным кочкам и лункам, над всем пространством "нейтральной" зоны
поднимается, клубясь под солнечными лучами, легкий туман. Только теперь
обратив внимание на него, я понял, о каком паре еще в лесу упомянул
Кочегаров. Если б даже сквозь этот пар можно было что-либо различить, глаза
вражеского наблюдателя ослепило бы встречное восходящее солнце. Самое время
для того, чтобы незаметно подобраться к врагу поближе! Идти затемно -- хуже:
слишком много насовано тут всяких мин и малозаметных препятствий,
ночью, пожалуй, не остережешься!
Впригибку, по ходам сообщения, минуя завалы, подходим к зигзагам
передней траншеи, за которой -- колючая проволока. Траншея неглубока,
окаймлена березовым плетнем-частоколом. Кое-где над ней козырьком надвинуты
обрубочки березовых кругляшей, прикрытые свежей еще листвой. Идем по
траншее.
Бойцы стрелковой роты здесь, видимо, хорошо знают Кочегарова,
пошучивая, здороваются, указывают проходы в заминированном болоте. Кочегаров
задерживается у какого-то младшего лейтенанта, приветствующего меня строго
официально, а его -- попросту и дружески.
-- Нуте-ка, товарищ младший лейтенант, украшеньица пристройте нам!..
На каске Кочегарова "вырастает" кустик черники, на моей -- зеленый
пучок болотной травы.
Против уходящего к немцам клина мы переваливаемся через бруствер первой
траншеи, пролезаем в дыру частокола и ползком, от воронки к воронке, от пня
к пню, от куста к кусту, отлеживаясь, отдыхая, пробираемся к оконечности
клина. Кочегаров отлично знает, куда ползти. Здесь уже некогда
разговаривать, здесь надо чувствовать -- осязать, слышать, видеть.
-- Ссс! -- подняв руку, предостерегающе свистит Кочегаров.
Я чуть было не навалился на такую же, как все, сухую подушечку серого
мха; но Кочегаров на эту подушечку указал пальцем.
Здесь минное поле. Вглядываюсь: подушечка мха прилажена к земле рукой
человека, она прикрывает плоскую железную коробку противотанковой мины.
-- Фюить! -- снова коротко свистит Кочегаров, и, следя за его
указательным пальцем, я уверенно ложусь грудью на соседнюю, такую же, но
уходящую корнями в землю подушечку мха.
По пути там и здесь вижу хорошо замаскированные сверху и со стороны
противника снайперские ячейки, обращенные вправо к болоту и к каналам. Две
последние врезаны под большие пни на узеньком конце клина. Тут --делать
нечего! -- нам надо, повернув на север, вползти в болото. Вот канавка с
коричневой, ржавой жижей. Кочегаров заползает в нее ужом и, зажав под мышку
снайперскую винтовку, работая коленями и локтями, стараясь не плескать
водой, сразу промочившей его одежду, приближается к намеченному впереди
кусту. Тем же способом следую за Кочегаровым. Канавка уводит нас под старое
изорванное проволочное заграждение, -- оставляем его за собой.
Листочки черники, хорошо привязанные над головой Кочегарова, и пучок
болотной травы над моей головой зыблются, и это не нравится моему спутнику.
Он и мне велит и сам старается нести голову плавно, как блюдце, наполненное
водой.
Березовый куст---место для передышки. За нами теперь уже нет никого.
Ясно ощущается, что вся Красная Армия -- от боевого охранения перед
оставленной нами опушкой до глубоких армейских тылов -- теперь уже позади, и
что два товарища, только что лукаво подмигнувшие друг другу под этим
березовым кустом, отплыли от родных берегов в болотную опасную зону никем не
занятого, простреливаемого и с той и с другой стороны пространства.
Но еще дальше! Впереди, наискось, еще один пышный куст. Вырытая под ним
продолговатая ямка с нашей стороны чуть различима в траве и цветах. Это --
новая снайперская ячейка Кочегарова. Все болото вокруг изрыто: круглые,
словно мокрые язвы, воронки, вороночки, обрамленные мелкой, подсыхающей на
солнце торфяною трухой.
И снова свист: ст-ст-сью! -- на этот раз над нашими головами. Это
свистнули между ветвями три вражеские пули. Неужели замечены?.. Припав к
траве, застыв как изваяние, Кочегаров быстро поводит спокойными,
внимательными глазами. Вся местность вокруг мгновенно оценена опытным
взглядом. Нет, враг не таится нигде вокруг, негде ему укрыться.
-- Вот тут бы не выказаться! -- шепчет, оборотив ко мне лицо,
Кочегаров. -- А то ежели здесь начнет
минами угощать, и схорониться негде! Пошли правее, на мой островок
вылезем!
И, извиваясь всем телом, с удивительной быстротой, Кочегаров проползает
последние пятьдесят метров, оставшиеся до заготовленной им ячейки. Стараюсь
от него не отстать. Никакого островка не вижу, но место здесь чуть посуше.
Видимо, это сухое местечко в середине болота Кочегаров и назвал своим
"островком".
В ячейке двоим тесновато. Кажется, чувствуешь биение сердца соседа.
Лицо Кочегарова в брызгах воды. Вдумчивые глаза устремлены вперед, на кромку
канала, лицом к которому мы теперь оказались. Он совсем близко, до него нет
и двухсот метров. Этот участок его -- уже передний край немцев.
Сразу за каналом -- восточная оконечность уходящей между каналами влево
деревни Липки. Еще левее, к западу от нас, болото тянется далеко, но в него
с юга врезан мыс, такой же как тот, по которому мы ползли, острый, с
остатками леса. На оконечности мыса виднеется немецкое кладбище, от него над
болотом бревенчатая дорога. На мысу, над дорогой, и на бровке канала видны
серые бугорки. Это -- первая, изогнувшаяся дугой траншея фашистов. Мы
действительно заползли к врагу в некий мешок, а "нейтральный" участок
канала, пересекающий впереди болото, теперь приходится правее нас.
Можно только догадываться, что враг наблюдает, и кажется странным, как
это он не заметил тебя, пока ты полз по болоту... Но тихо... Так тихо
вокруг, словно врага и вовсе не существует... Светит благостное, мирное
солнце. Листья березового куста девственно зелены. Их немного, этих кустов,
на болоте -- здесь и там, одинокие, они раскиданы яркими пятнами над
болотными травами и лунками черной воды.
Наша ячейка под кустом обложена по полукругу кусками дерна, на них, как
и на всей крошечной луговинке вокруг куста, замерли на тонких стебельках
полевые цветы. Они дополнительно маскируют нас.
Кочегаров осторожно просовывает ствол винтовки под листву куста, между
двумя продолговатыми
кусками дерна, заранее заложенными иод углом один к другому, чтобы
ствол можно было поворачивать вправо и влево. Таких амбразур у нас две: одна
открывает сектор обстрела на канал -- на деревню Липки, другая -- на мысок с
кладбищем.
Даже звук отщелкиваемого мною ремешка на футляре бинокля здесь кажется
предательски громким. Стрелять должно только наверняка и так, чтобы зоркий
враг не заметил ни вспышки, ни легкой дымки пороховых газов. Вот почему мне,
новичку, конечно, и не следовало брать с собой винтовку. Стрелять будет
только Кочегаров, а мой пистолет, как и наши гранаты, мог бы понадобиться
лишь в неожиданном, непредвиденном случае, если б возникла нужда драться с
оказавшимся рядом врагом в открытую, дорого продавая свою жизнь. Но на такой
случай опытный снайпер Кочегаров и не рассчитывает: все у него должно
получиться как надо, только -- терпение (или, как говорит он, --
"терпление")!
Уже через десяток минут, зорко наблюдая сам и выслушивая высказываемые
шепотом объяснения Кочегарова, я чувствую себя хозяином обстановки. Наш
первый ориентир -- кусты на канале (два цветущих вопреки войне куста
черемухи). До них -- сто восемьдесят метров. Второй -- дальний ориентир --
чуть левее, в шестистах двадцати метрах от нас: разрушенная постройка за
вторым (Ново-Ладожским) каналом. Вод Ладоги отсюда не видно. Третий -- белый
обрушенный кирпичный дом в деревне между каналами: от нас четыреста тридцать
метров. Четвертый ориентир -- четыреста пятьдесят метров, влево от белого
дома начало дороги, ведущей от канала к кладбищу. Пятый -- еще левей,
одинокая березка на мысу перед кладбищем: пятьсот метров. Движенья в деревне
никакого, все укрыто, все -- под землей.
Время тянется медленно. Хочется пить, все сильней припекает солнце.
Перешептываться больше, кажется, не о чем, да и не нужно. Можно думать, о
чем хочешь думать, только не отрывать глаз от горячего в лучах солнца, хоть
и примаскированного листьями, бинокля. Но все думы теперь об одном: неужели
не появит-
ся? Неужели день пройдет зря? Хоть на секунду бы высунулся!
Где покажется он? Там, у мостика через канал, перекинутого в середине
Липок? Мостик закрыт сетями с налепленными на них лоскутьями тряпок, и
увидеть немца можно только в момент, когда он перебежит дорогу... Или у
входа в угловой дзот, врезанный в развалины дома?..
А могут ли они видеть нас? Вокруг меня полевые цветы, они уже поднялись
высоко. Кое-где на болоте видны еще несколько таких "островков". Нет, немцу
невдомек, что русский солдат может затаиться и укрепиться под самым носом у
него, здесь, в болоте!
Тишина. Странная тишина -- вдруг почему-то ни с чьей стороны никакой
стрельбы. Бывает и так на фронте!.. Гляжу на сочный стебель ромашки -- чуть
не на полметра в высоту вымахала она, окруженная толпою других, пониже. Как
давно я не лежал так, лицом прямо в корни и стебельки душистых июньских
трав!..
Нижние листья ромашки похожи на саперные лопаточки, сужающиеся в
тоненький длинный черенок. Края у этих лопаточек иззубрены. А верхние --
узки, острозубы, как тщательно направленная пила. Трубчатые желтые
сердцевины цветков, окруженные белыми нежными язычками... "Любит, не
любит!.. " Кто скажет здесь это таинственное, сладостное слово: "любит"?
Здесь люди думают только о смерти -- чужой и своей...
А вот третью от моих глаз ромашку обвил полевой вьюнок. Как нежны его
бледно-розовые вороночки, -- кажется, я чую исходящий от них тонкий
миндальный запах! Хитро извиваются цветоножки вокруг ромашкиного стебля... А
ведь они душат ромашку. И тут война!
Вдруг... Неужели такая радость?.. Поет соловей! Где он?
... Хви-сшо-ррхви-хвиссч-шор... ти-ти-тью, ти-титью!.. фли-чо-чо-чо...
чо-чочо... чр-чу... рцч-рцч, пиу-пиу-пию!..
Даже внимательный к наблюдению за врагом
Алексей Кочегаров выдержать этого не может. Поворачивает ко мне лицо,
размягченное такой хорошей, почти детской улыбкой, какой я еще у него не
видел.
-- Ишь ты, голосовик, лешева дудка! Коленца выкручивает! И дробь тебе,
и раскат!..
Мы замерли оба и слушаем, вслушиваемся.
Ти-ти-чью-чью-чррц! ?.
Мне вдруг тесно в груди, а Кочегаров, скинув улыбку, сердито
отряхнувшись головою от пенья (нельзя отвлекаться!), прижимается глазом к
оптическому прицелу.
Где ж ты, певун? На нашем кусте?.. Вот он, на верхней ветке, чуть
покачивает ее. Скромен в своем оперенье, весь как будто коричнево-сер. Но
нет, в тонах его переливов множество, совсем почти белые два пятна на
горлышке и на грудке, брюшко не серое, а скорее рыжеватое, хвост -- цвета
ржавой болотной воды, а крылья еще темней, будто смазаны йодом. И уж совсем
густо-коричнево оперенье спинки!
Никогда так внимательно и подробно не рассматривал я соловья!
Чирк-чирк, -- певун поднялся, полетел над болотом, покружился у другого
куста, помчался дальше, к вражескому переднему краю. Вместе со мною следя за
его полетом, Алексей Кочегаров шепчет:
-- Не должон бы ты немцу петь!
И, взглянув мне прямо в глаза, вздыхает:
-- Да где ж ей, птахе, в горе нашем-то разобраться!..
И, больше не отрываясь от оптического прицела, сощурясь, укрыв
сосредоточенное лицо в траве, лежа в удивительной неподвижности, снайпер
Кочегаров терпеливо выискивает себе цель.
Я гляжу в бинокль, сначала вижу только расплывчатые, вставшие зеленой
стеной стебли трав. Сквозь них такими же неясными тенями проходят образы
людей, умерших от голода в Ленинграде, и вдруг будто видится мне пытаемый
медленными зимними пожарами мой родной город, будто слышится свист
пикирующих бомбардировщиков... Это длится, быть может, мгновенье, и вот, в
"просеке" между травами, в
точном фокусе на перекрестье линз, я вижу канал у края Липок ("как,
должно быть, тонко пахнут там, у немцев, эти два цветущих куста черемухи!"),
левее -- бугор немецкого переднего края, выдвигающийся в болото, а еще левее
"пятый ориентир" -- березку, за нею белые кресты на кладбище гитлеровских
вояк... Я вспоминаю: на днях -- годовщина Отечественной войны. Мой Ленинград
все еще в блокаде!
И томительного щемления в сердце нет. В сердце, как прежде, --
ожесточенность... Я вглядываюсь в белые немецкие кресты и размышляю о том,
что ни одного из них не останется, когда наша дивизия продвинется на
километр вперед... Когда это будет? На месте, как вкопанные, стоим и мы, и
немцы -- вот уже чуть ли не девять месяцев! Но это будет, будет... А пока --
пусть Кочегаров бьет, бьет, бьет лютого врага, не зная пощады. Все
правильно. Все справедливо!
... Что-то в Липках привлекло внимание Кочегарова. Он долго
всматривался, оторвал взгляд от трубки, потер глаза, вздохнул:
-- Ничего... Померещилось, будто фриц, а то -- лошадь у них по-за домом
стоит. Иногда торбой взмахнет, торба выделится... На что мне по той лошади
стрелять? Она уже мне знакомая. Пусть кивает!.. А все ж таки притомительно,
но глядеть надо! Иной раз все глаза проглядишь до вечера и -- впустую!..
Наше дело напряженья для глаза требует!
И опять прильнул к трубе. Я повел биноклем по переднему краю немцев:
все близко, все предметно ясно, вплотную ко мне приближено, каждая
хворостина плетней, пересекающих прежние огородные участки между домами,
разрушенными, принявшими под свои поваленные стены вражеские блиндажи. И все
-- безжизненно: ни человека, ни собаки, ни кошки. Нетнет да и прошелестит,
просвистит низко над нашими головами крупнокалиберный снаряд, пущенный
издалека, из лесов наших. Да и грохнет посреди деревни разрывом. Взметнутся
фонтаном земля, осколки, дым. Раз донеслись пронзительные смертные крики и
яростная немецкая ругань. Но никто на поверхности земли не показался.
редью, и Кочегаров, ткнув меня локтем, беззвучно смеется:
-- Видишь, куда берут! Они думают -- из опушки!
Действительно: гитлеровцам невдомек, что снайперский выстрел был из
бесшумки да с дистанции в сто восемьдесят метров. Они косят огнем
надрывающегося пулемета уже давно искрошенные деревья в том направлении, где
Кочегаров утром остерегал меня от зеленых смертоносных коробочек. Отсюда до
них больше километра... Стучит пулемет, и вслед за его трескотней летят по
небу, режут слух воющие тяжелые мины -- одна, вторая и третья. И сразу
быстрою чередой -- три далеких разрыва сзади, и, оглянувшись на мыс, в
полукилометре, там, откуда мы вползли в болото, я вижу мелькание
разлетающихся ветвей. За первым залпом -- несколько следующих, бесцельных.
Кочегаров даже не клонит к земле головы, ему понятно по звукам: разрывы
ложатся позади нас, не ближе чем в трехстах метрах.
В ответ на немецкий огонь по всему переднему краю немцев начинают
класть мины наши батальонные минометы. Вдоль канала строчит "максим",
перепалка длится минут пятнадцать, фонтаны дымков сливаются в низко плывущий
над Липками дым. Но людей словно бы нигде и нет.
Стучат пулеметы, рвутся мины, а снайперу Кочегарову в эти минуты самое
время изощрить наблюдение за противником: не подползет ли кто-нибудь к
убитому, не вскроется ли еще огневая точка, не приподнимется ли там,
впереди, чья-либо голова?
Но враг опытен. Никаких целей впереди нет.
И снова все тихо...
... Еще через час, после медленного и молчаливого нашего отхода, я с
Кочегаровым снова шагаю по пышному лесу. Иду задумавшись, Кочегаров опять
мне что-то рассказывает -- о том, как ему приходилось бывать в "пререканиях"
с немецкими снайперами, и -- про последнего, убитого им два дня назад "сто
двенадцатого". Но я устал и не слушаю.
-- Вот такое мое происшествие!.. А сейчас это уже, считать, сто
тринадцатый! -- заканчивает свой
рассказ Кочегаров, и мы продолжаем путь молча. Кочегаров вдруг
прерывает молчание:
Вот с вами приезжал фотограф, меня спросил давеча: на кого существеннее
-- на зверя или на фрица?
Ну... И что вы ему ответили?
Конечно, фриц-то поавторитетней, опасней, -- раздумчиво ответствует
Кочегаров. -- Но, конечно, для Родины приходится! Чем больше убьем их, тем
скорее победа... Дело почетное!.. Так я ему, выходит, сказал!..
Г Л А В А Д Е С Я Т А Я
Н А Ч А Л О В Т О Р О Г О ГОДА
ПОД МЯСНЫМ БОРОМ1
ПЕРЕД ГОДОВЩИНОЙ ВОИНЫ
РОВНО ГОД!
РАЗВЕДЧИКИ
ИДУТ ДОЖДИ
СЕВАСТОПОЛЬ
(8-я армии. 15 июня -- 4 июля 1912 года)
Военные историки в наши дни, изучая архивы Советской Армии, документы
германского генерального штаба и высказывания руководителей фашистской
Германии, убедились в том, что главной целью Гитлера в летней кампании 1942
года был окончательный разгром Советских Вооруженных Сил и окончание войны в
том году. А советское командование планировало начать летнюю кампанию
наступательными операциями под Ленинградом, в районе Демянска, на Смоленском
направлении и на Харьковском участке фронта. Задача наша состояла в том,
чтобы разгромить действовавшие там группировки противника и улучшить
оперативное положение наших войск.
Зимние наступательные операции Красной Армии оказались незавершенными,
и потому линия фронта к лету была очень извилиста, в ней образовались
огромные выступы, угрожавшие и нам и немцам. Такой выступ получили в районе
Демянска, где наш
Северо-Западный фронт окружил 16-ю немецкую армию, но не смог ее
уничтожить, и потому 16-я армия, глубоко вклиненная в расположение наших
войск, грозила выйти в тыл частям соседнего, нашего Калининского фронта.
А северо-западнее Новгорода 2-я Ударная армия Ленинградского фронта,
врезавшись глубоким клином в 18-ю немецкую армию, стремясь нанести ей
губительный для нее удар, сама оказалась охваченной с трех сторон вражескими
войсками. Стягивая резервы, гитлеровцы старались ликвидировать наш огромный
плацдарм и -- пока им это не удавалось -- решили даже отложить намеченную
ими операцию по захвату Ленинграда. В марте 1942 года гитлеровцам удалось
было перерезать коммуникации 2-й Ударной, но она тогда сумела отбросить
врага и продолжала вести наступательные бои... Затем здесь у нас положение
осложнилось: болота оттаяли, распутица разрушила все временные настильные
дороги, снабжение армии стало невозможным, и 14 мая Ставка верховного
главнокомандующего приказала отвести всю армию на рубеж Волхова. А 30 мая
случилась беда: гитлеровцы двумя встречными ударами в основание клина -- у
Спасской Полисти и у Большого Замошья -- отрезали 2-ю Ударную армию от наших
основных сил и окружили ее. Здесь произошло неслыханное за всю Отечественную
войну, возмутившее всю нашу страну преступление, о котором в наши дни
"История Великой Отечественной войны"1 коротко говорит так:
"... Неблагоприятный исход любанской операции в значительной степени
был определен трусостью и бездействием командующего 2-й Ударной армией
генерал-майора А. А. Власова, который, боясь ответственности за поражение
армии, изменил Родине и добровольно перешел к гитлеровцам... "
Власов командовал этой армией с 6 марта. В январе, в феврале прекрасный
вначале успех этой ар-
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советскою Союза 1941 -1945л т. II, стр. 470
мии был достигнут под командованием других генералов -- Г. Г. Соколова
(при нем в 1941 году 2-я Ударная была создана из 26-й, находившейся в
резерве Главного командования армии и некоторых частей Волховского,
образованного 17 декабря, фронта) и Н. К. Клыкова, который вел ее в
наступление... В армии было множество храбрейших, беззаветно преданных
Родине воинов -- русских, башкир, татар, чувашей, (26-я армия формировалась
в Чувашской АССР), казахов и других национальностей. На всю страну
прославились под Новгородом три разведчика 225-й стрелковой дивизии -- И. С.
Герасименко, А. С. Красилов и Л. А. Черемнов, закрывшие собой одновременно
три вражеских пулеметных дзота. За их подвиг им были посмертно присвоены
звания Героев Советского Союза, о них писал стихи Н. Тихонов. Только после
войны советский народ узнал о подвиге попавшего в плен в момент окружения
бойца одной из ее частей -- татарского поэта Мусы Джалиля.
Волхов -- свидетель: я не струсил, Пылинку жизни моей не берег В
содрогающемся под бомбами, Обреченном на смерть кольце... ... Судьба
посмеялась надо мной: Смерть обошла -- прошла стороной. Последний миг -- и
выстрела нет Мне изменил мой пистолет... --
так писал в фашистской тюрьме поэт, позже, в 1944 году, казненный
гитлеровцами!..
Подвигов, совершенных воинами 2-й Ударной, не перечесть! Нет слов,
чтобы высказать негодование всех бойцов, командиров и политработников этой
героической армии, которым удалось вырваться из окружения!
Но в неравных боях и от истощения, от голода погибли многие. Целый
месяц, до начала июля, части, подразделения, отдельные группы воинов 2-й
Ударной с величайшими трудностями выбирались из окружения.
Но и вражеских сил уничтожила она немало: шесть немецких дивизий,
стянутых из-под Ленингра-
да к Волхову, были обескровлены ею, фашистские легионы "Нидерланды" и
"Фландрия" разгромлены наголову, в болотах осталось множество вражеской
артиллерии, танков, самолетов, десятки тысяч, гитлеровцев...
... В июне 1942 года я да и большинство средних и старших командиров
как 8-й, так и 54-й армий Ленинградского фронта еще не знали истинного
положения и подробностей обстановки, сложившейся под Любаныо. Но суть
произошедшей там катастрофы была уже многим известна. Подробности стали
выясняться после выхода к основным силам остатков окруженных частей...
Снайпер А. Кочегаров и автор книги
в роте снайперов-истребителей 128-й сд.
* Июнь 1942 года.
Фото Г. Чертова.
Выходим к каналам. Оба они -- старый и новый -- текут здесь почти
впритык, рядышком. Дорога, ведущая по восточной бровке старого канала, скаты
берегов, даже видимое сквозь прозрачную воду дно -- избиты вражеской
артиллерией. Воронки, побитые поваленные деревья, опрокинутый в канал
грузовик. На дороге следы автомобильных шин.
-- Боеприпасы подвозят! -- молвит Кочегаров. -- Ну и раненых вывозить
требуется. Только машинами плохо: услышит -- минами сыплет. На бричках
сподручнее!
Рассказываю, как в старину бури на Ладоге топили караваны торговых
судов и как по велению Петра Первого строился канал, вдоль которого мы идем.
-- Русский мужик поработал тут! -- задумчиво замечает Кочегаров. -- С
царей да поныне труда вложоно!
Вправо от нас остается разбитая, постоянно, обстреливаемая башня
Бугровского маяка. До немцев отсюда по каналам не больше двух километров.
Слева потянулась полоса болота, сходим с дороги в лес, идем вдоль болота.
Березы здесь все те же, у земли их кора кажется грубой, серой, а чем выше по
стволу, тем нежнее; молодая, в свете нарядной зари -- бело-розовая.
Расщепленные ветви свиты в жгуты, тени от них коротки и причудливы.
Прикрытые сухой листвой траншеи заняты бойцами 374-го стрелкового
полка. Наш путь дальше -- туда, где поредевший лес совсем изувечен, где из
земли торчат уже не стволы, а только голые обглодыши. Алеющей зарей освещена
каждая выбоинка в разбитых стволах. Походка тяжелого на ногу алтайца Алексея
Кочегарова становится легкой, упругой, охотничьей...
Огневой налет ломает лес вокруг нас. Разрывы вздымают почву и стволы
деревьев справа и слева. Приникаем к земле. Враг неистовствует. Но
Кочегаров, прислушавшись, оценив обстановку, говорит:
Боится!
Чего боится?
Пара боится. Сосредоточенья какого у нас не
случилось бы. Щупает! Переждем минут пяток, товарищ майор, утишится!
Я не понял, о каком паре сказал Кочегаров, но не переспрашиваю. А он,
помолчав, предается воспоминаниям:
-- На этом месте в точности я и первое боевое крещение получил! В
октябре это было. Из запасного полка, после мобилизации приехал я сюда
десятого октября. Меня сразу в триста семьдесят четвертый полк, первый
батальон, вторую роту... И привели нас на это место к Липкам. Командир роты
был старшина Смирнов, политрук был рядовой Смирнов... Сейчас они --
лейтенант и младший политрук. Живы... А черт, чтоб тебя разорвало!
Последнее замечание сопроводило как раз разрыв сразу трех мин -- нас
осыпало ветками и землей...
-- Хорошо --в ямочке лежим! -- отряхиваясь, удовлетворенно говорит
Кочегаров. -- Теперь пойдет по канальной дороге сыпать. Я его знаю!.. Да...
Привели нас сюда. Окопались немножечко -- и в наступление. Похвалиться
нечем, результатов не получилось, мы были послабее, немец крепче, -- как
пойдем, так он нам жизни дает. Сначала страшновато было, до первого боя, а
как сходили, бояться перестали. Тут нас после первого боя командование сразу
полюбило. Меня сразу назначили вторым номером, пулеметчиком. Ну, и в бою,
верно, я как-то не терялся, ориентин вел (Кочегаров так и сказал:
"ориентин"). Пулеметчик мой терялся, а я лучше -- давал ему путь: куда
перебежать и как маскироваться. И его вскорости контужило.
А рота вся новая была, и все -- сибиряки, алтайцы. Действовали смело,
прямиком. Но нас косили здорово!..
Кочегаров рассказывает подробности этого боя. Мы идем дальше.
-- Тут каждое местечко мне памятное!.. -- прерывает свой рассказ
Кочегаров. -- Вон Липки, видите?
Наш лесной массив беспощадно оборван войной, впереди -- унылая пустошь.
Обожженными корявинами торчат деревья, убитые или тяжело раненные
горячим металлом. Только отдельные ветки на них, словно преодолев
мучительную боль, покрыты своей ярко-зеленой листвою. Смотреть издали, -- на
болезненную сыпь походят рваные пни. Вся пустошь изрыта ходами сообщения и
траншеями, усыпана искореженным металлическим ломом, изъязвлена воронками...
Пустырь вдвигается узкими клиньями в простертое впереди болото. На болоте
виднеются редкие зеленые купы кустарников... За болотом, где -- в километре
и где -- ближе, начинается такой же опустошенный немецкий передний край.
Справа, проходя поперек болота, тянутся из нашего тыла далеко в немецкий тыл
два параллельных канала, заключенных каждый в высокие береговые валы. Правее
каналов, за желтой песчаной полоской, уходит к горизонту ясная синь
Ладожского озера. А между каналами серовато-бурым нагромождением руин и
немецких укреплений лежит бывшая рыбацкая деревня Липки: огородные участки,
отмаскированные плетнем, остатки пристани, бугорки дзотов, насыпи, разбитые,
погорелые избы, развалины нескольких кирпичных домов.
Сделав рукой полукруг, Кочегаров показывает мне предстоящий путь: от
каналов -- вперед, к югу, вдоль наших позиций, затем с полкилометра на
запад, по выдвигающемуся в болото узкому клину пустоши, и от оконечности
этого клина опять на север -- в болото, по болоту к каналам, но уже в том
месте, против Липок, где они превращены в немецкий передний край.
-- Прямо к немцам, в мешок! -- усмехается Кочегаров. -- Там есть
ячеечка у меня, на двоих как раз. На островочке!
По болотным кочкам и лункам, над всем пространством "нейтральной" зоны
поднимается, клубясь под солнечными лучами, легкий туман. Только теперь
обратив внимание на него, я понял, о каком паре еще в лесу упомянул
Кочегаров. Если б даже сквозь этот пар можно было что-либо различить, глаза
вражеского наблюдателя ослепило бы встречное восходящее солнце. Самое время
для того, чтобы незаметно подобраться к врагу поближе! Идти затемно -- хуже:
слишком много насовано тут всяких мин и малозаметных препятствий,
ночью, пожалуй, не остережешься!
Впригибку, по ходам сообщения, минуя завалы, подходим к зигзагам
передней траншеи, за которой -- колючая проволока. Траншея неглубока,
окаймлена березовым плетнем-частоколом. Кое-где над ней козырьком надвинуты
обрубочки березовых кругляшей, прикрытые свежей еще листвой. Идем по
траншее.
Бойцы стрелковой роты здесь, видимо, хорошо знают Кочегарова,
пошучивая, здороваются, указывают проходы в заминированном болоте. Кочегаров
задерживается у какого-то младшего лейтенанта, приветствующего меня строго
официально, а его -- попросту и дружески.
-- Нуте-ка, товарищ младший лейтенант, украшеньица пристройте нам!..
На каске Кочегарова "вырастает" кустик черники, на моей -- зеленый
пучок болотной травы.
Против уходящего к немцам клина мы переваливаемся через бруствер первой
траншеи, пролезаем в дыру частокола и ползком, от воронки к воронке, от пня
к пню, от куста к кусту, отлеживаясь, отдыхая, пробираемся к оконечности
клина. Кочегаров отлично знает, куда ползти. Здесь уже некогда
разговаривать, здесь надо чувствовать -- осязать, слышать, видеть.
-- Ссс! -- подняв руку, предостерегающе свистит Кочегаров.
Я чуть было не навалился на такую же, как все, сухую подушечку серого
мха; но Кочегаров на эту подушечку указал пальцем.
Здесь минное поле. Вглядываюсь: подушечка мха прилажена к земле рукой
человека, она прикрывает плоскую железную коробку противотанковой мины.
-- Фюить! -- снова коротко свистит Кочегаров, и, следя за его
указательным пальцем, я уверенно ложусь грудью на соседнюю, такую же, но
уходящую корнями в землю подушечку мха.
По пути там и здесь вижу хорошо замаскированные сверху и со стороны
противника снайперские ячейки, обращенные вправо к болоту и к каналам. Две
последние врезаны под большие пни на узеньком конце клина. Тут --делать
нечего! -- нам надо, повернув на север, вползти в болото. Вот канавка с
коричневой, ржавой жижей. Кочегаров заползает в нее ужом и, зажав под мышку
снайперскую винтовку, работая коленями и локтями, стараясь не плескать
водой, сразу промочившей его одежду, приближается к намеченному впереди
кусту. Тем же способом следую за Кочегаровым. Канавка уводит нас под старое
изорванное проволочное заграждение, -- оставляем его за собой.
Листочки черники, хорошо привязанные над головой Кочегарова, и пучок
болотной травы над моей головой зыблются, и это не нравится моему спутнику.
Он и мне велит и сам старается нести голову плавно, как блюдце, наполненное
водой.
Березовый куст---место для передышки. За нами теперь уже нет никого.
Ясно ощущается, что вся Красная Армия -- от боевого охранения перед
оставленной нами опушкой до глубоких армейских тылов -- теперь уже позади, и
что два товарища, только что лукаво подмигнувшие друг другу под этим
березовым кустом, отплыли от родных берегов в болотную опасную зону никем не
занятого, простреливаемого и с той и с другой стороны пространства.
Но еще дальше! Впереди, наискось, еще один пышный куст. Вырытая под ним
продолговатая ямка с нашей стороны чуть различима в траве и цветах. Это --
новая снайперская ячейка Кочегарова. Все болото вокруг изрыто: круглые,
словно мокрые язвы, воронки, вороночки, обрамленные мелкой, подсыхающей на
солнце торфяною трухой.
И снова свист: ст-ст-сью! -- на этот раз над нашими головами. Это
свистнули между ветвями три вражеские пули. Неужели замечены?.. Припав к
траве, застыв как изваяние, Кочегаров быстро поводит спокойными,
внимательными глазами. Вся местность вокруг мгновенно оценена опытным
взглядом. Нет, враг не таится нигде вокруг, негде ему укрыться.
-- Вот тут бы не выказаться! -- шепчет, оборотив ко мне лицо,
Кочегаров. -- А то ежели здесь начнет
минами угощать, и схорониться негде! Пошли правее, на мой островок
вылезем!
И, извиваясь всем телом, с удивительной быстротой, Кочегаров проползает
последние пятьдесят метров, оставшиеся до заготовленной им ячейки. Стараюсь
от него не отстать. Никакого островка не вижу, но место здесь чуть посуше.
Видимо, это сухое местечко в середине болота Кочегаров и назвал своим
"островком".
В ячейке двоим тесновато. Кажется, чувствуешь биение сердца соседа.
Лицо Кочегарова в брызгах воды. Вдумчивые глаза устремлены вперед, на кромку
канала, лицом к которому мы теперь оказались. Он совсем близко, до него нет
и двухсот метров. Этот участок его -- уже передний край немцев.
Сразу за каналом -- восточная оконечность уходящей между каналами влево
деревни Липки. Еще левее, к западу от нас, болото тянется далеко, но в него
с юга врезан мыс, такой же как тот, по которому мы ползли, острый, с
остатками леса. На оконечности мыса виднеется немецкое кладбище, от него над
болотом бревенчатая дорога. На мысу, над дорогой, и на бровке канала видны
серые бугорки. Это -- первая, изогнувшаяся дугой траншея фашистов. Мы
действительно заползли к врагу в некий мешок, а "нейтральный" участок
канала, пересекающий впереди болото, теперь приходится правее нас.
Можно только догадываться, что враг наблюдает, и кажется странным, как
это он не заметил тебя, пока ты полз по болоту... Но тихо... Так тихо
вокруг, словно врага и вовсе не существует... Светит благостное, мирное
солнце. Листья березового куста девственно зелены. Их немного, этих кустов,
на болоте -- здесь и там, одинокие, они раскиданы яркими пятнами над
болотными травами и лунками черной воды.
Наша ячейка под кустом обложена по полукругу кусками дерна, на них, как
и на всей крошечной луговинке вокруг куста, замерли на тонких стебельках
полевые цветы. Они дополнительно маскируют нас.
Кочегаров осторожно просовывает ствол винтовки под листву куста, между
двумя продолговатыми
кусками дерна, заранее заложенными иод углом один к другому, чтобы
ствол можно было поворачивать вправо и влево. Таких амбразур у нас две: одна
открывает сектор обстрела на канал -- на деревню Липки, другая -- на мысок с
кладбищем.
Даже звук отщелкиваемого мною ремешка на футляре бинокля здесь кажется
предательски громким. Стрелять должно только наверняка и так, чтобы зоркий
враг не заметил ни вспышки, ни легкой дымки пороховых газов. Вот почему мне,
новичку, конечно, и не следовало брать с собой винтовку. Стрелять будет
только Кочегаров, а мой пистолет, как и наши гранаты, мог бы понадобиться
лишь в неожиданном, непредвиденном случае, если б возникла нужда драться с
оказавшимся рядом врагом в открытую, дорого продавая свою жизнь. Но на такой
случай опытный снайпер Кочегаров и не рассчитывает: все у него должно
получиться как надо, только -- терпение (или, как говорит он, --
"терпление")!
Уже через десяток минут, зорко наблюдая сам и выслушивая высказываемые
шепотом объяснения Кочегарова, я чувствую себя хозяином обстановки. Наш
первый ориентир -- кусты на канале (два цветущих вопреки войне куста
черемухи). До них -- сто восемьдесят метров. Второй -- дальний ориентир --
чуть левее, в шестистах двадцати метрах от нас: разрушенная постройка за
вторым (Ново-Ладожским) каналом. Вод Ладоги отсюда не видно. Третий -- белый
обрушенный кирпичный дом в деревне между каналами: от нас четыреста тридцать
метров. Четвертый ориентир -- четыреста пятьдесят метров, влево от белого
дома начало дороги, ведущей от канала к кладбищу. Пятый -- еще левей,
одинокая березка на мысу перед кладбищем: пятьсот метров. Движенья в деревне
никакого, все укрыто, все -- под землей.
Время тянется медленно. Хочется пить, все сильней припекает солнце.
Перешептываться больше, кажется, не о чем, да и не нужно. Можно думать, о
чем хочешь думать, только не отрывать глаз от горячего в лучах солнца, хоть
и примаскированного листьями, бинокля. Но все думы теперь об одном: неужели
не появит-
ся? Неужели день пройдет зря? Хоть на секунду бы высунулся!
Где покажется он? Там, у мостика через канал, перекинутого в середине
Липок? Мостик закрыт сетями с налепленными на них лоскутьями тряпок, и
увидеть немца можно только в момент, когда он перебежит дорогу... Или у
входа в угловой дзот, врезанный в развалины дома?..
А могут ли они видеть нас? Вокруг меня полевые цветы, они уже поднялись
высоко. Кое-где на болоте видны еще несколько таких "островков". Нет, немцу
невдомек, что русский солдат может затаиться и укрепиться под самым носом у
него, здесь, в болоте!
Тишина. Странная тишина -- вдруг почему-то ни с чьей стороны никакой
стрельбы. Бывает и так на фронте!.. Гляжу на сочный стебель ромашки -- чуть
не на полметра в высоту вымахала она, окруженная толпою других, пониже. Как
давно я не лежал так, лицом прямо в корни и стебельки душистых июньских
трав!..
Нижние листья ромашки похожи на саперные лопаточки, сужающиеся в
тоненький длинный черенок. Края у этих лопаточек иззубрены. А верхние --
узки, острозубы, как тщательно направленная пила. Трубчатые желтые
сердцевины цветков, окруженные белыми нежными язычками... "Любит, не
любит!.. " Кто скажет здесь это таинственное, сладостное слово: "любит"?
Здесь люди думают только о смерти -- чужой и своей...
А вот третью от моих глаз ромашку обвил полевой вьюнок. Как нежны его
бледно-розовые вороночки, -- кажется, я чую исходящий от них тонкий
миндальный запах! Хитро извиваются цветоножки вокруг ромашкиного стебля... А
ведь они душат ромашку. И тут война!
Вдруг... Неужели такая радость?.. Поет соловей! Где он?
... Хви-сшо-ррхви-хвиссч-шор... ти-ти-тью, ти-титью!.. фли-чо-чо-чо...
чо-чочо... чр-чу... рцч-рцч, пиу-пиу-пию!..
Даже внимательный к наблюдению за врагом
Алексей Кочегаров выдержать этого не может. Поворачивает ко мне лицо,
размягченное такой хорошей, почти детской улыбкой, какой я еще у него не
видел.
-- Ишь ты, голосовик, лешева дудка! Коленца выкручивает! И дробь тебе,
и раскат!..
Мы замерли оба и слушаем, вслушиваемся.
Ти-ти-чью-чью-чррц! ?.
Мне вдруг тесно в груди, а Кочегаров, скинув улыбку, сердито
отряхнувшись головою от пенья (нельзя отвлекаться!), прижимается глазом к
оптическому прицелу.
Где ж ты, певун? На нашем кусте?.. Вот он, на верхней ветке, чуть
покачивает ее. Скромен в своем оперенье, весь как будто коричнево-сер. Но
нет, в тонах его переливов множество, совсем почти белые два пятна на
горлышке и на грудке, брюшко не серое, а скорее рыжеватое, хвост -- цвета
ржавой болотной воды, а крылья еще темней, будто смазаны йодом. И уж совсем
густо-коричнево оперенье спинки!
Никогда так внимательно и подробно не рассматривал я соловья!
Чирк-чирк, -- певун поднялся, полетел над болотом, покружился у другого
куста, помчался дальше, к вражескому переднему краю. Вместе со мною следя за
его полетом, Алексей Кочегаров шепчет:
-- Не должон бы ты немцу петь!
И, взглянув мне прямо в глаза, вздыхает:
-- Да где ж ей, птахе, в горе нашем-то разобраться!..
И, больше не отрываясь от оптического прицела, сощурясь, укрыв
сосредоточенное лицо в траве, лежа в удивительной неподвижности, снайпер
Кочегаров терпеливо выискивает себе цель.
Я гляжу в бинокль, сначала вижу только расплывчатые, вставшие зеленой
стеной стебли трав. Сквозь них такими же неясными тенями проходят образы
людей, умерших от голода в Ленинграде, и вдруг будто видится мне пытаемый
медленными зимними пожарами мой родной город, будто слышится свист
пикирующих бомбардировщиков... Это длится, быть может, мгновенье, и вот, в
"просеке" между травами, в
точном фокусе на перекрестье линз, я вижу канал у края Липок ("как,
должно быть, тонко пахнут там, у немцев, эти два цветущих куста черемухи!"),
левее -- бугор немецкого переднего края, выдвигающийся в болото, а еще левее
"пятый ориентир" -- березку, за нею белые кресты на кладбище гитлеровских
вояк... Я вспоминаю: на днях -- годовщина Отечественной войны. Мой Ленинград
все еще в блокаде!
И томительного щемления в сердце нет. В сердце, как прежде, --
ожесточенность... Я вглядываюсь в белые немецкие кресты и размышляю о том,
что ни одного из них не останется, когда наша дивизия продвинется на
километр вперед... Когда это будет? На месте, как вкопанные, стоим и мы, и
немцы -- вот уже чуть ли не девять месяцев! Но это будет, будет... А пока --
пусть Кочегаров бьет, бьет, бьет лютого врага, не зная пощады. Все
правильно. Все справедливо!
... Что-то в Липках привлекло внимание Кочегарова. Он долго
всматривался, оторвал взгляд от трубки, потер глаза, вздохнул:
-- Ничего... Померещилось, будто фриц, а то -- лошадь у них по-за домом
стоит. Иногда торбой взмахнет, торба выделится... На что мне по той лошади
стрелять? Она уже мне знакомая. Пусть кивает!.. А все ж таки притомительно,
но глядеть надо! Иной раз все глаза проглядишь до вечера и -- впустую!..
Наше дело напряженья для глаза требует!
И опять прильнул к трубе. Я повел биноклем по переднему краю немцев:
все близко, все предметно ясно, вплотную ко мне приближено, каждая
хворостина плетней, пересекающих прежние огородные участки между домами,
разрушенными, принявшими под свои поваленные стены вражеские блиндажи. И все
-- безжизненно: ни человека, ни собаки, ни кошки. Нетнет да и прошелестит,
просвистит низко над нашими головами крупнокалиберный снаряд, пущенный
издалека, из лесов наших. Да и грохнет посреди деревни разрывом. Взметнутся
фонтаном земля, осколки, дым. Раз донеслись пронзительные смертные крики и
яростная немецкая ругань. Но никто на поверхности земли не показался.
редью, и Кочегаров, ткнув меня локтем, беззвучно смеется:
-- Видишь, куда берут! Они думают -- из опушки!
Действительно: гитлеровцам невдомек, что снайперский выстрел был из
бесшумки да с дистанции в сто восемьдесят метров. Они косят огнем
надрывающегося пулемета уже давно искрошенные деревья в том направлении, где
Кочегаров утром остерегал меня от зеленых смертоносных коробочек. Отсюда до
них больше километра... Стучит пулемет, и вслед за его трескотней летят по
небу, режут слух воющие тяжелые мины -- одна, вторая и третья. И сразу
быстрою чередой -- три далеких разрыва сзади, и, оглянувшись на мыс, в
полукилометре, там, откуда мы вползли в болото, я вижу мелькание
разлетающихся ветвей. За первым залпом -- несколько следующих, бесцельных.
Кочегаров даже не клонит к земле головы, ему понятно по звукам: разрывы
ложатся позади нас, не ближе чем в трехстах метрах.
В ответ на немецкий огонь по всему переднему краю немцев начинают
класть мины наши батальонные минометы. Вдоль канала строчит "максим",
перепалка длится минут пятнадцать, фонтаны дымков сливаются в низко плывущий
над Липками дым. Но людей словно бы нигде и нет.
Стучат пулеметы, рвутся мины, а снайперу Кочегарову в эти минуты самое
время изощрить наблюдение за противником: не подползет ли кто-нибудь к
убитому, не вскроется ли еще огневая точка, не приподнимется ли там,
впереди, чья-либо голова?
Но враг опытен. Никаких целей впереди нет.
И снова все тихо...
... Еще через час, после медленного и молчаливого нашего отхода, я с
Кочегаровым снова шагаю по пышному лесу. Иду задумавшись, Кочегаров опять
мне что-то рассказывает -- о том, как ему приходилось бывать в "пререканиях"
с немецкими снайперами, и -- про последнего, убитого им два дня назад "сто
двенадцатого". Но я устал и не слушаю.
-- Вот такое мое происшествие!.. А сейчас это уже, считать, сто
тринадцатый! -- заканчивает свой
рассказ Кочегаров, и мы продолжаем путь молча. Кочегаров вдруг
прерывает молчание:
Вот с вами приезжал фотограф, меня спросил давеча: на кого существеннее
-- на зверя или на фрица?
Ну... И что вы ему ответили?
Конечно, фриц-то поавторитетней, опасней, -- раздумчиво ответствует
Кочегаров. -- Но, конечно, для Родины приходится! Чем больше убьем их, тем
скорее победа... Дело почетное!.. Так я ему, выходит, сказал!..
Г Л А В А Д Е С Я Т А Я
Н А Ч А Л О В Т О Р О Г О ГОДА
ПОД МЯСНЫМ БОРОМ1
ПЕРЕД ГОДОВЩИНОЙ ВОИНЫ
РОВНО ГОД!
РАЗВЕДЧИКИ
ИДУТ ДОЖДИ
СЕВАСТОПОЛЬ
(8-я армии. 15 июня -- 4 июля 1912 года)
Военные историки в наши дни, изучая архивы Советской Армии, документы
германского генерального штаба и высказывания руководителей фашистской
Германии, убедились в том, что главной целью Гитлера в летней кампании 1942
года был окончательный разгром Советских Вооруженных Сил и окончание войны в
том году. А советское командование планировало начать летнюю кампанию
наступательными операциями под Ленинградом, в районе Демянска, на Смоленском
направлении и на Харьковском участке фронта. Задача наша состояла в том,
чтобы разгромить действовавшие там группировки противника и улучшить
оперативное положение наших войск.
Зимние наступательные операции Красной Армии оказались незавершенными,
и потому линия фронта к лету была очень извилиста, в ней образовались
огромные выступы, угрожавшие и нам и немцам. Такой выступ получили в районе
Демянска, где наш
Северо-Западный фронт окружил 16-ю немецкую армию, но не смог ее
уничтожить, и потому 16-я армия, глубоко вклиненная в расположение наших
войск, грозила выйти в тыл частям соседнего, нашего Калининского фронта.
А северо-западнее Новгорода 2-я Ударная армия Ленинградского фронта,
врезавшись глубоким клином в 18-ю немецкую армию, стремясь нанести ей
губительный для нее удар, сама оказалась охваченной с трех сторон вражескими
войсками. Стягивая резервы, гитлеровцы старались ликвидировать наш огромный
плацдарм и -- пока им это не удавалось -- решили даже отложить намеченную
ими операцию по захвату Ленинграда. В марте 1942 года гитлеровцам удалось
было перерезать коммуникации 2-й Ударной, но она тогда сумела отбросить
врага и продолжала вести наступательные бои... Затем здесь у нас положение
осложнилось: болота оттаяли, распутица разрушила все временные настильные
дороги, снабжение армии стало невозможным, и 14 мая Ставка верховного
главнокомандующего приказала отвести всю армию на рубеж Волхова. А 30 мая
случилась беда: гитлеровцы двумя встречными ударами в основание клина -- у
Спасской Полисти и у Большого Замошья -- отрезали 2-ю Ударную армию от наших
основных сил и окружили ее. Здесь произошло неслыханное за всю Отечественную
войну, возмутившее всю нашу страну преступление, о котором в наши дни
"История Великой Отечественной войны"1 коротко говорит так:
"... Неблагоприятный исход любанской операции в значительной степени
был определен трусостью и бездействием командующего 2-й Ударной армией
генерал-майора А. А. Власова, который, боясь ответственности за поражение
армии, изменил Родине и добровольно перешел к гитлеровцам... "
Власов командовал этой армией с 6 марта. В январе, в феврале прекрасный
вначале успех этой ар-
[*] 1 "История Великой
Отечественной войны Советскою Союза 1941 -1945л т. II, стр. 470
мии был достигнут под командованием других генералов -- Г. Г. Соколова
(при нем в 1941 году 2-я Ударная была создана из 26-й, находившейся в
резерве Главного командования армии и некоторых частей Волховского,
образованного 17 декабря, фронта) и Н. К. Клыкова, который вел ее в
наступление... В армии было множество храбрейших, беззаветно преданных
Родине воинов -- русских, башкир, татар, чувашей, (26-я армия формировалась
в Чувашской АССР), казахов и других национальностей. На всю страну
прославились под Новгородом три разведчика 225-й стрелковой дивизии -- И. С.
Герасименко, А. С. Красилов и Л. А. Черемнов, закрывшие собой одновременно
три вражеских пулеметных дзота. За их подвиг им были посмертно присвоены
звания Героев Советского Союза, о них писал стихи Н. Тихонов. Только после
войны советский народ узнал о подвиге попавшего в плен в момент окружения
бойца одной из ее частей -- татарского поэта Мусы Джалиля.
Волхов -- свидетель: я не струсил, Пылинку жизни моей не берег В
содрогающемся под бомбами, Обреченном на смерть кольце... ... Судьба
посмеялась надо мной: Смерть обошла -- прошла стороной. Последний миг -- и
выстрела нет Мне изменил мой пистолет... --
так писал в фашистской тюрьме поэт, позже, в 1944 году, казненный
гитлеровцами!..
Подвигов, совершенных воинами 2-й Ударной, не перечесть! Нет слов,
чтобы высказать негодование всех бойцов, командиров и политработников этой
героической армии, которым удалось вырваться из окружения!
Но в неравных боях и от истощения, от голода погибли многие. Целый
месяц, до начала июля, части, подразделения, отдельные группы воинов 2-й
Ударной с величайшими трудностями выбирались из окружения.
Но и вражеских сил уничтожила она немало: шесть немецких дивизий,
стянутых из-под Ленингра-
да к Волхову, были обескровлены ею, фашистские легионы "Нидерланды" и
"Фландрия" разгромлены наголову, в болотах осталось множество вражеской
артиллерии, танков, самолетов, десятки тысяч, гитлеровцев...
... В июне 1942 года я да и большинство средних и старших командиров
как 8-й, так и 54-й армий Ленинградского фронта еще не знали истинного
положения и подробностей обстановки, сложившейся под Любаныо. Но суть
произошедшей там катастрофы была уже многим известна. Подробности стали
выясняться после выхода к основным силам остатков окруженных частей...
 Разведка уходит в тыл врага. Лето 1942 года.
-- Не объяснили мне всего!
Вообще-то вы знаете, что идете в тыл к противнику?
Знаю.
Свои обязанности знаете?
Знаю! Разминировать поля противника, удалить проволочные заграждения,
если встретятся.
Правильно! -- говорит военком. -- Задача -- Действовать вместе. Они не
бросят вас, вы не бросайтe их... Товарищ Узоров, карта, компас, бинокль
есть?
- Есть!
-- Гранат у кого меньше двух?
У всех по две!
Патроны?
По двести, триста штук!
Продукты на пять дней у всех есть?
У всех!
Оружие проверено?
Да!
ППД у всех работают хорошо?
У всех!
Плащ-палатки?
У меня нет! -- произносит левофланговый.
Товарищ Узоров, дать! К выполнению задачи готовы?
Готовы! -- враз отвечают бойцы.
Я пожелаю только одного: выполнить задачу полностью и с честью!
Действуйте вместе, тихо, скрытно, аккуратно, чтоб вы видели все, а вас не
видел никто. И чтоб всем вернуться вместе... Товарищ старшина, выдайте всем
дополнительно по две "лимонки".
Старшина спешит бегом к складу боеприпасов, а военком продолжает:
-- Ну, пожелаю всего хорошего. Не оставим без внимания. Душой болеть
будем...
И, медленно обходя строй, жмет руку каждому из бойцов, и один из них
говорит:
Товарищ военком! Прикажите листовок дать -- приказ командующего.
Правильно! -- Военком оборачивается к вернувшемуся с гранатами
старшине: -- Дайте пачку-- штук двести!
И отходит на два шага и вновь обращается к строю:
-- Действуйте все за одного и один за всех. Ни одного раненого, ни
убитого чтоб не было. Убитого я даже не представляю себе!
Бойцы улыбаются:
-- Не беспокойтесь, товарищ военком... Не в первый раз!
Еще раз окидывает Семенов веселые, здоровые лица. Все готово. Больше
говорить нечего
Разведка уходит в тыл врага. Лето 1942 года.
-- Не объяснили мне всего!
Вообще-то вы знаете, что идете в тыл к противнику?
Знаю.
Свои обязанности знаете?
Знаю! Разминировать поля противника, удалить проволочные заграждения,
если встретятся.
Правильно! -- говорит военком. -- Задача -- Действовать вместе. Они не
бросят вас, вы не бросайтe их... Товарищ Узоров, карта, компас, бинокль
есть?
- Есть!
-- Гранат у кого меньше двух?
У всех по две!
Патроны?
По двести, триста штук!
Продукты на пять дней у всех есть?
У всех!
Оружие проверено?
Да!
ППД у всех работают хорошо?
У всех!
Плащ-палатки?
У меня нет! -- произносит левофланговый.
Товарищ Узоров, дать! К выполнению задачи готовы?
Готовы! -- враз отвечают бойцы.
Я пожелаю только одного: выполнить задачу полностью и с честью!
Действуйте вместе, тихо, скрытно, аккуратно, чтоб вы видели все, а вас не
видел никто. И чтоб всем вернуться вместе... Товарищ старшина, выдайте всем
дополнительно по две "лимонки".
Старшина спешит бегом к складу боеприпасов, а военком продолжает:
-- Ну, пожелаю всего хорошего. Не оставим без внимания. Душой болеть
будем...
И, медленно обходя строй, жмет руку каждому из бойцов, и один из них
говорит:
Товарищ военком! Прикажите листовок дать -- приказ командующего.
Правильно! -- Военком оборачивается к вернувшемуся с гранатами
старшине: -- Дайте пачку-- штук двести!
И отходит на два шага и вновь обращается к строю:
-- Действуйте все за одного и один за всех. Ни одного раненого, ни
убитого чтоб не было. Убитого я даже не представляю себе!
Бойцы улыбаются:
-- Не беспокойтесь, товарищ военком... Не в первый раз!
Еще раз окидывает Семенов веселые, здоровые лица. Все готово. Больше
говорить нечего
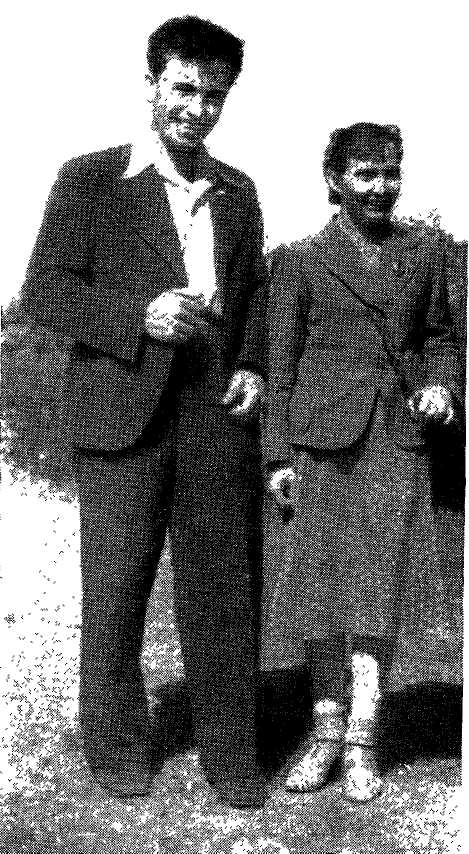 [*] Артисты Тамара
Птицына и Леонид Маслюков в 8-й армии. Май 1942 года.
-- Нале-во!
Цепочка бойцов уходит, топая по грязи. Цепочка исчезает в белоствольной
чаще березок.
И я захожу вместе с политруком в палатку, где на маленькой печурке
подогревается остывший в котелке суп...
[*] Артисты Тамара
Птицына и Леонид Маслюков в 8-й армии. Май 1942 года.
-- Нале-во!
Цепочка бойцов уходит, топая по грязи. Цепочка исчезает в белоствольной
чаще березок.
И я захожу вместе с политруком в палатку, где на маленькой печурке
подогревается остывший в котелке суп...
 [*] Ленинград. Марсово
поле в грядках и траншеях.
Июль 194? года.
клочок земли в Ленинграде использован для огородов, учрежденческих и
индивидуальных. Вот все в огородах Марсово поле -- ровные шеренги грядок, к
ним тянутся шланги от той закрытой для движения улицы, что проходит со
стороны Павловских казарм. Закрыта она потому, что все дома (кроме одного
целого) от Халтурина до Мойки только издали кажутся домами: стоят стены, за
стенами провалы руин, стены выпучились, растрескались, осели, грозят
падением. Тянутся шланги, течет к огородам вода. Ее разбирают лейками. Вот
старик, с типичной заботливой медлительностью садовника поливающий свою
рассаду; вот стайка детей в одинаковых широких соломенных шляпах -- трудятся
и они, носят воду в ведрах к грядкам у памятника Суворову. С ними две
прилично одетые женщины. На грядках-- палочки с фанерными дощечками; на них
надписи карандашом: "Участок доктора Козиной". И весь "квартал" огородов,
примыкающий к улице Халтурина, -- в надписях, указывающих фамилии
медперсонала. И ясно мне: это огороды того госпиталя, что помещается в
Мраморном дворце. А уборная на Марсовом поле, против Мойки, действует; зашел
в нее, -- умывальник: открой кран -- бежит чистая невская вода, можно, если
взять с собой мыло, помыться. И люди из каких-то ближайших домов или те, кто
привык мыться здесь, проходя по своему далекому служебному маршруту, --
заходят. Уборная -- чиста, кафель бел и голубоват. А против женской ее
половины, на свежих кустах -- сушатся кружевные дамские сорочки. В какой
двор ни зайди, всегда увидишь жильцов, умывающихся под водоразборными
кранами.
Огороды -- везде: и на буграх, возле щелей-укрытий, и даже на
подоконниках раскрытых или, чаще, разбитых окон -- там, вместо цветов, ныне
вызревают какие-нибудь капуста или огурцы...
Разделаны под огороды даже береговые склоны Обводного канала -- в том
районе Боровой улицы, где все избито снарядами, где вода Обводного в мирное
время дышала миазмами, была невероятно
грязна. Теперь эта вода в канале чиста: заводы не работают!
На ступенях колоннады Казанского собора -- мерный пузатый самовар, а
вкруг него -- группа женщин-домохозяек, распивающих "чай" -- заваренную
"засушку" (какую-то засушенную траву). Все курят самокруты, у всех вместо
спичек -- лупы, в солнечные дни чуть не все население пользуется для добычи
огня линзами всех сортов и любых назначений.
Есть в городе и цветы. Полевые цветы -- резеда, ромашки -- букетами в
руках приезжающих из ближайших, с финской стороны пригородов, единственных
доступных теперь ленинградцам. Цветы я вижу везде, во всех домах, во всех
квартирах, па улицах -- у гуляющих или спешащих по делам девушек. Всем
хочется красоты, цветы будят представление о мире и покое, о счастливой
жизни.
Трамваи переполнены, на подножках висят, как висели всегда. Как же так?
Населения в городе осталось мало, но ведь и трамваев мало, ходят они
значительно реже, чем прежде, а маршрутов всего лишь несколько: 12-й, 3-й,
7-й, 30-й, 10-й, 20-й, 9-й... Задержки -- часты, прежде всего из-за
обстрелов. И нет троллейбусов, автобусов, такси...
Ленинградцы рады минимально сносным условиям жизни после беспощадно
жестокой зимы! Они существуют, они не умерли прошедшей зимой, они дышат
теплым, летним воздухом и пользуются не только ярким дневным светом, но и
белесоватым уже исчезающей белой ночи; они могут теперь не только умыться,
но и сходить в баню, блюсти насущную гигиену!
Сейчас, в июле, уже сравнительно редки случаи смерти от голода. В
глазах ленинградцев, в их -- от всего пережитого -- ставших красивыми,
выражающими затаенную скорбь глазах -- мудрость, приобретенная за год войны.
И до того людям обрыдло все от, но и то же -- голод, голод и голод, -- что у
тех, кто не слишком голодает, сейчас само слово "дистрофик" стало чуть ли не
бранной кличкой.
Люди в Ленинграде стали учтивее, благожелательнее, внешне спокойнее,
участливее, услужливее друг к другу. Когда пережито столь многое, то мелочи
уже не раздражают людей, как прежде. Нервных сцен почти не замечаешь.
По мелочным поводам брани нет, и только если уж по какой-либо серьезной
причине возмущение охватит всех сразу и прорвет шлюзы общего молчания, то и
ругаться начинают все сразу, нажитая неврастения вылезает наружу!
В городе не видно каких бы то ни было очередей. На улицах много
моряков, краснофлотцев, мало "гражданской" интеллигенции. Я вглядываюсь в
прохожих. Женщины одеты в летние платья, каждая старается быть нарядной,
каждая хочет, чтоб тело ее дышало, многие, видимо настойчиво, добиваются
крепкого' загара, -- трудно загореть в это лето, но все же загорелых лиц
много. Изменился сам тип лица ленинградца: люди все почти сплошь худы, --
тучных, жирных, как правило, нет, но оттого, что дальнейшее исхудание
приостановлено после зимы, что минимально удовлетворительным питанием снята
с лица печать смерти, эти лица толпы будто помолодели, будто стали красивее:
в них чаще всего нет уже прежней болезненности... И прохожие движутся, не
экономя, как прежде, ни дыхания, ни движений: идут быстрой походкой, ездят
на велосипедах (велосипед стал самым излюбленным и распространенным видом
спорта и городского транспорта). В этом нормальном темпе движения толпы
чувствуется жизнь!
За эти дни в Ленинграде я видел (на Фонтанке) только одного покойника,
его, завернутого в материю, несли на носилках. Да, впрочем, еще одного везли
в гробу на ручной тележке...
Но в толпе везде и всегда, на любой улице, среди идущих естественной
походкой жизнеспособных людей попадаются отдельные фигуры -- из той,
страшной зимы. Вот старушка (может быть, и молодая по возрасту), едва
передвигающая опухшие ноги; лицо -- измождено, взор туп, дыхание трудно,
зубы от
дистрофии обнажены. Она ступает неуверенно, заметно пошатываясь, дунь
-- упадет. Она пережила эту зиму, но она не жилец на белом свете, истощение
разрушило ее, жить ей недолго, даже если ее кормить так, как требуется. Ее
сердце разрушается. Она все равно умрет, и она, наверное, знает об этом
сама...
Таких людей, если внимательно присмотреться, в городе не так уж мало.
То питание, которое достаточно для поддержания жизни других, более крепких
физически, -- для этих уже не спасение... Да и питаются ли они, как другие?
Нормы питания для разных категорий населения, по необходимости, как и
прежде, различны. Голодают и медленно теряют последние силы теперь только
те, кому выдается карточка третьей, "иждивенческой" категории.
В садах, в парках, по обочинам каналов, повсюду они собирают съедобные
травы, варят из травы супы, едят в виде "каши" и во всяких видах. Лебеда
стала для них наиболее употребимой пищей. Я видел на стене дома один из
размноженных на пишущей машинке листков:
"ПАМЯТКА
СБОРЩИКАМ! ДИКОРАСТУЩИХ СЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ.
Крапива. Собирается молодая, лучше еще красноватая. У выросших
экземпляров собираются только листья.
Лебеда. Собираются молодые побеги с листьями.
Сныть съедобная. Собираются только молодые листья.
Лопушник (лопух). Собираются только корни однолетних экземпляров.
Купырь. Собираются только молодые листья и верхушки молодых стеблей.
При сборе остерегаться смешать с ядовитым болиголовом, который похож на
него, но имеет на стеблях красные пятнышки, а сам пахнет мышами.
Одуванчик. Собираются молодые небольшие листья (употребляемые как
салат) и корни (употребляются как заменитель цикория).
7. Пастушья сумка. Собираются листья и стебли молодых растений.
8. Сурепка. Собираются только молодые листья. Цветы, плоды и стебли
брать нельзя.
9 Щ а в е л и. Собираются листья и молодые стебли.
Примечания:
а) Каждое растение собирается отдельно.
б) Все собранные растения перед их обработкой подлежат в обязательном
порядке тщательной промывке.
Зав. Куйбышевским райземотделом (подпись) Главный агроном (подпись)"
Те, кто получает карточки первой категории, в общем сыты, но и из них,
пожалуй, никто сбором съедобных трав не пренебрегает: витамины, избавление
от цинги!
Хуже всех подросткам от двенадцати до шестнадцати лет. Ибо они тоже
пользуются иждивенческими карточками, а им нужно расти!
Их, конечно, эвакуируют в первую очередь! Многих эвакуируют насильно,
иные из них упираются, цепляются за всякую возможность остаться!.. Первая и
лучшая возможность -- идти работать на оборонные заводы, там ребятам выдают
рабочие карточки и там их сознание наполняется гордостью: они тоже защитники
Ленинграда. И они в самом деле очень нужны и приносят фронту большую пользу!
Попутно отмечу: командиры, живущие в городе, получают питание в тех
столовых, к которым прикреплены, по обычным суровым воинским нормам. Первая
линия -- 800 граммов хлеба, вторая -- 600 граммов. Масла, в пище -- 36
граммов, отдельно -- 40 граммов, итого 76 граммов. Сахар по первой категории
-- 35 граммов, по второй -- 25 граммов. Получают и другие продукты. Моряки
имеют повышенную норму, сахару, например, -- 50 граммов.
Столовых много. Квалифицированные рабочие сыты тоже. Стационаров
зимнего типа теперь нет или очень мало. Есть дома отдыха, дома улучшенного
питания и т. п.
А в общем ленинградцы -- живут. И даже отдыхают. И развлекаются. И на
скамейках любого скверика или бульвара всегда видны женщины, читающие книгу,
даже если около них нет играющих детей. Играют чаще всего в войну, или в
"дистрофиков", или в какие-либо "продовольственные" игры.
На неизменный вопрос о самочувствии следуют
чаще всего ответы: "Спасибо, теперь-то хорошо, сыты... Вот как зимой
будет!" Обстрелов никто не боится, но зимы все страшатся.
Люди умолкают, сказав это слово "зима", -- кажется, все хотят
отмахнуться от самих мыслей о том, что их ждет впереди, когда им придется
вновь зимовать в Ленинграде. Даже если к этому времени он будет освобожден
от блокады (о сроках все уже предпочитают не строить никаких предположений),
то ведь и холод и тьма останутся, ибо быстро привести город в порядок, дать
воду, дрова, свет в короткий срок невозможно...
[*] Ленинград. Марсово
поле в грядках и траншеях.
Июль 194? года.
клочок земли в Ленинграде использован для огородов, учрежденческих и
индивидуальных. Вот все в огородах Марсово поле -- ровные шеренги грядок, к
ним тянутся шланги от той закрытой для движения улицы, что проходит со
стороны Павловских казарм. Закрыта она потому, что все дома (кроме одного
целого) от Халтурина до Мойки только издали кажутся домами: стоят стены, за
стенами провалы руин, стены выпучились, растрескались, осели, грозят
падением. Тянутся шланги, течет к огородам вода. Ее разбирают лейками. Вот
старик, с типичной заботливой медлительностью садовника поливающий свою
рассаду; вот стайка детей в одинаковых широких соломенных шляпах -- трудятся
и они, носят воду в ведрах к грядкам у памятника Суворову. С ними две
прилично одетые женщины. На грядках-- палочки с фанерными дощечками; на них
надписи карандашом: "Участок доктора Козиной". И весь "квартал" огородов,
примыкающий к улице Халтурина, -- в надписях, указывающих фамилии
медперсонала. И ясно мне: это огороды того госпиталя, что помещается в
Мраморном дворце. А уборная на Марсовом поле, против Мойки, действует; зашел
в нее, -- умывальник: открой кран -- бежит чистая невская вода, можно, если
взять с собой мыло, помыться. И люди из каких-то ближайших домов или те, кто
привык мыться здесь, проходя по своему далекому служебному маршруту, --
заходят. Уборная -- чиста, кафель бел и голубоват. А против женской ее
половины, на свежих кустах -- сушатся кружевные дамские сорочки. В какой
двор ни зайди, всегда увидишь жильцов, умывающихся под водоразборными
кранами.
Огороды -- везде: и на буграх, возле щелей-укрытий, и даже на
подоконниках раскрытых или, чаще, разбитых окон -- там, вместо цветов, ныне
вызревают какие-нибудь капуста или огурцы...
Разделаны под огороды даже береговые склоны Обводного канала -- в том
районе Боровой улицы, где все избито снарядами, где вода Обводного в мирное
время дышала миазмами, была невероятно
грязна. Теперь эта вода в канале чиста: заводы не работают!
На ступенях колоннады Казанского собора -- мерный пузатый самовар, а
вкруг него -- группа женщин-домохозяек, распивающих "чай" -- заваренную
"засушку" (какую-то засушенную траву). Все курят самокруты, у всех вместо
спичек -- лупы, в солнечные дни чуть не все население пользуется для добычи
огня линзами всех сортов и любых назначений.
Есть в городе и цветы. Полевые цветы -- резеда, ромашки -- букетами в
руках приезжающих из ближайших, с финской стороны пригородов, единственных
доступных теперь ленинградцам. Цветы я вижу везде, во всех домах, во всех
квартирах, па улицах -- у гуляющих или спешащих по делам девушек. Всем
хочется красоты, цветы будят представление о мире и покое, о счастливой
жизни.
Трамваи переполнены, на подножках висят, как висели всегда. Как же так?
Населения в городе осталось мало, но ведь и трамваев мало, ходят они
значительно реже, чем прежде, а маршрутов всего лишь несколько: 12-й, 3-й,
7-й, 30-й, 10-й, 20-й, 9-й... Задержки -- часты, прежде всего из-за
обстрелов. И нет троллейбусов, автобусов, такси...
Ленинградцы рады минимально сносным условиям жизни после беспощадно
жестокой зимы! Они существуют, они не умерли прошедшей зимой, они дышат
теплым, летним воздухом и пользуются не только ярким дневным светом, но и
белесоватым уже исчезающей белой ночи; они могут теперь не только умыться,
но и сходить в баню, блюсти насущную гигиену!
Сейчас, в июле, уже сравнительно редки случаи смерти от голода. В
глазах ленинградцев, в их -- от всего пережитого -- ставших красивыми,
выражающими затаенную скорбь глазах -- мудрость, приобретенная за год войны.
И до того людям обрыдло все от, но и то же -- голод, голод и голод, -- что у
тех, кто не слишком голодает, сейчас само слово "дистрофик" стало чуть ли не
бранной кличкой.
Люди в Ленинграде стали учтивее, благожелательнее, внешне спокойнее,
участливее, услужливее друг к другу. Когда пережито столь многое, то мелочи
уже не раздражают людей, как прежде. Нервных сцен почти не замечаешь.
По мелочным поводам брани нет, и только если уж по какой-либо серьезной
причине возмущение охватит всех сразу и прорвет шлюзы общего молчания, то и
ругаться начинают все сразу, нажитая неврастения вылезает наружу!
В городе не видно каких бы то ни было очередей. На улицах много
моряков, краснофлотцев, мало "гражданской" интеллигенции. Я вглядываюсь в
прохожих. Женщины одеты в летние платья, каждая старается быть нарядной,
каждая хочет, чтоб тело ее дышало, многие, видимо настойчиво, добиваются
крепкого' загара, -- трудно загореть в это лето, но все же загорелых лиц
много. Изменился сам тип лица ленинградца: люди все почти сплошь худы, --
тучных, жирных, как правило, нет, но оттого, что дальнейшее исхудание
приостановлено после зимы, что минимально удовлетворительным питанием снята
с лица печать смерти, эти лица толпы будто помолодели, будто стали красивее:
в них чаще всего нет уже прежней болезненности... И прохожие движутся, не
экономя, как прежде, ни дыхания, ни движений: идут быстрой походкой, ездят
на велосипедах (велосипед стал самым излюбленным и распространенным видом
спорта и городского транспорта). В этом нормальном темпе движения толпы
чувствуется жизнь!
За эти дни в Ленинграде я видел (на Фонтанке) только одного покойника,
его, завернутого в материю, несли на носилках. Да, впрочем, еще одного везли
в гробу на ручной тележке...
Но в толпе везде и всегда, на любой улице, среди идущих естественной
походкой жизнеспособных людей попадаются отдельные фигуры -- из той,
страшной зимы. Вот старушка (может быть, и молодая по возрасту), едва
передвигающая опухшие ноги; лицо -- измождено, взор туп, дыхание трудно,
зубы от
дистрофии обнажены. Она ступает неуверенно, заметно пошатываясь, дунь
-- упадет. Она пережила эту зиму, но она не жилец на белом свете, истощение
разрушило ее, жить ей недолго, даже если ее кормить так, как требуется. Ее
сердце разрушается. Она все равно умрет, и она, наверное, знает об этом
сама...
Таких людей, если внимательно присмотреться, в городе не так уж мало.
То питание, которое достаточно для поддержания жизни других, более крепких
физически, -- для этих уже не спасение... Да и питаются ли они, как другие?
Нормы питания для разных категорий населения, по необходимости, как и
прежде, различны. Голодают и медленно теряют последние силы теперь только
те, кому выдается карточка третьей, "иждивенческой" категории.
В садах, в парках, по обочинам каналов, повсюду они собирают съедобные
травы, варят из травы супы, едят в виде "каши" и во всяких видах. Лебеда
стала для них наиболее употребимой пищей. Я видел на стене дома один из
размноженных на пишущей машинке листков:
"ПАМЯТКА
СБОРЩИКАМ! ДИКОРАСТУЩИХ СЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ.
Крапива. Собирается молодая, лучше еще красноватая. У выросших
экземпляров собираются только листья.
Лебеда. Собираются молодые побеги с листьями.
Сныть съедобная. Собираются только молодые листья.
Лопушник (лопух). Собираются только корни однолетних экземпляров.
Купырь. Собираются только молодые листья и верхушки молодых стеблей.
При сборе остерегаться смешать с ядовитым болиголовом, который похож на
него, но имеет на стеблях красные пятнышки, а сам пахнет мышами.
Одуванчик. Собираются молодые небольшие листья (употребляемые как
салат) и корни (употребляются как заменитель цикория).
7. Пастушья сумка. Собираются листья и стебли молодых растений.
8. Сурепка. Собираются только молодые листья. Цветы, плоды и стебли
брать нельзя.
9 Щ а в е л и. Собираются листья и молодые стебли.
Примечания:
а) Каждое растение собирается отдельно.
б) Все собранные растения перед их обработкой подлежат в обязательном
порядке тщательной промывке.
Зав. Куйбышевским райземотделом (подпись) Главный агроном (подпись)"
Те, кто получает карточки первой категории, в общем сыты, но и из них,
пожалуй, никто сбором съедобных трав не пренебрегает: витамины, избавление
от цинги!
Хуже всех подросткам от двенадцати до шестнадцати лет. Ибо они тоже
пользуются иждивенческими карточками, а им нужно расти!
Их, конечно, эвакуируют в первую очередь! Многих эвакуируют насильно,
иные из них упираются, цепляются за всякую возможность остаться!.. Первая и
лучшая возможность -- идти работать на оборонные заводы, там ребятам выдают
рабочие карточки и там их сознание наполняется гордостью: они тоже защитники
Ленинграда. И они в самом деле очень нужны и приносят фронту большую пользу!
Попутно отмечу: командиры, живущие в городе, получают питание в тех
столовых, к которым прикреплены, по обычным суровым воинским нормам. Первая
линия -- 800 граммов хлеба, вторая -- 600 граммов. Масла, в пище -- 36
граммов, отдельно -- 40 граммов, итого 76 граммов. Сахар по первой категории
-- 35 граммов, по второй -- 25 граммов. Получают и другие продукты. Моряки
имеют повышенную норму, сахару, например, -- 50 граммов.
Столовых много. Квалифицированные рабочие сыты тоже. Стационаров
зимнего типа теперь нет или очень мало. Есть дома отдыха, дома улучшенного
питания и т. п.
А в общем ленинградцы -- живут. И даже отдыхают. И развлекаются. И на
скамейках любого скверика или бульвара всегда видны женщины, читающие книгу,
даже если около них нет играющих детей. Играют чаще всего в войну, или в
"дистрофиков", или в какие-либо "продовольственные" игры.
На неизменный вопрос о самочувствии следуют
чаще всего ответы: "Спасибо, теперь-то хорошо, сыты... Вот как зимой
будет!" Обстрелов никто не боится, но зимы все страшатся.
Люди умолкают, сказав это слово "зима", -- кажется, все хотят
отмахнуться от самих мыслей о том, что их ждет впереди, когда им придется
вновь зимовать в Ленинграде. Даже если к этому времени он будет освобожден
от блокады (о сроках все уже предпочитают не строить никаких предположений),
то ведь и холод и тьма останутся, ибо быстро привести город в порядок, дать
воду, дрова, свет в короткий срок невозможно...
 Ленинградки разбирают руины дома.
встречная женщина на Невском. "Не нужно!" И тряпица вновь укрывает
пачки. В городе существует разветвленная такса черного рынка: литр водки --
полторы тысячи рублей, сто граммов хлеба -- сорок рублей, пачка папирос --
сто пятьдесят рублей, крошечная лепешка из лебеды -- три рубля... Я не
заходил на толкучки -- их несколько в городе, -- видел одну на улице
Нахимсона издали: народу толчется множество.
Разбомбленных домов с зимы, точнее -- с осени, не прибавилось. За
исключением нескольких известных-- апрельских -- налетов, бомбардировок
города с воздуха не было. Несколько попыток немецких самолетов прорваться к
городу были отбиты. Зенитная оборона города великолепна. Авиация наша также
патрулирует постоянно, и в дни моего пребывания в городе я часто видел
пять-шесть хлопотливо патрулирующих в небе наших самолетов.
Но погоревших за зиму домов, мимо которых тогда попросту не довелось
проходить, я теперь видел много. Некоторые поразили меня масштабом
разрушений: на углу Разъезжей и Лиговки гигантский махина-дом, разбомбленный
со стороны Разъезжей, превратился в колоссальный скелет, занимающий весь
квартал. Ни одного перекрытия между этажами, ни одного кусочка дерева! То,
что не сгорело, видимо, тщательно, дочиста разобрано на дрова, ни одного
хотя бы обугленного косяка, ни вообще следов пожарища, кроме темных пятен
над нишами. На Невском гигантские разрушения в двух-трех домах стыдливо
прикрываются фальшивой, фанерной, стеной. Она тщательно разрисована,
нарисованы окна и подоконники -- работают там какие-то художники. Вот где
пригодилась работа художников! Лазают по лесам, квадрат за квадратом
пристраивают фанерные листы. И мне не совсем понятно, эстетическими ли
только соображениями вызывается этот камуфляж, -- большая по нынешним
временам работа! Сколько одной только зеленой краски! Сколько фанеры!.. Даже
занавесочки, даже тени на призрачных стеклах нарисованы!..
Но артиллерийские обстрелы -- часты, постоянны, привычны... Впрочем, я
ожидал большего, судя по рассказам других. За все дни, проведенные здесь, я
только раз попал в зону артиллерийского налета -- на Кировском проспекте,
когда ехал в трамвае. Снаряды легли впереди, пассажиры торопливо, но
довольно спокойно и безразлично вышли. Через несколько минут трамвай
отправился дальше. Говорят, в эти дни "фашистский бронепоезд нами разбит"',
потому методических обстрелов в эти дни не было, были отдельные -- минут по
пятнадцать -- огневые налеты, а их можно слышать, только находясь
неподалеку. Впрочем, орудийную стрельбу я слышал несколько раз -- и днем и
по ночам.
Днем заметно: движение пешеходов гуще по южной стороне улиц. Это люди
"ученые" рассчитывают: обстрелы-то почти всегда с юга, и если начнут падать
снаряды, то будешь защищен домами, под которыми идешь. Впрочем, об этом
никто не говорит, это как-то само собой у известного числа людей получается
-- как выработанная привычка.
Домов, поврежденных снарядами или задетых осколками, очень много. Один
из золотых куполов "Спаса на крови" пробит снарядом -- в нем большая черная
зияющая дыра... Когда-нибудь ее заделают, и никто об этой дыре не вспомнит.
Только проходя по Фонтанке, я заметил, что совершенно разрушен внутри
огромный -- со стороны Мойки и Фонтанки -- массив Инженерного замка. Но
наружная стена цела, издали разрушений можно и не заметить. Там был
госпиталь. Погибло много народу. Это было при одном из апрельских воздушных
налетов... Очень много побитых домов на Лиговке...
И все-таки, все-таки все эти дни меня томил мираж полного благополучия
и мира родного города. То ли потому, что небо было благостно-голубым,
солнечным и что с неба никакая гадость не сыпалась
[*] 1 Речь идет,
очевидно, о передвигавшейся после каждого !<)лна железнодорожной
установке для особенно дальнобойных орудии, которая скрывалась в лесах и
потому долгое время была неуловима для наших контрбатарейных полков.
то ли потому, что после месяцев жизни в лесах и болотах на меня
особенно сильно действовала будничная обстановка быта некоторых из
посещенных мною ленинградцев -- самые их квартиры, чистые, опрятные,
приведенные в "довоенный" вид.
Ленинградки разбирают руины дома.
встречная женщина на Невском. "Не нужно!" И тряпица вновь укрывает
пачки. В городе существует разветвленная такса черного рынка: литр водки --
полторы тысячи рублей, сто граммов хлеба -- сорок рублей, пачка папирос --
сто пятьдесят рублей, крошечная лепешка из лебеды -- три рубля... Я не
заходил на толкучки -- их несколько в городе, -- видел одну на улице
Нахимсона издали: народу толчется множество.
Разбомбленных домов с зимы, точнее -- с осени, не прибавилось. За
исключением нескольких известных-- апрельских -- налетов, бомбардировок
города с воздуха не было. Несколько попыток немецких самолетов прорваться к
городу были отбиты. Зенитная оборона города великолепна. Авиация наша также
патрулирует постоянно, и в дни моего пребывания в городе я часто видел
пять-шесть хлопотливо патрулирующих в небе наших самолетов.
Но погоревших за зиму домов, мимо которых тогда попросту не довелось
проходить, я теперь видел много. Некоторые поразили меня масштабом
разрушений: на углу Разъезжей и Лиговки гигантский махина-дом, разбомбленный
со стороны Разъезжей, превратился в колоссальный скелет, занимающий весь
квартал. Ни одного перекрытия между этажами, ни одного кусочка дерева! То,
что не сгорело, видимо, тщательно, дочиста разобрано на дрова, ни одного
хотя бы обугленного косяка, ни вообще следов пожарища, кроме темных пятен
над нишами. На Невском гигантские разрушения в двух-трех домах стыдливо
прикрываются фальшивой, фанерной, стеной. Она тщательно разрисована,
нарисованы окна и подоконники -- работают там какие-то художники. Вот где
пригодилась работа художников! Лазают по лесам, квадрат за квадратом
пристраивают фанерные листы. И мне не совсем понятно, эстетическими ли
только соображениями вызывается этот камуфляж, -- большая по нынешним
временам работа! Сколько одной только зеленой краски! Сколько фанеры!.. Даже
занавесочки, даже тени на призрачных стеклах нарисованы!..
Но артиллерийские обстрелы -- часты, постоянны, привычны... Впрочем, я
ожидал большего, судя по рассказам других. За все дни, проведенные здесь, я
только раз попал в зону артиллерийского налета -- на Кировском проспекте,
когда ехал в трамвае. Снаряды легли впереди, пассажиры торопливо, но
довольно спокойно и безразлично вышли. Через несколько минут трамвай
отправился дальше. Говорят, в эти дни "фашистский бронепоезд нами разбит"',
потому методических обстрелов в эти дни не было, были отдельные -- минут по
пятнадцать -- огневые налеты, а их можно слышать, только находясь
неподалеку. Впрочем, орудийную стрельбу я слышал несколько раз -- и днем и
по ночам.
Днем заметно: движение пешеходов гуще по южной стороне улиц. Это люди
"ученые" рассчитывают: обстрелы-то почти всегда с юга, и если начнут падать
снаряды, то будешь защищен домами, под которыми идешь. Впрочем, об этом
никто не говорит, это как-то само собой у известного числа людей получается
-- как выработанная привычка.
Домов, поврежденных снарядами или задетых осколками, очень много. Один
из золотых куполов "Спаса на крови" пробит снарядом -- в нем большая черная
зияющая дыра... Когда-нибудь ее заделают, и никто об этой дыре не вспомнит.
Только проходя по Фонтанке, я заметил, что совершенно разрушен внутри
огромный -- со стороны Мойки и Фонтанки -- массив Инженерного замка. Но
наружная стена цела, издали разрушений можно и не заметить. Там был
госпиталь. Погибло много народу. Это было при одном из апрельских воздушных
налетов... Очень много побитых домов на Лиговке...
И все-таки, все-таки все эти дни меня томил мираж полного благополучия
и мира родного города. То ли потому, что небо было благостно-голубым,
солнечным и что с неба никакая гадость не сыпалась
[*] 1 Речь идет,
очевидно, о передвигавшейся после каждого !<)лна железнодорожной
установке для особенно дальнобойных орудии, которая скрывалась в лесах и
потому долгое время была неуловима для наших контрбатарейных полков.
то ли потому, что после месяцев жизни в лесах и болотах на меня
особенно сильно действовала будничная обстановка быта некоторых из
посещенных мною ленинградцев -- самые их квартиры, чистые, опрятные,
приведенные в "довоенный" вид.
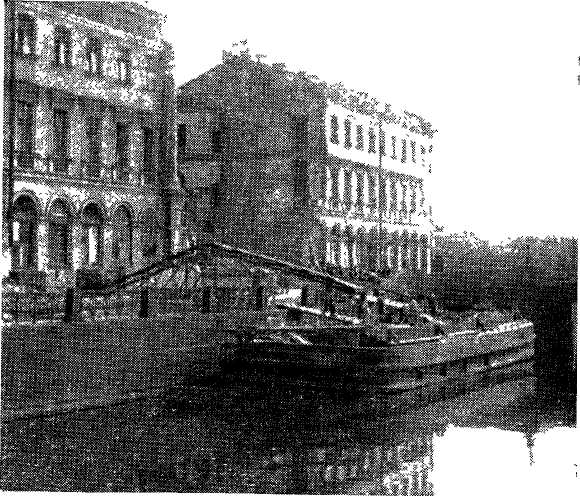 перед лицом близкой, смертельной опасности, включаются в общий
вдохновенный порыв: уберечь от врага свой город, спасти его, если будет
нужно, ценой своей жизни. Непременно спасти: убить, уничтожить врага, хотя
бы в том самом доме, в той комнате, в которой прожил доныне всю свою жизнь!
Таков Ленинград сегодня, в этом, зловещем августе!..
И можно быть, как прежде, уверенным, что ни при каких обстоятельствах
враг не осилит бессмертного сопротивления защитников Ленинграда -- штурм
будет сорван!
... К этому времени оборонительные сооружения Ленинграда состояли уже
из пятнадцати тысяч дотов и дзотов, а общая длина уличных баррикад достигла
тридцати пяти километров. Почти все городские дома были приспособлены для
установки огневых точек. В городе действовали готовые подняться по первому
сигналу тревоги дивизия ВОГ (внутренней охраны города) и многочисленные
отряды самообороны, руководимые самыми стойкими, выдержанными и опытными
коммунистами. Мозг обороны -- Смольный -- работал с предельным напряжением,
как год назад, когда опасность была такой же близкой и грозной. Но опыта,
хорошо организованных сил и стойкости у ленинградцев теперь было больше!
Бронекатера в устье Тосны
18 августа. На наблюдательных пунктах
Предотвратить немецкий удар вниз, вдоль Невы, и по флангу -- 55-й
армии, со стороны реки Тосны!.. Здесь -- равнина, по которой, прорвав нашу
оборону, могут двинуться сотни немецких танков!..
Но и не только это... Как выяснилось для меня позже, надо было
подготовить плацдармы на левобережье Невы для крупнейшей наступательной
операции этого, 1942 года, а в частности для взятия Мги.
В этот раз операция начинается необычно: боевым кораблям КБФ предстоит
взаимодействовать с пехо-
той не только своей артиллерией. Поэтому к месту действия спешат и
флотские и армейские военкоры.
Если вычертить на карте Неву, то -- от истоков у Шлиссельбурга до устья
-- вся эта 74-километровая река предстанет на карте в виде круто провисшей к
югу линии: на сорок пятом километре от Финского залива, там, где в Неву
впадает Тосна, Нева образует крутой излук. Ленинград и Шлиссельбург лежат на
одной параллели, а устье Тосны с селом Ивановским окажутся в самой южной
точке прогиба.
Весь левый берег Невы, выше впадения этого притока, и весь правый берег
его заняты гитлеровцами. Ниже села Усть-Тосно оба берега Невы -- наши.
Немцы захватили Ивановское и Усть-Тосно в боях 28--30 августа 1941
года, тогда же, когда заняли Мгу и перерезали железнодорожное сообщение
страны с Ленинградом. В следующие дни они выбрасывали на правый берег Невы
десанты парашютистов, но этих парашютистов наши самолеты расстреливали в
воздухе, по пятьдесят, по сто человек зараз. Захватить правый берег Невы
немцам нигде не удалось. Села Ивановское и Усть-Тосно стали крайней угловой
точкой левого фланга гитлеровцев на левобережье Невы. Траншеи перед
Усть-Тосно -- краем левого фланга наших войск, обращенных фронтом к востоку
и вытянувшихся вдоль левого берега этого притока Невы. Здесь с осени 1941
года линию фронта обороняет наша 55-я армия. Эта линия у Ям-Ижоры загибается
против Колпина к юго-западу, уходит далее на запад в сторону Пулковских
высот. Там, до самого Финского залива, оборону держит 42-я армия.
Чуть ниже разрушенного поселка Усть-Тосно, на правом высоком берегу
Невы расположены поселки Малые и Большие Пороги. От сотен домов поселка
Большие Пороги уже ничего не осталось: дома сожжены, расстреляны,
разбомблены, их развалины разобраны на строительство дзотов и блиндажей. Оба
поселка превратились в передний край нашей обороны. Из семи домиков поселка
Малые Пороги уцелел один -- маленький, с мансардой, дом "обстановочного
старшины" (а проще говоря -- бакенщика), 58-летнего
Михаила Павловича Моисеева. С семьею из тринадцати человек он жил здесь
до войны, живет здесь и сейчас, но уже один. Он, пожалуй, единственный здесь
"местный житель".
Впрочем, он не один. Его дом, как и десятки обведенных траншеями
землянок и блиндажей вокруг, населены моряками Краснознаменного Балтийского
флота. Три окна кирпичного дома Моисеева выходят на Неву, деревянная
мансарда с одним окном --, на ту же сторону -- превращена в наблюдательный
пункт морских артиллеристов, обстреливающих Ивановское и все позиции немцев
за Тосной. В мансарде, рядом с окном выложена защищающая от осколков будка
НП, а в юго-восгочной стене мансарды проделана "щель наблюдения", из которой
в стереотрубу видны вся Нева до излуки и устье Тосны. А в сторону невских
берегов рядом с забитым окном мансарды глядится в узкую амбразуру другая
стереотруба.
Вид с этого наблюдательного пункта, расположенного высоко над берегом,
-- бескрайний: простым глазом просматриваются вражеские позиции в
Ивановском, в Отрадном, в Никольском, а стереотруба помогает хорошо
рассмотреть и Поповку, и руины бывшего неподалеку завода, а с другой стороны
-- поверх всех наших и немецких позиций -- далекие отсюда города Пушкин и
Красное Село, захваченные немцами гот, назад.
И удивительно, как этот, уже пробитый снарядами, обведенный сотнями
глубоких воронок дом держится до сего времени! Может быть, потому, что при
обозрении с широкой низины он сливается с протянувшейся далеко за ним грядой
соснового леса?
Нет места удобней для наблюдения, чем эта, встроенная в мансарду, после
попадания в нее снаряда, будка и обитая материей амбразурка с приделанным к
ней столиком для планшета.. Отсюда осуществляется связь с морскими тяжелыми
батареями, расположенными в лесу на правобережье Невы, и с Ленинградом. Вся
изрешеченная насквозь осколками мансарда -- место постоянной, круглосуточной
вахты...
Против дома Моисеева, у другого -- левого -- бе-
рега Невы торчит над водой расстрелянная немцами, застрявшая здесь с 30
августа 1941 года землечерпалка "Нева", ее остов перевернут, в нем больше
пятисот (подсчитано!) пробоин. На том берегу белеет разбитый дом водокачки,
снабжавшей водою Колпино, и высятся бесформенные, оплывшие при пожаре руины
спирто-водочного завода. Там тоже всегда сидят наблюдатели и корректировщики
55-й, занимающей позиции за рекой, армии.
А вдоль правого берега Невы, против немецких позиций, держат оборону --
до Невской Дубровки и далее до Ладожского озера -- стрелковые дивизии,
морская пехота, 11-я отдельная стрелковая бригада и другие части Невской
оперативной группы. Вся прибрежная полоса лесов насыщена морскими и
сухопутными батареями. Весь берег изрыт, продырявлен сотнями дзотов,
землянок, блиндажей, изрезан траншеями, оплетен колючей проволокой, опоясан
минными полями и глядит на врага амбразурами мощных железобетонных дотов...
19 августа. 11 часов утра
Внезапно для врага над Невою и Тосной разражается грохот нашей
артподготовки. Правый берег Тосны, Ивановское, уходящее дальше левобережье
Невы окутываются дымом, просверкиваемым вспышками тысяч разрывов. Нева
закрывается покрывалом дымовых завес, выпущенных с бронекатера и станцией,
установленной на берегу Невы специальным подразделением 55-й армии. Наши
самолеты, пронесшись бреющим полетом над поверхностью реки, сгущают эту тучу
завесы своими сброшенными чередой дымовыми шашками.
12 часов дня
Связь доносит: от места сосредоточения у деревни Кормчино вышел к
Усть-Тосно первый эшелон бронированных катеров с десантом балтийцев...
Рейд тщательно подготовлен у села Рыбацкого, где стоят паши эскадренные
миноносцы и канонерка. Снаряды их орудий г волнующим звуком колыхания.
воздуха проносятся над Невой и ложатся "а немецкий передний край в
Ивановском.
Сейчас катера приблизятся. Скорее туда -- на передовой НП!
Здесь, против впадения в Неву Тосны, в прибрежной траншее стоит
вице-адмирал В. Ф. Трибуц с группой старших командиров. Поблизости в той же
траншее-- командиры-артиллеристы, делегаты связи, телефонисты, два-три
военных корреспондента, поэт Л. Хаустов -- адъютант командира полка... 1
И вот идущие вверх по Неве катера уже видны. Пройдя мимо домика
Моисеева, прорвавшись сквозь гущу дымовых завес, они достигают широкой
излуки Невы. Они мчатся, буруня воду, рассекая хлопающие по их бортам
невские волны... Семь бронекатеров и двадцать два охраняемых ими катера ЗИС
и КМ. Очи полны краснофлотцев, азартно кричащих "ура"...
Адмирал наблюдает, как, круто разворачиваясь, стреляя на полном ходу,
один за другим катера врываются в устье Тосны. Кто-то коротко произносит:
"Добро!.. "
13 часов 05 минут
Подлетев к левому берегу Тосны, занятому нашей 85-й стрелковой
дивизией, катера начинают высаживать десант. На другом берегу, прижатые к
земле огнем армейской и корабельной артиллерии и бомбежкой с воздуха,
гитлеровцы из 1-й "полицейской" дивизии СС припали к земле в своих траншеях.
Они застигнуты врасплох, им не успеть опомниться!
13 часов 20 минут
Высадка десанта закончена. Старший лейтенант Александр Ерофеевич
Кострубо должен был высадить свою группу десантников на наш берег Тооны, не
доходя четырехсот метров до шоссейного моста. Но он дерзнул пройти дальше,
-- его группа расхватывает выбрасываемые из укрытий лодки в ста метрах от
[*] 1 Вскоре, в
сентябрьских боях, Л Хаустов был тяжело ранен в Невской Дубровке
моста, за две минуты переправляется на немецкий берег. У другого моста
высадилась группа старшего лейтенанта Корытина...
Саперы 55-й армии взбегают на заминированные мосты, не дав ошалевшим
немцам взорвать их, режут провода, обезвреживают мины, и по мостам уже бежит
пехота.
Линия связи доносит: это -- бойцы 268-й стрелковой дивизии
генерал-майора С. И. Донского. Батальонами командуют лейтенант Кукареко и
капитан Поболин. В бой вступает батальон Клюканова...
Первые цепи пехотинцев и моряков, поддерживаемых пулеметным и
минометным огнем из-за Тосны, уже вздымают остатки минных береговых полей,
взорванных артиллерией и авиацией, которые сейчас долбят глубину вражеской
обороны. Моряки и пехотинцы режут колючую проволоку, штыками и автоматами
уничтожают врага в первой его траншее.
И только тут немцы наконец опомнились.
Спохватилась и бьет немецкая артиллерия, батальон гитлеровцев
поднимается в контратаку. Десятки вражеских самолетов заполняют небо. Над
дымом и пламенем, охватившими землю и воду, завязываются ожесточенные
воздушные схватки.
В дыму теперь ничего не видно...
Так начался этот бой -- бой за захват нового, Ивановского, плацдарма.
3 часа дня
Только что кончилась высадка на правом берегу Тосны десанта,
доставленного вторым эшелоном катеров.
Освободившиеся катера первого эшелона вырывались из дымного пекла боя
обратно в Неву и проносились мимо адмиральского наблюдательного пункта вниз
по течению, за новыми группами десантников. Вся Нева теперь вздымается
фонтанами от разрывов бомб и снарядов. Простреленные, избитые корпуса и
рубки некоторых катеров захлестываются водой, но балтийские морские флаги
реют на каждом флагштоке. Катера увозят вниз раненых моряков, переполне-
ны красноармейцами и краснофлотцами. Все звуки боя постепенно отстают
от них, -- ниже по течению катера входят в зону тишины и спокойствия, и
только буруны расходятся крутыми углами от каждого катера. Течение Невы
выносит из устья Тосны какие-то бревна, обломки лодок и неведомые предметы,
за которые держатся люди. Катера вылавливают их на ходу...
20 августа Домик Моисеева
Первые сутки боя принесли нам большой успех. Прорвав все линии немецких
траншей, сражаясь в остовах домов кирпичного завода, десантники и пехотинцы
ворвались в село Ивановское, достигли расстрелянной артиллерией церкви и,
гоня перед собой гитлеровцев, непрерывными атаками вышибли их из следующего
поселка -- Отрадное, достигли руин дворца и каменных зданий Пеллы, захватили
Пеллу...
Наши моряки и стрелки несут, однако, большие потери. Сопротивление
гитлеровцев резко усилилось. Они спешно подбрасывают резервы. Пелла и
Отрадное переходят из рук в руки, с середины дня крупные силы немцев
столкнулись с нашими бойцами в Ивановском. Есть сведения, что в эсэсовскую
дивизию влиты свежие силы голландцев.
Катера работают, как и вчера, -- их в бою участвует больше сорока.
Корреспонденты, спеша сообщить в свои редакции о несомненном успехе,
разъезжаются кто куда и на чем придется -- к Ленинграду, и Колпину, к штабу
НОГ, и в Колтуши, и в сторону Ладоги... Многие, отписавшись, вновь вернутся
сюда...
перед лицом близкой, смертельной опасности, включаются в общий
вдохновенный порыв: уберечь от врага свой город, спасти его, если будет
нужно, ценой своей жизни. Непременно спасти: убить, уничтожить врага, хотя
бы в том самом доме, в той комнате, в которой прожил доныне всю свою жизнь!
Таков Ленинград сегодня, в этом, зловещем августе!..
И можно быть, как прежде, уверенным, что ни при каких обстоятельствах
враг не осилит бессмертного сопротивления защитников Ленинграда -- штурм
будет сорван!
... К этому времени оборонительные сооружения Ленинграда состояли уже
из пятнадцати тысяч дотов и дзотов, а общая длина уличных баррикад достигла
тридцати пяти километров. Почти все городские дома были приспособлены для
установки огневых точек. В городе действовали готовые подняться по первому
сигналу тревоги дивизия ВОГ (внутренней охраны города) и многочисленные
отряды самообороны, руководимые самыми стойкими, выдержанными и опытными
коммунистами. Мозг обороны -- Смольный -- работал с предельным напряжением,
как год назад, когда опасность была такой же близкой и грозной. Но опыта,
хорошо организованных сил и стойкости у ленинградцев теперь было больше!
Бронекатера в устье Тосны
18 августа. На наблюдательных пунктах
Предотвратить немецкий удар вниз, вдоль Невы, и по флангу -- 55-й
армии, со стороны реки Тосны!.. Здесь -- равнина, по которой, прорвав нашу
оборону, могут двинуться сотни немецких танков!..
Но и не только это... Как выяснилось для меня позже, надо было
подготовить плацдармы на левобережье Невы для крупнейшей наступательной
операции этого, 1942 года, а в частности для взятия Мги.
В этот раз операция начинается необычно: боевым кораблям КБФ предстоит
взаимодействовать с пехо-
той не только своей артиллерией. Поэтому к месту действия спешат и
флотские и армейские военкоры.
Если вычертить на карте Неву, то -- от истоков у Шлиссельбурга до устья
-- вся эта 74-километровая река предстанет на карте в виде круто провисшей к
югу линии: на сорок пятом километре от Финского залива, там, где в Неву
впадает Тосна, Нева образует крутой излук. Ленинград и Шлиссельбург лежат на
одной параллели, а устье Тосны с селом Ивановским окажутся в самой южной
точке прогиба.
Весь левый берег Невы, выше впадения этого притока, и весь правый берег
его заняты гитлеровцами. Ниже села Усть-Тосно оба берега Невы -- наши.
Немцы захватили Ивановское и Усть-Тосно в боях 28--30 августа 1941
года, тогда же, когда заняли Мгу и перерезали железнодорожное сообщение
страны с Ленинградом. В следующие дни они выбрасывали на правый берег Невы
десанты парашютистов, но этих парашютистов наши самолеты расстреливали в
воздухе, по пятьдесят, по сто человек зараз. Захватить правый берег Невы
немцам нигде не удалось. Села Ивановское и Усть-Тосно стали крайней угловой
точкой левого фланга гитлеровцев на левобережье Невы. Траншеи перед
Усть-Тосно -- краем левого фланга наших войск, обращенных фронтом к востоку
и вытянувшихся вдоль левого берега этого притока Невы. Здесь с осени 1941
года линию фронта обороняет наша 55-я армия. Эта линия у Ям-Ижоры загибается
против Колпина к юго-западу, уходит далее на запад в сторону Пулковских
высот. Там, до самого Финского залива, оборону держит 42-я армия.
Чуть ниже разрушенного поселка Усть-Тосно, на правом высоком берегу
Невы расположены поселки Малые и Большие Пороги. От сотен домов поселка
Большие Пороги уже ничего не осталось: дома сожжены, расстреляны,
разбомблены, их развалины разобраны на строительство дзотов и блиндажей. Оба
поселка превратились в передний край нашей обороны. Из семи домиков поселка
Малые Пороги уцелел один -- маленький, с мансардой, дом "обстановочного
старшины" (а проще говоря -- бакенщика), 58-летнего
Михаила Павловича Моисеева. С семьею из тринадцати человек он жил здесь
до войны, живет здесь и сейчас, но уже один. Он, пожалуй, единственный здесь
"местный житель".
Впрочем, он не один. Его дом, как и десятки обведенных траншеями
землянок и блиндажей вокруг, населены моряками Краснознаменного Балтийского
флота. Три окна кирпичного дома Моисеева выходят на Неву, деревянная
мансарда с одним окном --, на ту же сторону -- превращена в наблюдательный
пункт морских артиллеристов, обстреливающих Ивановское и все позиции немцев
за Тосной. В мансарде, рядом с окном выложена защищающая от осколков будка
НП, а в юго-восгочной стене мансарды проделана "щель наблюдения", из которой
в стереотрубу видны вся Нева до излуки и устье Тосны. А в сторону невских
берегов рядом с забитым окном мансарды глядится в узкую амбразуру другая
стереотруба.
Вид с этого наблюдательного пункта, расположенного высоко над берегом,
-- бескрайний: простым глазом просматриваются вражеские позиции в
Ивановском, в Отрадном, в Никольском, а стереотруба помогает хорошо
рассмотреть и Поповку, и руины бывшего неподалеку завода, а с другой стороны
-- поверх всех наших и немецких позиций -- далекие отсюда города Пушкин и
Красное Село, захваченные немцами гот, назад.
И удивительно, как этот, уже пробитый снарядами, обведенный сотнями
глубоких воронок дом держится до сего времени! Может быть, потому, что при
обозрении с широкой низины он сливается с протянувшейся далеко за ним грядой
соснового леса?
Нет места удобней для наблюдения, чем эта, встроенная в мансарду, после
попадания в нее снаряда, будка и обитая материей амбразурка с приделанным к
ней столиком для планшета.. Отсюда осуществляется связь с морскими тяжелыми
батареями, расположенными в лесу на правобережье Невы, и с Ленинградом. Вся
изрешеченная насквозь осколками мансарда -- место постоянной, круглосуточной
вахты...
Против дома Моисеева, у другого -- левого -- бе-
рега Невы торчит над водой расстрелянная немцами, застрявшая здесь с 30
августа 1941 года землечерпалка "Нева", ее остов перевернут, в нем больше
пятисот (подсчитано!) пробоин. На том берегу белеет разбитый дом водокачки,
снабжавшей водою Колпино, и высятся бесформенные, оплывшие при пожаре руины
спирто-водочного завода. Там тоже всегда сидят наблюдатели и корректировщики
55-й, занимающей позиции за рекой, армии.
А вдоль правого берега Невы, против немецких позиций, держат оборону --
до Невской Дубровки и далее до Ладожского озера -- стрелковые дивизии,
морская пехота, 11-я отдельная стрелковая бригада и другие части Невской
оперативной группы. Вся прибрежная полоса лесов насыщена морскими и
сухопутными батареями. Весь берег изрыт, продырявлен сотнями дзотов,
землянок, блиндажей, изрезан траншеями, оплетен колючей проволокой, опоясан
минными полями и глядит на врага амбразурами мощных железобетонных дотов...
19 августа. 11 часов утра
Внезапно для врага над Невою и Тосной разражается грохот нашей
артподготовки. Правый берег Тосны, Ивановское, уходящее дальше левобережье
Невы окутываются дымом, просверкиваемым вспышками тысяч разрывов. Нева
закрывается покрывалом дымовых завес, выпущенных с бронекатера и станцией,
установленной на берегу Невы специальным подразделением 55-й армии. Наши
самолеты, пронесшись бреющим полетом над поверхностью реки, сгущают эту тучу
завесы своими сброшенными чередой дымовыми шашками.
12 часов дня
Связь доносит: от места сосредоточения у деревни Кормчино вышел к
Усть-Тосно первый эшелон бронированных катеров с десантом балтийцев...
Рейд тщательно подготовлен у села Рыбацкого, где стоят паши эскадренные
миноносцы и канонерка. Снаряды их орудий г волнующим звуком колыхания.
воздуха проносятся над Невой и ложатся "а немецкий передний край в
Ивановском.
Сейчас катера приблизятся. Скорее туда -- на передовой НП!
Здесь, против впадения в Неву Тосны, в прибрежной траншее стоит
вице-адмирал В. Ф. Трибуц с группой старших командиров. Поблизости в той же
траншее-- командиры-артиллеристы, делегаты связи, телефонисты, два-три
военных корреспондента, поэт Л. Хаустов -- адъютант командира полка... 1
И вот идущие вверх по Неве катера уже видны. Пройдя мимо домика
Моисеева, прорвавшись сквозь гущу дымовых завес, они достигают широкой
излуки Невы. Они мчатся, буруня воду, рассекая хлопающие по их бортам
невские волны... Семь бронекатеров и двадцать два охраняемых ими катера ЗИС
и КМ. Очи полны краснофлотцев, азартно кричащих "ура"...
Адмирал наблюдает, как, круто разворачиваясь, стреляя на полном ходу,
один за другим катера врываются в устье Тосны. Кто-то коротко произносит:
"Добро!.. "
13 часов 05 минут
Подлетев к левому берегу Тосны, занятому нашей 85-й стрелковой
дивизией, катера начинают высаживать десант. На другом берегу, прижатые к
земле огнем армейской и корабельной артиллерии и бомбежкой с воздуха,
гитлеровцы из 1-й "полицейской" дивизии СС припали к земле в своих траншеях.
Они застигнуты врасплох, им не успеть опомниться!
13 часов 20 минут
Высадка десанта закончена. Старший лейтенант Александр Ерофеевич
Кострубо должен был высадить свою группу десантников на наш берег Тооны, не
доходя четырехсот метров до шоссейного моста. Но он дерзнул пройти дальше,
-- его группа расхватывает выбрасываемые из укрытий лодки в ста метрах от
[*] 1 Вскоре, в
сентябрьских боях, Л Хаустов был тяжело ранен в Невской Дубровке
моста, за две минуты переправляется на немецкий берег. У другого моста
высадилась группа старшего лейтенанта Корытина...
Саперы 55-й армии взбегают на заминированные мосты, не дав ошалевшим
немцам взорвать их, режут провода, обезвреживают мины, и по мостам уже бежит
пехота.
Линия связи доносит: это -- бойцы 268-й стрелковой дивизии
генерал-майора С. И. Донского. Батальонами командуют лейтенант Кукареко и
капитан Поболин. В бой вступает батальон Клюканова...
Первые цепи пехотинцев и моряков, поддерживаемых пулеметным и
минометным огнем из-за Тосны, уже вздымают остатки минных береговых полей,
взорванных артиллерией и авиацией, которые сейчас долбят глубину вражеской
обороны. Моряки и пехотинцы режут колючую проволоку, штыками и автоматами
уничтожают врага в первой его траншее.
И только тут немцы наконец опомнились.
Спохватилась и бьет немецкая артиллерия, батальон гитлеровцев
поднимается в контратаку. Десятки вражеских самолетов заполняют небо. Над
дымом и пламенем, охватившими землю и воду, завязываются ожесточенные
воздушные схватки.
В дыму теперь ничего не видно...
Так начался этот бой -- бой за захват нового, Ивановского, плацдарма.
3 часа дня
Только что кончилась высадка на правом берегу Тосны десанта,
доставленного вторым эшелоном катеров.
Освободившиеся катера первого эшелона вырывались из дымного пекла боя
обратно в Неву и проносились мимо адмиральского наблюдательного пункта вниз
по течению, за новыми группами десантников. Вся Нева теперь вздымается
фонтанами от разрывов бомб и снарядов. Простреленные, избитые корпуса и
рубки некоторых катеров захлестываются водой, но балтийские морские флаги
реют на каждом флагштоке. Катера увозят вниз раненых моряков, переполне-
ны красноармейцами и краснофлотцами. Все звуки боя постепенно отстают
от них, -- ниже по течению катера входят в зону тишины и спокойствия, и
только буруны расходятся крутыми углами от каждого катера. Течение Невы
выносит из устья Тосны какие-то бревна, обломки лодок и неведомые предметы,
за которые держатся люди. Катера вылавливают их на ходу...
20 августа Домик Моисеева
Первые сутки боя принесли нам большой успех. Прорвав все линии немецких
траншей, сражаясь в остовах домов кирпичного завода, десантники и пехотинцы
ворвались в село Ивановское, достигли расстрелянной артиллерией церкви и,
гоня перед собой гитлеровцев, непрерывными атаками вышибли их из следующего
поселка -- Отрадное, достигли руин дворца и каменных зданий Пеллы, захватили
Пеллу...
Наши моряки и стрелки несут, однако, большие потери. Сопротивление
гитлеровцев резко усилилось. Они спешно подбрасывают резервы. Пелла и
Отрадное переходят из рук в руки, с середины дня крупные силы немцев
столкнулись с нашими бойцами в Ивановском. Есть сведения, что в эсэсовскую
дивизию влиты свежие силы голландцев.
Катера работают, как и вчера, -- их в бою участвует больше сорока.
Корреспонденты, спеша сообщить в свои редакции о несомненном успехе,
разъезжаются кто куда и на чем придется -- к Ленинграду, и Колпину, к штабу
НОГ, и в Колтуши, и в сторону Ладоги... Многие, отписавшись, вновь вернутся
сюда...
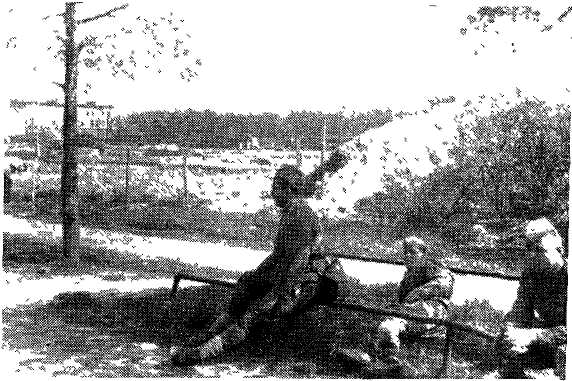 ноги и держась руками за сиденье, старается сохранить равновесие, --
качка все усиливается.
Капитан видит быстро надвигающиеся гряду облаков. Ветер крепчает.
-- Иван! -- командует капитан в машину помощнику механика. -- Останови
динамку, чтоб зря не расходовать пар. Держать пар на марке. Сейчас шторм
будет, постараемся проскочить скорей! Все понятно -- мрачнеет капитан и
ворчливо рассуждает о том, что диспетчер в порту, конечно, получил сообщение
о приближающемся циклоне, но, скрыв прогноз, отправил пароход в рейс. -- Они
так поступают часто, держат прогнозы в тайне: авось, сойдет. Они постарались
забыть о приказе! А в приказе сказано: не имеет права выпускать канальные
пароходы при штормах, превышающих пять баллов... А им что? Выпускают даже
при семибалльном! Им нужно рапортовать: "План перевозок выполнен". Они
рассчитывают: "Вышел бы в рейс, а там пойди разберись -- пять или семь
баллов, -- как-нибудь дотянется!"
... Со свистом, поднимая водяную пыль, налетает шквал. В нем не меньше
девяти баллов. Крупная зыбь обрушивается на палубу "Батурина".
Ветер давит стеной, все с той же силой. В такой ветер даже огромные
морские транспорты не выпускают в открытое море. "Батурин теряет ход. Вместе
с баржами его несет на юг, -- а на южном берегу немцы. Взбираясь на мощную
волну, он затем проваливается в бездну. 120-килограммовый якорь сорвался с
места, катается по палубе вместе с 30-ведерной бочкой с водой. Затем
срывается наполненный продуктами ларь. Они ударяются то в один борт, то в
другой. Ларь разбивается в щепки. Борта трещат. Волны, захлестывая палубу,
врываются в машинное отделение. Оттуда кричат:
-- Вода прибывает быстро! Водогон не успевает откачивать!
Несколько раз "Батурин" ложится набок так, что уровень воды в озере
доходит до уровня палубы, и вода большими потоками хлещет в трюмы. Немецкий
берег близится. Надо повернуть пароход против волн,
придержаться до рассвета, утром, может быть, пришлют помощь!
Бархударов круто взял руль влево. При повороте крупные волны обрушились
па борт, смыли запасный буксир, он намотался на винт. Машина стала. Потеряв
ход, "Батурин" повернулся кормой по ветру. Качка уменьшилась, но дрейф
увеличился. Можно не сомневаться: утром баржи и пароход окажется в руках
немцев...
Выход остается один: здесь, на восьмиметровой глубине, поставить баржи
на якоря, а самому... если избавиться от намотавшегося на винт буксирного
троса -- добираться до нашего берега и просить выслать помощь для спасения
барж. Ясно и то, что якоря при штормовой зыби не станут держать баржи, но,
цепляясь за грунт и волочась по нему, они резко замедлят их дрейф.
Прежде всего выбирают буксир с баржи. Ставят обе баржи на якоря. Затем,
обрушив запасный, намотавшийся на винт буксирный трос, пробуют дать ход.
Винт с длинным, свесившимся под водой тросом начинает вращаться. Пароход
медленно разворачивается и так же медленно продолжает пробиваться сквозь
волны...
Через четыре с половиной часа пройдя то расстояние, на которое в тихую
погоду потребовалось бы не больше сорока минут, "Батурин" добирается до
ближайшего порта -- Лаврова. Отсюда Бархударов связывается по телефону с
диспетчером:
-- Скрывая от капитанов прогнозы погоды, вы ставите их под угрозу
гибели. Немедленно дайте два больших парохода для спасения барж!
Проходит еще час. Два парохода -- "No 7" с капитаном Климашиным и
"Арзамас" с капитаном Никифоровым -- выходят в озеро. Их машины каждая на
тридцать сил мощнее машины "Батурина", и сами пароходы чуть побольше, а зыбь
к этому времени уменьшилась...
На борту ошвартованного у пирса "Батурина" теперь можно отдыхать. Кок
Дуся -- сорокапятилетняя, тощая, высокая женщина -- в машинном отделении
варит на примусе суп. Она неряшлива и грязна. Дед Шнидеров
подлащивается к ней, пытается ее обнять... Она огрызается, отталкивает его.
Ну куда тебе, дед? -- укоризненно говорит Бархударов.
А я... чтоб от качки она не упала! -- хладнокровно ответствует дед.
Какая тут тебе качка, у пирса?
Ну вообще...
А если "вообще", то кому ты, дед, нужен? Чего добиться мечтаешь?
Это, капитан, верно! -- еще спокойней соглашается дед. -- Глазами так
бы и съел, да тело немощно!
Однако всем не до шуток. Нетерпеливое ожидание ушедших в опасный рейс
пароходов действует на общее настроение. Что там происходит?
Суп едят молча. Дуся уходит, заваливается спать. Остальные курят
махорку, вспоминают разные случаи. Остаток дня проходит нервно и напряженно.
Наступает такая же тревожная ночь, и никому не спится.
Глубокой ночью дежурные катера выходят встречать возвращающийся
караван. Один из катеров при свете дальнего фонаря высаживает каких-то
раненых. Их укладывают на вагонетку, увозят в госпиталь. Измученный трудным
рейсом матрос с "Арзамаса" заходит на борт "Батурина", рассказывает...
После недолгих розысков, на южной стороне озера капитаны заметили обе
баржи. Они находились в четырех милях от немецкого берега, их продолжало
сносить на юг. Не зная лоции этих мест, опасаясь напороться на камни, ожидая
обстрела со стороны немцев, пароходы начали осторожно приближаться к баржам.
Два немецких самолета показались над озером, снизились над баржами, но,
встретив пулеметный огонь, полетели к болтавшемуся невдалеке нашему
тендеру-- его в этот день также снесло к немецкому берегу.
Четырежды пикировали немцы на тендер, осыпая его пушечными снарядами и
пулеметным огнем. На пятом заходе, описав круг над тендером и убедившись,
что все краснофлотцы на нем перебиты, само-
леты улетели на юг -- очевидно, с донесением о результатах своей
разведки.
Пароходы "Арзамас" и "No 7", не теряя времени, подошли к баржам, с
трудом, рискуя разбить себя и баржи на пляшущих волнах, приняли каждый по
буксиру и повели баржи за собой. По пути один из них захватил с собою и
тендер: оказалось, что краснофлотцы перехитрили немецких летчиков,
притворившись мертвыми. Только один из семи краснофлотцев получил шесть
ранений, остальные были невредимы. Они объяснили, что у них испортился
мотор.
Ошеломленные дерзостью маленьких невооруженных пароходиков, немцы
открыли с берега огонь прямой наводкой, но опоздали: караван успел отойти
уже достаточно далеко. Он шел весь вечер и вот поздно ночью благополучно
прибыл к нашему берегу.
... Пока матрос, жадно глотая горячий чай и грея руки на чайнике,
рассказывает, караван, чуть видимый в темноте по огням, медленно тянется
мимо: ему следовать в порт назначения -- Кареджи. Матрос торопливо прощается
-- ему на катер, который доставит его обратно на "Арзамас"... Сейчас и
"Батурину" следовать в рейс по назначению диспетчера.
А пока длилось ожидание на борту "Батурина", было перессказано много
недавних историй. Вот одна из них, приключившаяся несколько дней назад, в
дни только что закончившихся синявинских боев.
... Несколько суток подряд бушует шторм. А идти в рейс надо. Проходя
середину озера, капитан "Батурина" Бархударов заметил вражеский самолет. Он
идет навстречу, снижается. Подогнув колени, чтоб из рубки было лучше видно,
и крепко держась за штурвал, капитан сосредоточил на самолете все свое
внимание, -- в озере вокруг ни одного дымка. На барже один пулемет, --
значит, вся надежда сейчас только на маневренность судна. Самолет пикирует.
Капитан резко берет руль вправо, слыша, как строчит пулемет с баржи. Но...
справа на пароход пикирует другой бомбардировщик, неизвестно откуда
взявшийся. Повернуть налево -- поздно: попадешь под бомбу первого самолета.
Дать машине задний ход -- нельзя,
сзади баржа, она по инерции ударит в корму, разобьется сама, разобьет
пароход, а буксир намотается на винт парохода. "Еще вправо!" -- сам себе
командует капитан.
Но бомбы уже летят со свистом. Они падают под носом с правого борта, и
под кормой с левого, и еще с левого, на который пикирует третий,
низриччвшийся с небес самолет. Пароход вздрагивает, проваливается в пучину
между столбами воды, огня и дыма Осколки бомб впиваются в корпус парохода с
трех сторон, слышны крики раненых. Разлетаются стекла в рубке, летят с
палубы какие-то неукрепленные предметы, опрокидываются в каютах столы,
чайники, слышен стон...
Сделав круг, бомбовозы начинают свою адскую работу сначала. Кто-то
ранен еще Шипит пар, бьющий из перебитой паровой трубки. Осколком бомбы
перебит буксирный трос, -- пароход внезапно вырывается вперед, для него это
хорошо, его скорость теперь в тричетыре раза больше, он увертливо
маневрирует. Но для баржи -- горе, она теряет ход, останавливается,
становится неподвижной мишенью для бомбардировщиков, вся надежда на
хладнокровие непрерывно бьющих вверх пулеметчиков. Прекратив бесцельное
преследование маленького парохода, бомбардировщики кидаются на баржу. Один
заход -- бомбы мимо, второй заход -- бомбы рядом.. Пароход полным ходом
бороздит озеро вокруг баржи, чтобы при неминуемом попадании в нее подать
помощь погибающим людям.
Но третьего захода на баржу бомбардировщики сделать не успели, на них с
небес налетели советские истребители, навязывают им бой, а в волнах -- белые
бураны и рев: со всех сторон сюда, на помощь, несутся морские охотники,
поодаль за ними дымят тихоходные тральщики, -- грохот, треск пулеметного и
пушечного огня, устремленного снизу вверх, заставляет взмыть немецкие
самолеты. Из нападающих они превращаются в обороняющихся. Им теперь не до
парохода и не до баржи, Они стараются уклониться от боя, улетают,
преследуемые нашими самолетами.
Пароход подходит к барже, быстро принимает буксир и, нагоняя пар до
марки, полным ходом идет к порту назначения. Здоровые люди перевязывают
раненых, укладывают на койки двоих убитых и двух тяжело раненных. Механик и
два матроса осматривают пробоины, торопятся заделать те, которые оказались в
подводной части корпуса..
... Шторм, разгулявшийся 7 октября, натворил немало бед: в этот день на
камни западного берега было выкинуто с десяток барж -- груженных
продовольствием и порожних..
В разные дни осени происходили описанные дальше события Записи о них я
объединяю в этой главе, чтобы сосредоточить здесь внимание читателя,
интересующегося тем, что происходило во время напряженнейших перевозок на
Ладоге, когда Ленинград готовился к зиме, а Ленинградский фронт -- к новой
решительной операции по прорыву блокады...
ноги и держась руками за сиденье, старается сохранить равновесие, --
качка все усиливается.
Капитан видит быстро надвигающиеся гряду облаков. Ветер крепчает.
-- Иван! -- командует капитан в машину помощнику механика. -- Останови
динамку, чтоб зря не расходовать пар. Держать пар на марке. Сейчас шторм
будет, постараемся проскочить скорей! Все понятно -- мрачнеет капитан и
ворчливо рассуждает о том, что диспетчер в порту, конечно, получил сообщение
о приближающемся циклоне, но, скрыв прогноз, отправил пароход в рейс. -- Они
так поступают часто, держат прогнозы в тайне: авось, сойдет. Они постарались
забыть о приказе! А в приказе сказано: не имеет права выпускать канальные
пароходы при штормах, превышающих пять баллов... А им что? Выпускают даже
при семибалльном! Им нужно рапортовать: "План перевозок выполнен". Они
рассчитывают: "Вышел бы в рейс, а там пойди разберись -- пять или семь
баллов, -- как-нибудь дотянется!"
... Со свистом, поднимая водяную пыль, налетает шквал. В нем не меньше
девяти баллов. Крупная зыбь обрушивается на палубу "Батурина".
Ветер давит стеной, все с той же силой. В такой ветер даже огромные
морские транспорты не выпускают в открытое море. "Батурин теряет ход. Вместе
с баржами его несет на юг, -- а на южном берегу немцы. Взбираясь на мощную
волну, он затем проваливается в бездну. 120-килограммовый якорь сорвался с
места, катается по палубе вместе с 30-ведерной бочкой с водой. Затем
срывается наполненный продуктами ларь. Они ударяются то в один борт, то в
другой. Ларь разбивается в щепки. Борта трещат. Волны, захлестывая палубу,
врываются в машинное отделение. Оттуда кричат:
-- Вода прибывает быстро! Водогон не успевает откачивать!
Несколько раз "Батурин" ложится набок так, что уровень воды в озере
доходит до уровня палубы, и вода большими потоками хлещет в трюмы. Немецкий
берег близится. Надо повернуть пароход против волн,
придержаться до рассвета, утром, может быть, пришлют помощь!
Бархударов круто взял руль влево. При повороте крупные волны обрушились
па борт, смыли запасный буксир, он намотался на винт. Машина стала. Потеряв
ход, "Батурин" повернулся кормой по ветру. Качка уменьшилась, но дрейф
увеличился. Можно не сомневаться: утром баржи и пароход окажется в руках
немцев...
Выход остается один: здесь, на восьмиметровой глубине, поставить баржи
на якоря, а самому... если избавиться от намотавшегося на винт буксирного
троса -- добираться до нашего берега и просить выслать помощь для спасения
барж. Ясно и то, что якоря при штормовой зыби не станут держать баржи, но,
цепляясь за грунт и волочась по нему, они резко замедлят их дрейф.
Прежде всего выбирают буксир с баржи. Ставят обе баржи на якоря. Затем,
обрушив запасный, намотавшийся на винт буксирный трос, пробуют дать ход.
Винт с длинным, свесившимся под водой тросом начинает вращаться. Пароход
медленно разворачивается и так же медленно продолжает пробиваться сквозь
волны...
Через четыре с половиной часа пройдя то расстояние, на которое в тихую
погоду потребовалось бы не больше сорока минут, "Батурин" добирается до
ближайшего порта -- Лаврова. Отсюда Бархударов связывается по телефону с
диспетчером:
-- Скрывая от капитанов прогнозы погоды, вы ставите их под угрозу
гибели. Немедленно дайте два больших парохода для спасения барж!
Проходит еще час. Два парохода -- "No 7" с капитаном Климашиным и
"Арзамас" с капитаном Никифоровым -- выходят в озеро. Их машины каждая на
тридцать сил мощнее машины "Батурина", и сами пароходы чуть побольше, а зыбь
к этому времени уменьшилась...
На борту ошвартованного у пирса "Батурина" теперь можно отдыхать. Кок
Дуся -- сорокапятилетняя, тощая, высокая женщина -- в машинном отделении
варит на примусе суп. Она неряшлива и грязна. Дед Шнидеров
подлащивается к ней, пытается ее обнять... Она огрызается, отталкивает его.
Ну куда тебе, дед? -- укоризненно говорит Бархударов.
А я... чтоб от качки она не упала! -- хладнокровно ответствует дед.
Какая тут тебе качка, у пирса?
Ну вообще...
А если "вообще", то кому ты, дед, нужен? Чего добиться мечтаешь?
Это, капитан, верно! -- еще спокойней соглашается дед. -- Глазами так
бы и съел, да тело немощно!
Однако всем не до шуток. Нетерпеливое ожидание ушедших в опасный рейс
пароходов действует на общее настроение. Что там происходит?
Суп едят молча. Дуся уходит, заваливается спать. Остальные курят
махорку, вспоминают разные случаи. Остаток дня проходит нервно и напряженно.
Наступает такая же тревожная ночь, и никому не спится.
Глубокой ночью дежурные катера выходят встречать возвращающийся
караван. Один из катеров при свете дальнего фонаря высаживает каких-то
раненых. Их укладывают на вагонетку, увозят в госпиталь. Измученный трудным
рейсом матрос с "Арзамаса" заходит на борт "Батурина", рассказывает...
После недолгих розысков, на южной стороне озера капитаны заметили обе
баржи. Они находились в четырех милях от немецкого берега, их продолжало
сносить на юг. Не зная лоции этих мест, опасаясь напороться на камни, ожидая
обстрела со стороны немцев, пароходы начали осторожно приближаться к баржам.
Два немецких самолета показались над озером, снизились над баржами, но,
встретив пулеметный огонь, полетели к болтавшемуся невдалеке нашему
тендеру-- его в этот день также снесло к немецкому берегу.
Четырежды пикировали немцы на тендер, осыпая его пушечными снарядами и
пулеметным огнем. На пятом заходе, описав круг над тендером и убедившись,
что все краснофлотцы на нем перебиты, само-
леты улетели на юг -- очевидно, с донесением о результатах своей
разведки.
Пароходы "Арзамас" и "No 7", не теряя времени, подошли к баржам, с
трудом, рискуя разбить себя и баржи на пляшущих волнах, приняли каждый по
буксиру и повели баржи за собой. По пути один из них захватил с собою и
тендер: оказалось, что краснофлотцы перехитрили немецких летчиков,
притворившись мертвыми. Только один из семи краснофлотцев получил шесть
ранений, остальные были невредимы. Они объяснили, что у них испортился
мотор.
Ошеломленные дерзостью маленьких невооруженных пароходиков, немцы
открыли с берега огонь прямой наводкой, но опоздали: караван успел отойти
уже достаточно далеко. Он шел весь вечер и вот поздно ночью благополучно
прибыл к нашему берегу.
... Пока матрос, жадно глотая горячий чай и грея руки на чайнике,
рассказывает, караван, чуть видимый в темноте по огням, медленно тянется
мимо: ему следовать в порт назначения -- Кареджи. Матрос торопливо прощается
-- ему на катер, который доставит его обратно на "Арзамас"... Сейчас и
"Батурину" следовать в рейс по назначению диспетчера.
А пока длилось ожидание на борту "Батурина", было перессказано много
недавних историй. Вот одна из них, приключившаяся несколько дней назад, в
дни только что закончившихся синявинских боев.
... Несколько суток подряд бушует шторм. А идти в рейс надо. Проходя
середину озера, капитан "Батурина" Бархударов заметил вражеский самолет. Он
идет навстречу, снижается. Подогнув колени, чтоб из рубки было лучше видно,
и крепко держась за штурвал, капитан сосредоточил на самолете все свое
внимание, -- в озере вокруг ни одного дымка. На барже один пулемет, --
значит, вся надежда сейчас только на маневренность судна. Самолет пикирует.
Капитан резко берет руль вправо, слыша, как строчит пулемет с баржи. Но...
справа на пароход пикирует другой бомбардировщик, неизвестно откуда
взявшийся. Повернуть налево -- поздно: попадешь под бомбу первого самолета.
Дать машине задний ход -- нельзя,
сзади баржа, она по инерции ударит в корму, разобьется сама, разобьет
пароход, а буксир намотается на винт парохода. "Еще вправо!" -- сам себе
командует капитан.
Но бомбы уже летят со свистом. Они падают под носом с правого борта, и
под кормой с левого, и еще с левого, на который пикирует третий,
низриччвшийся с небес самолет. Пароход вздрагивает, проваливается в пучину
между столбами воды, огня и дыма Осколки бомб впиваются в корпус парохода с
трех сторон, слышны крики раненых. Разлетаются стекла в рубке, летят с
палубы какие-то неукрепленные предметы, опрокидываются в каютах столы,
чайники, слышен стон...
Сделав круг, бомбовозы начинают свою адскую работу сначала. Кто-то
ранен еще Шипит пар, бьющий из перебитой паровой трубки. Осколком бомбы
перебит буксирный трос, -- пароход внезапно вырывается вперед, для него это
хорошо, его скорость теперь в тричетыре раза больше, он увертливо
маневрирует. Но для баржи -- горе, она теряет ход, останавливается,
становится неподвижной мишенью для бомбардировщиков, вся надежда на
хладнокровие непрерывно бьющих вверх пулеметчиков. Прекратив бесцельное
преследование маленького парохода, бомбардировщики кидаются на баржу. Один
заход -- бомбы мимо, второй заход -- бомбы рядом.. Пароход полным ходом
бороздит озеро вокруг баржи, чтобы при неминуемом попадании в нее подать
помощь погибающим людям.
Но третьего захода на баржу бомбардировщики сделать не успели, на них с
небес налетели советские истребители, навязывают им бой, а в волнах -- белые
бураны и рев: со всех сторон сюда, на помощь, несутся морские охотники,
поодаль за ними дымят тихоходные тральщики, -- грохот, треск пулеметного и
пушечного огня, устремленного снизу вверх, заставляет взмыть немецкие
самолеты. Из нападающих они превращаются в обороняющихся. Им теперь не до
парохода и не до баржи, Они стараются уклониться от боя, улетают,
преследуемые нашими самолетами.
Пароход подходит к барже, быстро принимает буксир и, нагоняя пар до
марки, полным ходом идет к порту назначения. Здоровые люди перевязывают
раненых, укладывают на койки двоих убитых и двух тяжело раненных. Механик и
два матроса осматривают пробоины, торопятся заделать те, которые оказались в
подводной части корпуса..
... Шторм, разгулявшийся 7 октября, натворил немало бед: в этот день на
камни западного берега было выкинуто с десяток барж -- груженных
продовольствием и порожних..
В разные дни осени происходили описанные дальше события Записи о них я
объединяю в этой главе, чтобы сосредоточить здесь внимание читателя,
интересующегося тем, что происходило во время напряженнейших перевозок на
Ладоге, когда Ленинград готовился к зиме, а Ленинградский фронт -- к новой
решительной операции по прорыву блокады...
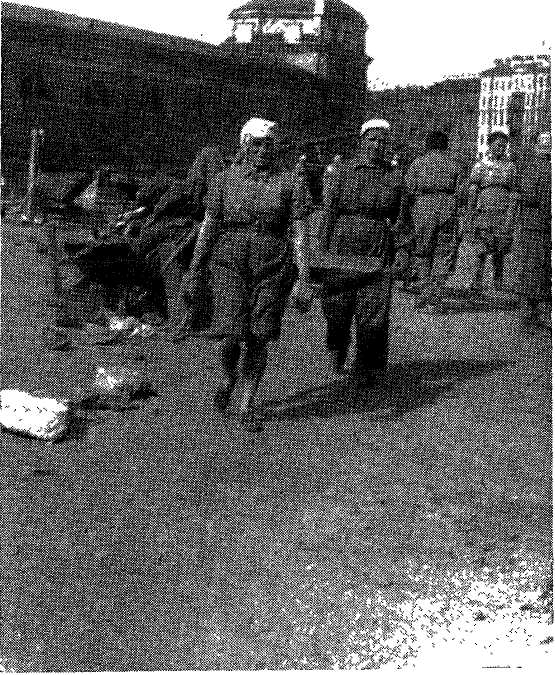 Работа после бомбежки -- расчистка набережной.
слабыми ни были люди, могло совершить этот подвиг гигантского труда.
Этот подвиг ленинградцы совершили. Результаты его всем известны.
И теперь снова политорганизаторы были прикреплены к каждому дому. В
осенней кампании политорганизаторами в числе других стали сто инженеров,
врачей, различных специалистов из технической интеллигенции. Опять пошла
широкая политмассовая работа, выпускались "Боевые листки", в них сообщались
имена и фамилии лучших работников, излагался опыт их работы. Во всех домах
был создан актив из числа жильцов. Все работающие в городе промышленные
предприятия были призваны помогать населению материалами и личным участием
своих специалистов.
Откуда было взять материалы? Фанеру, олифу, краски, кровельное железо,
батареи центрального отопления, смолу, -- да мало ли что еще? Придумывали,
изобретали заменители, брали кое-что из разбомбленных, разбитых артиллерией
домов: проволоку, кирпич, трубы, железо, плиты. Обрабатывали деревянные
перекрытия суперфосфатами, заготовляли дрова, использовали для пропитки
рваные одеяла, мешковину и другие "внутренние ресурсы"... Работали главным
образом женщины, многие никогда прежде не занимались физическим трудом...
Пудов сообщает цифры: план работ выполнен районом на 98, 6 процента.
Четыреста шестьдесят строений отремонтированы. Все крыши починены. За два с
половиной месяца восстановлено 12 873 водопроводных и канализационных
стояка. Их общая протяженность -- сто тридцать километров. Только для
прачечных отремонтировано около тридцати километров труб...
После собрания в зале филармонии был концерт. В нем участвовали
Горин-Горяинов, Исакова, Иордан, Васильев, Пельтцер, Нечаев, Михайлов,
Вениаминов, Чернявская, Легков, Астафьева, Свидерский, Гербек и
Сахновская...
Но Всеволожский район
21 октября. Деревня Янино
На всех площадях, во всех уголках Ленинграда -- огороды, везде кипит
необычная для города сельскохозяйственная работа. По всем улицам Ленинграда
движется транспорт, нагруженный картофелем, капустой и прочими овощами.
Трамваи, грузовики, ручные тележки подвозят этот драгоценный в блокадное
наше время груз к магазинам и складам... Откуда, из каких, не занятых
немцами окрестностей Ленинграда его везут? Кто и как трудится в пригородных
хозяйствах? Как осуществляется руководство огромной заготовительной работой,
происходящей часто под артиллерийским обстрелом и под бомбежками?
Вместе с заведующим райземотделом Куйбышевского района И. П. Прозоровым
и агрономом райзо Н. Г. Жежелем я выехал на грузовике в пригородные
хозяйства, расположенные во Всеволожском районе. Летели "белые мухи" --
первые снежинки наступающей зимы. Мы мчались через Охту к Пороховым и
Колтушской возвышенности, минуя разбираемые на дрова дома (в Ленинграде
разрешено разобрать на дрова пять тысяч деревянных домов!), минуя поля,
огороды -- вязкие, серые, предзимние, уже почти сплошь оголенные. Только
кое-где виднеется отличная, неснятая капуста. Это там, где для нее пока не
нашли хранилищ или транспорта. Но такие клочки полей -- редки.
Прозоров -- седой человек с энергичным, здоровым, исхудалым лицом. Он
семнадцать лет был на военной службе, участвовал как связист в трех войнах
-- империалистической, гражданской и финской.
Жежель -- немолодой, худощавый, как все ленинградцы, спокойный,
внимательный к собеседнику человек. Он старший научный сотрудник
Сельскохозяйственной академии, доцент двух вузов, участник многих
научно-исследовательских экспедиций -- почвенно-ботанических и
геологических. Теперь вместе со своею женой Еленой Ивановной Пантелеевой,
аспирантом Пушкинского сельскохозяйственного институ-
та, и двухлетним ребенком он живет во Всеволожском районе, -- жена его
работает там агрономом в пригородных хозяйствах. Жежеля и его жену давно
зовут в тыл, но они ни за что не хотят оставить Ленинград.
-- Знаете, я избороздил весь Советский Союз, но такого энтузиазма и
таких интенсивных приемов в агротехнике, как у нас в это лето, я нигде
никогда не встречал! А ведь все, чего мы добились, сделано людьми, которые
никогда не касались земли!
Всю дорогу Жежель рассказывал мне о работе в пригородных хозяйствах тех
учреждений, которые расположены в Куйбышевском районе Ленинграда и ныне
подведомственных не представимому в мирное время городскому райземотделу. О
том, как весной и в начале лета служащие городских учреждений, ставшие
рабочими пригородных хозяйств, питались там главным образом лебедой,
одуванчиком, крапивой, корнями лопуха и разными другими травами, и о том,
что из нескольких тысяч человек никто не умер, а теперь, когда овощи
выращены, -- все поправились, стали вполне здоровыми, окрепли физически,
бодры духом...
Хозяйство телефонной станции
Первую остановку мы сделали в деревне Хирвости -- в подсобном хозяйстве
телефонной станции. Нас встретил директор хозяйства Семен Петрович
Сорокоумов, показывал собранную с обработанных ручным трудом пяти гектаров
капусту: "савойскую", и "славу", и "брауншвейгскую" (ее, как "уплотнитель",
сажали позже). С этих гектаров собрано восемьдесят тонн капусты. А всего под
овощами было одиннадцать гектаров, с них собрано сто шестьдесят тонн овощей,
в том числе корнеплодов шестьдесят шесть, картофеля двенадцать тонн. На трех
гектарах вызрели овес и горох, они еще не обмолочены.
Работники хозяйства не только сами питались все лето овощами. Урожаем,
выращенным здесь, обеспечены на зиму все рабочие и служащие Ленинградской
телефонной станции. Каждый из них получает и будет
получать до весны по триста граммов в день. А коллектив станции -- две
тысячи человек, -- значит, всего шестьсот килограммов в день. Кроме того,
много овощей сдано в общий городской фонд.
Весь штат подсобного хозяйства (обслуживающий персонал и охрана)
--шестьдесят пять человек. А во время посевной кампании доходил до девяноста
человек; да было четыре воскресника, на которые, сверх постоянного
персонала, приезжали в среднем по сто человек.
... Идем по полям бригад. Двадцатичетырехлетняя телефонистка Надежда
Ратникова знакомит меня с девушками своей молодежной бригады. Кроме всего
прочего бригада сумела заготовить две тонны и сто двадцать килограммов
дикорастущих трав. Порезали и сдали эту траву -- пойдет рабочим Ленинграда
на котловое питание. Надежда Ратникова была беспартийной, -- здесь, став
бригадиром, вступила в партию...
Проходим дальше -- в бригаду Наталии Сергеевны Трифоненковой. В этой
молодежной бригаде работает девять девушек. Все они телефонистки. В ватных
брюках и куртках, в шапках-ушанках или в теплых платках, они работают
весело, но, видно, очень утомлены. Наташа, увязая в земле по щиколотку в
своих резиновых сапогах, водит нас по грядкам, деловито рассказывает:
-- Спервоначально работаем! У меня в бригаде никто не знал
сельскохозяйственных работ, не знали, как лопату взять в руки. А когда вышли
на поле -- смешно было смотреть. Я одной девушке метр грядки прогоню,
показываю, потом -- другой. Мне-то не трудно, потому что до четырнадцати лет
я на сельскохозяйственной работе была. Берешь рассаду в руки: "Вот так
сажайте, вот так луночку делайте!"
Приехали мы сюда двадцатого мая, все не оборудовано, пустой домик. Сами
питались крапивой, лебедой и по полкило хлеба. Здесь по карточкам не дают, и
в город не побежишь: как сели на крапиву, так до первого июля на ней и
прожили... А сейчас у нас есть столовая, сами хозяйствуем. И у каждой свой
огород, у меня лично на своих двадцати пяти метрах и капуста, и
турнепс, редька, огурцы... Тары вот нет, банок нет -- солить не во что!
Капуста как бы не сгнила... Пробовали даже из свеклы патоку делать.
Получилось! Но только слишком много свеклы надо!
-- А как урожай, хороший?
•-- Располагать, что хороший урожай будет?.. Трудно говорить,
потому что во второй половине июля картошку сажали... А зиму нынешнюю --
можно прожить. Проживем! Только расчетливо надо жить, строго по норме
прибавляя к пайку!..
Мы на минуту заходим в ветхий дачный домишко, в комнату Наташи
Трифоненковой. Опрятно, чисто, стоят три кровати, на подоконниках -- горшки
со зреющими помидорами и с цветами: ноготки, васильки, настурции. В банке
плавает японская золотая рыбка -- вуалехвостка. На туалетной тумбочке
дозревают в ящике кабачки. А на стене карта Советского Союза с воткнутыми
флажками там, где идут бои. А рядом плакат с изображением овощей, надпись:
"Наш долг собрать... " -- и аккуратная колонка цифр.
Садясь в машину, Прозоров говорит:
-- Трифоненкова пользуется большим авторитетом в бригаде!..
Хозяйство строительства No 5
Деревня Янино. Хозяйство Народного комиссариата путей сообщения.
Капуста на полях не убрана. Спутники мои пробирают директора. Тот:
-- Некуда складывать! Снять могу в один день, а нельзя чтобы снятая на
поле лежала.
Прозоров сердится:
-- Снять сегодня же! Завтра пригоню машины. Столько трудов положено,
нельзя допустить, чтобы хоть грамм испортился!
Директор, Петр Петрович Петров -- мужчина здоровый, его краснощекое
лицо налито жизненными соками, как хорошо вызревший помидор, тем более
гладкий, что ни одного волоска на его лысой голове нет -- только усики,
четко подчеркивающие его голубые гла-
за Одет Петров в узковатый для него ватник, кепку носит набекрень, на
догах -- крепкие, словно чугунные сапоги. Он еще не в летах, ему только
сорок три года, а опыт у него большой: работал в домах отдыха в Сиверской и
в колхозах Ярославской области. -- Ты морковку всю отвез?
-- Всю...
И, помолчав, говорит:
Обежал бы с этой работы!
Какой же ты коммунист? Петров смеется:
Так я же и не бегу!.. Но когда клюют и клюют...
За морковку, -- говорит Прозоров, -- я вас занесу на красную доску.
И оборачивается ко мне:
Собрали морковки двадцать две тонны с га. А нормально считалось всегда
десять -- двенадцать. Хороший уход, дали земле все, что нужно -- удобрения
своевременно, прополку, разрыхление... А хозяйства других районов собрали
всего по пять-шесть тонн.
Народ у нас -- ленинградцы! -- усмехается Петров. -- Рабочих пятьдесят
-- пятьдесят два на поле, летом было человек восемьдесят -- девяносто, и все
же это раза в три-четыре меньше, чем надо. По нормам обкома партии (а они
жесткие!) полагалось человек двести. У нас работают девушки, а из мужчин --
всего четыре-пять взрослых, остальные все -- подростки... А девушки кто?
Заводские работницы, в сельском хозяйстве ничего не понимали. Все были
дистрофиками, а сейчас -- одна одной краснее!.. Вот, товарищ Прозоров,
помидоры у нас погибли. Ах, за помидоры я бы убил!.. И положил я на печку, в
белье, всего штук сто...
А почему погибли?
-- Посажены были на песке. А культура -- требовательная. Не хватает
силы удобрить и прополоть!..
... Жежель -- в сером демисезонном пальто, в засаленной рыжей кепке, в
рыжем свитере под пиджаком -- шагает через грядки, направляясь к крепкому
дому конторы. Лицо у него сухое, с горбинкою на но-
су, глаза серые, зоркие... Перешагивает через грядки, наклоняется над
кочнами капусты, тщательно разглядывает каждый кочан.
За Жежелем в плаще и фуражке энергично шагает Иван Пименович Прозоров.
Останавливаются, считают: столько-то овощей направили в город, здесь начиная
с июля давали всем по полкило в день...
-- Поэтому все и здоровые стали такие! -- замечает Петров.
Идем по полям, в лучшую бригаду -- двадцатишестилетней украинки Кати
Ульяновой, беседуем со всеми семью девушками этой бригады о том, как
вручную, брошенными ржавыми финскими серпами они за полтора дня сжали 1, 20
гектара овса, и как по колено в воде на болоте косили сено и собрали его
восемнадцать тонн, и носили к дороге на граблях, на вилах метров за
семьсот... Косили двадцать дней, начиная с 1 августа...
Когда ехали сюда, я с машины увидел холм -- он один торчал
неиспользованный среди бескрайних обработанных полей.
Почему? -- спросил я.
Не хватило рук!..
И Жежель заводит разговор о том, что этот холм надо освоить под зябь.
Половина земли в хозяйстве под зябь уже вспахана -- трактором. А малые
участки -- лошадьми: в хозяйстве есть четыре лошади...
В деревне Куйвора
... И едем мы из деревни Янино в Красную Горку, оттуда в деревню
Куйвора. И я узнаю, что Красногорский сельсовет объединяет двадцать два
подсобных хозяйства, что девять других, находящихся на территории сельсовета
подсобных хозяйств принадлежат госпиталям и управляются военным аппаратом и
что есть еще у сельсовета пять действующих колхозов, в которых работают
старые колхозники, -- только осталось их мало...
Мы устали и голодны. В деревню Куйвора шлепа-
Ли по грязи, осматривали хозяйство Управления культурно-бытового
строительства Ленсовета, которое прежде строило школы, детские дома и сады,
ясли, театры, больницы, а ныне занимается оборонными работами. Один из
прорабов управления -- техник-строитель, ныне директор подсобного хозяйства.
Зовут его Андрей Андреевич Зубенин. Он встречает нас в ватнике, в
гимнастерке с синими петлицами и эмблемой технических войск. Он --
длиннолицый, большеносый, под носом -- реденькие усики, в его волосах
проблескивает сединка, орбиты его глаз глубоки, а большая нижняя губа
•-- оттопырена. У него необычно длинные пальцы рук, с крупными ровными
ногтями.
Он стремился на фронт, но его вызвали в штаб полка, приказали: "Выезжай
заниматься сельским хозяйством, таков приказ партии и правительства".
Возражать он не мог -- выехал. Когда приехал со своими двенадцатью людьми
сюда, здесь в домах и канавах лежали трупы. Трупами было завалено и все
кладбище, -- еще лежал снег.
-- Жизни здесь не было. Постепенно сами очищали, и захоронили сами.
Тридцать восемь трупов я вывез. Не было и дороги к деревне. Не знали мы, где
под снегом дороги, где колодец, -- мертвая деревня была. Тропку единую
проложили и начали тут работать... Когда начали землю пахать, было у нас две
дистрофических лошади, и сами были дистрофиками. Потом трактор нам дали,
пришлось конный плуг приспосабливать к трактору. Смонтировали здесь
колхозно-дождевую установку (КД), до пуска ее приспособили пожарную помпу и
начали поливать все поголовно -- надо было во что бы то ни стало спасти
овощи!
... И вот я на полях хозяйства, беседую с его комендантом -- работающим
здесь фоторепортером ленинградского отделения ТАСС Михаилом Антоновичем
Мицкевичем, который, если надо, и рубит капусту и полет: каждому служащему
хозяйства было задано прополоть двадцать пять соток огородных культур,
независимо от должности.
И -- с вдовой недавно убитого в 81-м гаубичном полку полкового
комиссара Клавдией Михайловной
Селезневой, -- она рабочая в засольном цехе, солит овощи.
И -- со стенографисткой Ниной Васильевной Подушко, украинкой, бывшей
секретаршей начальника управления, а теперь бригадиром засольного цеха. Она
жена сменного инженера Ленинградской городской водопроводной станции. Ее
бригада выполняет норму на сто двадцать процентов: режут бузу для закваски,
вшестером за смену нарезают до трех с половиной тонн -- последнее время на
приспособленной для того соломорезке, а еще недавно -- сечками...
Беседую и с другими людьми: стекольщиком, сторожем Е. А. Смольской, по
образованию техником; с бывшей домохозяйкой, а теперь бригадиром парникового
хозяйства Е. К. Бейдун и с агрономом Н. Ф. Барановым из Пушкинского
сельскохозяйственного института...
Интеллигенция Ленинграда в блокаде достойна имени своего гордого
города!..
В деревне Сельцы
22 октября. Сельцы
За вчерашний день мы объездили и обошли пешком с полдюжины пригородных
хозяйств. Впечатлений и записей у меня много. Оставив Прозорова в подсобном
хозяйстве треста столовых, в Красной Горке, мы прошли сюда вдвоем с Жежелем
последние четыре километра бывшей лесной дорогой, •-- "бывшей" потому,
что весь лес за лето вырублен, торчат только отдельные сосны. И казалось,
что мы одни среди красивых, темных холмов.
Но мы знали: все вокруг насыщено землянками и блиндажами, в которых
живут красноармейцы вновь формируемой 67-й армии, которая включит в свой
состав части Невской оперативной группы и, пополнившись другими частями,
займет ее место на правобережье Невы. О том, что здесь множество землянок и
блиндажей, мы только знали, а заметить в темноте решительно ничего было
нельзя.
Топая по грязи и пробираясь обочинами по мокрой, жухлой траве, по
косогорам, и беседуя о прошлой голодной зиме, из которой оба едва
выкарабкались, мы, предельно усталые, добрели наконец до дома Жежеля и вошли
в его обжитую комнату. Нас встретила жена Н. Г. Жежеля Елена Ивановна --
худощавая, миловидная ленинградка. Она сразу стала кормить нас капустным
супом и жиденькой пшенной кашей.
Проголодав в Ленинграде блокадную зиму, спасая от смерти ребенка и
мужа, который уже не вставал, Елена Ивановна пошла на службу, работала в
Ленинграде милиционером. Поздней весной ее отпустили на работу по
специальности, она стала агрономом подсобного хозяйства треста No 40 и там
добилась перевыполнения плана: вместо двадцати восьми назначенных по плану
гектаров были засеяны все земли хозяйства -- сорок один гектар.
Комната Жежеля и Пантелеевой в колхозной избе чистенькая, оклеенная
синими, дорогими, с серебряными блестками обоями; на полках и столах --
книги, городские вещицы, самовар, патефон. На стенах под потолком сушатся
пучки укропа, сельдерея, ботвы, рябина...
В соседней комнате, где русская печь и на стене коптилка, где на полу
спали три пущенных ею ночевать связиста-красноармейца из дивизии Донскова,
Елена Ивановна застелила мне кровать, положив две чистых простыни, подушку и
одеяло. Я спал, как "дома", которого у меня нет, в тепле и чистоте.
А утром играл с Юрой, -- он оказался забавным, смышленым ребенком,
знающим названия всех овощей. На все вопросы он уверенно отвечает "да", а
когда просит, например, хлеба с маслом и в масле ему отказывают, сокрушенно
повторяет "нет?" и успокоенно ест сухой черный хлеб. Вчера отец привез ему
из города бутерброд с красной икрой. Эту икру он назвал "рябиной", потому
что рябину знает, а икры еще никогда не пробовал.
Зимой он съедал все, что могли достать для него и для себя родители, --
свою еду они отдавали ему.
А сами едва не умерли, когда у них -- в феврале и в марте -- были
украдены продкарточки.
-- Понимаете, были моменты, когда, любя его больше собственной жизни,
отдавая ему последнее, я его почти ненавидел!.. Поймите меня правильно, ведь
это общая наша, ленинградская трагедия! Но все-таки мы выходили его,
смотрите: нормальный ребенок!
Сегодня утром, чтобы составить себе картину работы пригородного
хозяйства треста No 40, я обошел его поля, беседовал со многими бригадирами,
звеньевыми, служащими и рабочими.
Все бригадиры и звеньевые живут между собой в дружбе; чем и как могут,
помогают один другому. Такой же дружбой сплочена с ними Елена Ивановна,
работники хозяйства для нее -- родная семья, все личные дела рабочие идут
решать к ней, -- в этом я убедился вчера же вечером: народ до ночи, как
говорится, валом валил к ней в дом... Сама она день и ночь на полях...
А работать приходится в восемнадцати, а то и в двенадцати километрах от
передовой линии фронта, это только у нас, в Ленинграде, может называться
тылом. Боевая обстановка возникала не раз и здесь.
В то время когда на полях хозяйства рабочие занимались массовой уборкой
урожая, в двенадцати километрах от них, на Неве, шли ожесточенные бои. И
вот, к примеру, над свекловичным полем, где шла массовая уборка урожая, в
воздухе разыгрался бой между десятками самолетов. Это было 30 сентября. На
свекловичном поле работали и бригады с других полей, школьники,
шести-семилетние ребята из детского сада вместе с педагогами, бойцы
батальона выздоравливающих, пришедшие помогать.
Несмотря на стрельбу близких зенитных батарей, на опасность от падающих
осколков, никто, вопреки приказанию, с поля не ушел, кроме детей.
Хозяйство треста No 40 -- на первом месте среди тридцати одного
хозяйства Куйбышевского района. О нем писали в передовице "Ленинградской
правды"; его отмечал в своих приказах Ленгорисполком и благодарил, при
присуждении знамени, П. С. Попков.
Всего в хозяйстве собрано триста с лишком тонн овощей. Сдали
госпоставки и себе оставили часть урожая, которой для полутора тысяч человек
хватит примерно на восемь месяцев... Зима им теперь не страшна!..
Обедал у Н. Г. Жежеля: пшенная "супо-каша", квашеная капуста на второе
и немного вареной картошки -- все, конечно, без масла.
Н. Г. Жежель подсчитал:
Средний урожай с гектара овощей (всяких) в Ленинграде -- восемь тонн.
Заготовлено по Ленинграду примерно пятьдесят шесть -- шестьдесят тысяч тонн.
Выдавать населению будут по триста граммов овощей в день.
Если рассчитывать только на овощи, то их нужно съесть три килограмма в
сутки, чтоб в организм поступило достаточное количество белков и углеводов.
Но ведь, конечно, нужны и жиры. Хуже всего дело обстоит с жирами...
Сейчас -- три часа дня. После обеда у Жежеля покидаю гостеприимных
хозяев, мой курс -- на Ленинград...
Творческая работа
28 октября. Ленинград. "Астория"
Писателями Ленинграда сделано большое дело: вышел (еще 15 сентября
подписан к печати) первый номер иллюстрированного
литературно-художественного журнала "Ленинград".
В условиях блокады создать прекрасно оформленный, отпечатанный на
хорошей бумаге двухнедельник большого формата с тиражом в 15 000
экземпляров!
Уже сам по себе факт этот -- примечательный и удивительный --
демонстрирует величайшее презрение ленинградцев к осаждающим город
гитлеровцам!
Члены редколлегии журнала -- А. Прокофьев, А. Голубева и В. Саянов (он
же -- ответственный секретарь).
В номере рассказы, стихи, статьи, очерки Вс. Вишневского, Н. Тихонова,
А. Прокофьева, В. Шефнера, Н. Брауна, В. Инбер, А. Крона, Е. Рывиной, записи
Б. Лихарева о партизанском крае (где он недавно побывал) и много другого.
В Гослитиздате выпущен 1 -- 2 номер журнала "Звезда", выход которого
блокадная зима прервала только на недолгое время. В "Звезде" почти все те же
знакомые имена, да еще стихи О. Берггольц, В. Лившица, А. Решетова, рассказы
Тоболякова, пьеса М. Тевелева о балтийцах-моряках и статья бригадного
комиссара К. П. Кулика -- начальника Политуправления Ленфронта.
Издательства Ленинграда уже выпустили в этом году и выпускают в
ближайшее время ряд книг наших писателей и поэтов. Это книжки Н. Тихонова,
А. Прокофьева, В. Инбер, О. Берггольц. Это поэма "Ночь накануне бессмертия"
И. Авраменко, это ряд сборников (в которые входят и мои фронтовые очерки) и
многие другие книжки. Сборники, составленные писателями и военными
журналистами, вышли и выходят в отделении Военного издательства, под маркою
ПУЛФ (Политуправления Ленинградского фронта) и в Военно-морском
издательстве.
Вс. Вишневский, В. Азаров и А. Крон пишут на балтийском материале
пьесу, которую будет ставить театр Музыкальной комедии (единственный
работающий сейчас в городе театр), -- премьера этой пьесы1 состоится 7
ноября в помещении Большого драматического театра имени Пушкина.
Писатели и журналисты Ленинграда работают много, энергично, честно и
хорошо. Так же работают и художники.
Первая выставка Союза художников была открыта в самый тяжелый месяц
блокады -- в январе этого года, когда, казалось, жизнь в городе совсем
замерла. Картины и скульптуры, выставленные тогда, казались (да и были на
самом деле) дерзким вызовом всей гитлеровской Германии, рассчитывавшей имен-
[*] 1 "Раскинулось море
широко".
но в то время насмерть удушить голодом наш город. Не было хлеба, по
были эти картины, и они помогали посетителям выставки воспрянуть духом,
согревали души замерзавших, физически обессиленных людей.
В марте выставка была расширена -- многие художники, работавшие в
городе, в военных частях, на Балтике и на Ладоге, в авиации, дали свои новые
полотна. В мае появилось немало картин, посвященных действиям партизан.
На выставке (недавно отправленной в Москву) было представлено сорок два
художника. Репродукции лучших картин недавно выпущены серией открыток. Они
дороги сердцам ленинградцев и раскупаются прямо-таки с восторгом.
Художественные открытки эти лежат сейчас передо мною на столе в
"Астории", и, вглядываясь в них, я знаю: после войны все они станут одной из
самых больших исторических ценностей в музеях нашего города...
Композиторы, музыканты наши работают с такой же, заслуживающей
бессмертного признания энергией, с удивительным, не знаемым прежде людьми
искусства, я бы сказал, -- гордым и мстительным -- вдохновением...
Какой нищетою духа, каким ничтожеством мысли надо обладать, чтобы
рассчитывать, как это делают гитлеровские генералы, сломить, победить и
покорить нас, русских людей, ленинградцев!..
Два слова о бюрократах
Конечно, условия для работы у большинства еще очень трудные...
Трудны они и у меня. Положение с питанием -- скверное. Никаких
"академических", "писательских", "подарочных" и т. п. пайков я не имею
(конечно, только потому, что я -- не прикрепленный никуда "фронтовой
бродяга"!). Почти три месяца, со дня отъезда из редакции армейской газеты
"Ленинский путь", мне в скитаниях моих не выдаются и командирский паек
и обмундирование: не состою в штатах никакой воинской части. ТАСС --
учреждение "гражданское" -- не удосужился схлопотать мне такой паек (как это
для своих спецвоенкоров сделали "Правда", "Красная звезда", "Известия",
"Ленинградская правда" и другие газеты). Особенно далек от всякого
довольствия я теперь, став спецвоенкором всесоюзного ТАСС: ленинградское
отделение ТАСС "обижено" на меня и за мою критику в Москве его работы, и за
нынешнюю независимость от него. Центральное (московское) руководство ТАСС
должно бы действовать через ГлавПУРККА, но оно, конечно, не понимает
истинного положения с питанием в Ленинграде и не знает здешних строжайших
законов, обусловливающих его распределение. Потому мои телеграммы в ТАСС --
безрезультатны. Питаюсь по обычному аттестату (в частях, или по талончикам в
Доме Красной Армии) раз в сутки, да и то обновление аттестата сопряжено с
исключительными трудностями. Когда, особенно в конце каждого месяца, я
предъявляю его в какое-нибудь тыловое АХО, то рискую лишиться его совсем.
"Тассовский корреспондент? А что за воинская часть -- ТАСС? Не воинская? Ну,
пусть там вас и кормят!" -- "Но я же старший командир! В кадрах
ГлавПУРККА!.. " -- "Значит, туда и обращайтесь, а мы при чем?.. "
Чем "тыловее", чем дальше от пуль АХО -- тем холоднее, тем беспощадней
"ахойский" бюрократизм!
Самый страшный бюрократизм я видел в интендантстве Комендантского
управления в Москве. У меня сохранилось командировочное предписание в
Москву. На нем -- двадцать московских штампиков и подписей! Не лучше дело и
в наших городских АХО и, например, Дома Красной Армии.
В передовых частях -- куда проще! Там котловое довольствие, там добрый
армейский котелок, а для гостя -- черпак улыбчивого старшины всегда
размашист!.. Но ведь то -- на "передке", где всякий счет и всякий расчет
ведутся по единому слову все на свете испытавшего боевого командира и совсем
по дру-
гим -- человеколюбивым, товарищеским, фронтовым законам!
Ничего! Когда пойдем вперед на Берлин -- и положение с питанием станет
иным, и многим буквоедским "аховцам" придется тоже трепать подметки! На
победном шаге самый дотошный крючкотвор научится любить и уважать людей!
Все эти дни испытываю чувство голода, -- был сытым только в двухдневной
поездке по пригородным хозяйствам. Не "полагается" мне и зимнего
обмундирования. Нет даже мыла и табака. В "Астории" -- ни отопления, ни
света. С трудом добыл "летучую мышь", но керосин? Пойди-ка добудь его! Да и
некогда заниматься "бытом".
Последнее время чувствую, что от недоедания и холода ослабел физически.
Поднимаюсь по лестницам с трудом, с одышкой. Хожу медленно, останавливаясь.
Но работаю по-прежнему напряженно. За эти дни отправил в ТАСС шесть
больших корреспонденции, пишу брошюру для Политуправления. Сколько еще нужно
сделать!
Настроение наше
Ночь на 29 октября. "Астория"
Обстрелы города -- каждый день. Сильны и часты. Просто скучно о них
записывать. Вчера, когда шел в ДКА, надо мной на улице Чайковского полетели
стекла, снаряд грохнул рядом, другие -- подальше.
Сейчас, ночью, вернувшись в "Асторию", разговаривал с ее
администратором -- молодой еще женщиной, с чуть подкрашенными ресницами.
-- Я иду по лестнице, -- говорила она, -- и песни пою. Меня спрашивают:
"Галина Алексеевна, что вы такая веселая?" А я и сама не знаю. Обстрел идет,
а я иду и песню пою. Раньше я вообще никогда утром не напевала, -- знаете,
говорят, с утра нехорошо петь. Да раньше я вообще такой не была... Жила
хорошо, а плакала часто, от чего только я не плакала! А теперь мне смешно
даже подумать -- теперь я никогда
не плачу. Казалось бы, странно это, ведь я чего только не пережила за
этот год, чего только не испытала! И самое большее, что я потеряла, --
потеряла близкого, самого близкого мне человека... И вообще мне казалось,
что я не переживу всего этого. А теперь я ко всему готова. Думаю: жива я,
чего же мне печалиться? Суждено будет умереть -- умру, а не боюсь я смерти
теперь. Раньше страшно было даже подумать, что могу умереть! Теперь --
ничего не страшно. И какая бы бомбежка или обстрел ни были, я в убежище не
бегу. "Стоит еще беспокоиться! -- думаю -- Утомлять себя!" Вот вчера,
знаете, сильный обстрел был, а я пришла домой после дежурства, разделась,
легла в постель и так сладко заснула! А ведь в начале войны бегала в
убежище, беспокоилась!..
Как изменилось за последнее время настроение ленинградцев! Уже никто не
говорит теперь об угрозе штурма. Я слушал выступления партийных
руководителей и представителей военного командования на больших городских
собраниях, а три дня назад на торжественном вечере в ДКА, посвященном героям
Сталинградского фронта. Не об опасности штурма речь! Наша бдительная
готовность ни на минуту не ослабевает и не должна ослабевать. Военное
обучение в городе продолжается. Но прямая опасность (во всяком случае, на
ближайшее время) схлынула! Все зависит теперь от положения на юге. Там
напряжение -- крайнее!.. Воронеж, Новороссийск, Туапсе, Минеральные воды и
Пятигорск, бои под Моздоком, немцы подбираются к Грозному, углубляются в
Кавказские горы, стремятся к Баку...
А узел событий -- в самом Сталинграде. На город, на Волгу ежедневно
сыплются многие десятки тысяч бомб и снарядов, тысячи танков штурмуют
дымящиеся руины. Но защитники города держатся, прижатые этими окровавленными
руинами к издырявленному берегу кипящей, горящей Волги. И как держатся!..
"За Волгой для нас земли нет!.. "
Замирает сердце мое в каждодневных мыслях об этих людях, в изучении
утренних и вечерних ("... продолжаются упорные бои... ") сводок. Но темп на-
ступления немцев резко снизился. Они продвигаются в сутки уже не на
километры и даже не на сотни метров, а на метры!.. Как и все ленинградцы,
верю: наши воины выстоят!
Не зря в печати промелькнули слова: "Разгромить немцев под
Сталинградом!.. " Что-то новое -- бодрое, обнадеживающее -- чувствуется!..
Не зря в недавнем обращении к ленинградцам по радио защитников Сталинграда
сказано: "В трудный момент перед нами был пример Ленинграда, мы учились у
вас. Ваш великий пример вдохновляет!.. "
Мы сорвали штурм города Ленина. Верю: сорвут и они!.. Мы -- я уже это
знаю -- готовимся к решительному новому наступлению... А они?..
Секретарь горкома партии А. Кузнецов, выступая в филармонии, сказал (я
записал дословно):
-- Враг недавно создал большую группировку из тех дивизий, что
действовали под Севастополем. Но благодаря синявинской операции и действиям
войск Ленинградского фронта -- эта группировка разбита. И недалек тот час,
когда наши войска получат приказ: прорвать кольцо блокады...
Эти слова встречены были овацией.
Три дня назад в большом зале ДКА о том же говорил командир 45-й
гвардейской дивизии полковник А. А. Краснов.
Тонус ленинградцев нынче высок. Гигантскими усилиями готовя свой город
к зиме: заготовляя топливо, заполняя овощами хранилища, заканчивая ремонт
жилищ, -- люди сейчас работают уверенно и спокойно.
Как придирчивый хозяин наблюдает за каждым уголком своего дома, как
врач мерит пульс на руке выздоравливающего больного, так я хочу знать каждый
день все, что делается в моем Ленинграде. Он сейчас -- исполинский, живой
организм, одержимый страстью: встать на обе ноги и, забыв о ранах своих,
размахнуться и уж так отдубасить врага, чтоб тому неповадно было вновь
подкрадываться к нам поволчьи!..
Работа после бомбежки -- расчистка набережной.
слабыми ни были люди, могло совершить этот подвиг гигантского труда.
Этот подвиг ленинградцы совершили. Результаты его всем известны.
И теперь снова политорганизаторы были прикреплены к каждому дому. В
осенней кампании политорганизаторами в числе других стали сто инженеров,
врачей, различных специалистов из технической интеллигенции. Опять пошла
широкая политмассовая работа, выпускались "Боевые листки", в них сообщались
имена и фамилии лучших работников, излагался опыт их работы. Во всех домах
был создан актив из числа жильцов. Все работающие в городе промышленные
предприятия были призваны помогать населению материалами и личным участием
своих специалистов.
Откуда было взять материалы? Фанеру, олифу, краски, кровельное железо,
батареи центрального отопления, смолу, -- да мало ли что еще? Придумывали,
изобретали заменители, брали кое-что из разбомбленных, разбитых артиллерией
домов: проволоку, кирпич, трубы, железо, плиты. Обрабатывали деревянные
перекрытия суперфосфатами, заготовляли дрова, использовали для пропитки
рваные одеяла, мешковину и другие "внутренние ресурсы"... Работали главным
образом женщины, многие никогда прежде не занимались физическим трудом...
Пудов сообщает цифры: план работ выполнен районом на 98, 6 процента.
Четыреста шестьдесят строений отремонтированы. Все крыши починены. За два с
половиной месяца восстановлено 12 873 водопроводных и канализационных
стояка. Их общая протяженность -- сто тридцать километров. Только для
прачечных отремонтировано около тридцати километров труб...
После собрания в зале филармонии был концерт. В нем участвовали
Горин-Горяинов, Исакова, Иордан, Васильев, Пельтцер, Нечаев, Михайлов,
Вениаминов, Чернявская, Легков, Астафьева, Свидерский, Гербек и
Сахновская...
Но Всеволожский район
21 октября. Деревня Янино
На всех площадях, во всех уголках Ленинграда -- огороды, везде кипит
необычная для города сельскохозяйственная работа. По всем улицам Ленинграда
движется транспорт, нагруженный картофелем, капустой и прочими овощами.
Трамваи, грузовики, ручные тележки подвозят этот драгоценный в блокадное
наше время груз к магазинам и складам... Откуда, из каких, не занятых
немцами окрестностей Ленинграда его везут? Кто и как трудится в пригородных
хозяйствах? Как осуществляется руководство огромной заготовительной работой,
происходящей часто под артиллерийским обстрелом и под бомбежками?
Вместе с заведующим райземотделом Куйбышевского района И. П. Прозоровым
и агрономом райзо Н. Г. Жежелем я выехал на грузовике в пригородные
хозяйства, расположенные во Всеволожском районе. Летели "белые мухи" --
первые снежинки наступающей зимы. Мы мчались через Охту к Пороховым и
Колтушской возвышенности, минуя разбираемые на дрова дома (в Ленинграде
разрешено разобрать на дрова пять тысяч деревянных домов!), минуя поля,
огороды -- вязкие, серые, предзимние, уже почти сплошь оголенные. Только
кое-где виднеется отличная, неснятая капуста. Это там, где для нее пока не
нашли хранилищ или транспорта. Но такие клочки полей -- редки.
Прозоров -- седой человек с энергичным, здоровым, исхудалым лицом. Он
семнадцать лет был на военной службе, участвовал как связист в трех войнах
-- империалистической, гражданской и финской.
Жежель -- немолодой, худощавый, как все ленинградцы, спокойный,
внимательный к собеседнику человек. Он старший научный сотрудник
Сельскохозяйственной академии, доцент двух вузов, участник многих
научно-исследовательских экспедиций -- почвенно-ботанических и
геологических. Теперь вместе со своею женой Еленой Ивановной Пантелеевой,
аспирантом Пушкинского сельскохозяйственного институ-
та, и двухлетним ребенком он живет во Всеволожском районе, -- жена его
работает там агрономом в пригородных хозяйствах. Жежеля и его жену давно
зовут в тыл, но они ни за что не хотят оставить Ленинград.
-- Знаете, я избороздил весь Советский Союз, но такого энтузиазма и
таких интенсивных приемов в агротехнике, как у нас в это лето, я нигде
никогда не встречал! А ведь все, чего мы добились, сделано людьми, которые
никогда не касались земли!
Всю дорогу Жежель рассказывал мне о работе в пригородных хозяйствах тех
учреждений, которые расположены в Куйбышевском районе Ленинграда и ныне
подведомственных не представимому в мирное время городскому райземотделу. О
том, как весной и в начале лета служащие городских учреждений, ставшие
рабочими пригородных хозяйств, питались там главным образом лебедой,
одуванчиком, крапивой, корнями лопуха и разными другими травами, и о том,
что из нескольких тысяч человек никто не умер, а теперь, когда овощи
выращены, -- все поправились, стали вполне здоровыми, окрепли физически,
бодры духом...
Хозяйство телефонной станции
Первую остановку мы сделали в деревне Хирвости -- в подсобном хозяйстве
телефонной станции. Нас встретил директор хозяйства Семен Петрович
Сорокоумов, показывал собранную с обработанных ручным трудом пяти гектаров
капусту: "савойскую", и "славу", и "брауншвейгскую" (ее, как "уплотнитель",
сажали позже). С этих гектаров собрано восемьдесят тонн капусты. А всего под
овощами было одиннадцать гектаров, с них собрано сто шестьдесят тонн овощей,
в том числе корнеплодов шестьдесят шесть, картофеля двенадцать тонн. На трех
гектарах вызрели овес и горох, они еще не обмолочены.
Работники хозяйства не только сами питались все лето овощами. Урожаем,
выращенным здесь, обеспечены на зиму все рабочие и служащие Ленинградской
телефонной станции. Каждый из них получает и будет
получать до весны по триста граммов в день. А коллектив станции -- две
тысячи человек, -- значит, всего шестьсот килограммов в день. Кроме того,
много овощей сдано в общий городской фонд.
Весь штат подсобного хозяйства (обслуживающий персонал и охрана)
--шестьдесят пять человек. А во время посевной кампании доходил до девяноста
человек; да было четыре воскресника, на которые, сверх постоянного
персонала, приезжали в среднем по сто человек.
... Идем по полям бригад. Двадцатичетырехлетняя телефонистка Надежда
Ратникова знакомит меня с девушками своей молодежной бригады. Кроме всего
прочего бригада сумела заготовить две тонны и сто двадцать килограммов
дикорастущих трав. Порезали и сдали эту траву -- пойдет рабочим Ленинграда
на котловое питание. Надежда Ратникова была беспартийной, -- здесь, став
бригадиром, вступила в партию...
Проходим дальше -- в бригаду Наталии Сергеевны Трифоненковой. В этой
молодежной бригаде работает девять девушек. Все они телефонистки. В ватных
брюках и куртках, в шапках-ушанках или в теплых платках, они работают
весело, но, видно, очень утомлены. Наташа, увязая в земле по щиколотку в
своих резиновых сапогах, водит нас по грядкам, деловито рассказывает:
-- Спервоначально работаем! У меня в бригаде никто не знал
сельскохозяйственных работ, не знали, как лопату взять в руки. А когда вышли
на поле -- смешно было смотреть. Я одной девушке метр грядки прогоню,
показываю, потом -- другой. Мне-то не трудно, потому что до четырнадцати лет
я на сельскохозяйственной работе была. Берешь рассаду в руки: "Вот так
сажайте, вот так луночку делайте!"
Приехали мы сюда двадцатого мая, все не оборудовано, пустой домик. Сами
питались крапивой, лебедой и по полкило хлеба. Здесь по карточкам не дают, и
в город не побежишь: как сели на крапиву, так до первого июля на ней и
прожили... А сейчас у нас есть столовая, сами хозяйствуем. И у каждой свой
огород, у меня лично на своих двадцати пяти метрах и капуста, и
турнепс, редька, огурцы... Тары вот нет, банок нет -- солить не во что!
Капуста как бы не сгнила... Пробовали даже из свеклы патоку делать.
Получилось! Но только слишком много свеклы надо!
-- А как урожай, хороший?
•-- Располагать, что хороший урожай будет?.. Трудно говорить,
потому что во второй половине июля картошку сажали... А зиму нынешнюю --
можно прожить. Проживем! Только расчетливо надо жить, строго по норме
прибавляя к пайку!..
Мы на минуту заходим в ветхий дачный домишко, в комнату Наташи
Трифоненковой. Опрятно, чисто, стоят три кровати, на подоконниках -- горшки
со зреющими помидорами и с цветами: ноготки, васильки, настурции. В банке
плавает японская золотая рыбка -- вуалехвостка. На туалетной тумбочке
дозревают в ящике кабачки. А на стене карта Советского Союза с воткнутыми
флажками там, где идут бои. А рядом плакат с изображением овощей, надпись:
"Наш долг собрать... " -- и аккуратная колонка цифр.
Садясь в машину, Прозоров говорит:
-- Трифоненкова пользуется большим авторитетом в бригаде!..
Хозяйство строительства No 5
Деревня Янино. Хозяйство Народного комиссариата путей сообщения.
Капуста на полях не убрана. Спутники мои пробирают директора. Тот:
-- Некуда складывать! Снять могу в один день, а нельзя чтобы снятая на
поле лежала.
Прозоров сердится:
-- Снять сегодня же! Завтра пригоню машины. Столько трудов положено,
нельзя допустить, чтобы хоть грамм испортился!
Директор, Петр Петрович Петров -- мужчина здоровый, его краснощекое
лицо налито жизненными соками, как хорошо вызревший помидор, тем более
гладкий, что ни одного волоска на его лысой голове нет -- только усики,
четко подчеркивающие его голубые гла-
за Одет Петров в узковатый для него ватник, кепку носит набекрень, на
догах -- крепкие, словно чугунные сапоги. Он еще не в летах, ему только
сорок три года, а опыт у него большой: работал в домах отдыха в Сиверской и
в колхозах Ярославской области. -- Ты морковку всю отвез?
-- Всю...
И, помолчав, говорит:
Обежал бы с этой работы!
Какой же ты коммунист? Петров смеется:
Так я же и не бегу!.. Но когда клюют и клюют...
За морковку, -- говорит Прозоров, -- я вас занесу на красную доску.
И оборачивается ко мне:
Собрали морковки двадцать две тонны с га. А нормально считалось всегда
десять -- двенадцать. Хороший уход, дали земле все, что нужно -- удобрения
своевременно, прополку, разрыхление... А хозяйства других районов собрали
всего по пять-шесть тонн.
Народ у нас -- ленинградцы! -- усмехается Петров. -- Рабочих пятьдесят
-- пятьдесят два на поле, летом было человек восемьдесят -- девяносто, и все
же это раза в три-четыре меньше, чем надо. По нормам обкома партии (а они
жесткие!) полагалось человек двести. У нас работают девушки, а из мужчин --
всего четыре-пять взрослых, остальные все -- подростки... А девушки кто?
Заводские работницы, в сельском хозяйстве ничего не понимали. Все были
дистрофиками, а сейчас -- одна одной краснее!.. Вот, товарищ Прозоров,
помидоры у нас погибли. Ах, за помидоры я бы убил!.. И положил я на печку, в
белье, всего штук сто...
А почему погибли?
-- Посажены были на песке. А культура -- требовательная. Не хватает
силы удобрить и прополоть!..
... Жежель -- в сером демисезонном пальто, в засаленной рыжей кепке, в
рыжем свитере под пиджаком -- шагает через грядки, направляясь к крепкому
дому конторы. Лицо у него сухое, с горбинкою на но-
су, глаза серые, зоркие... Перешагивает через грядки, наклоняется над
кочнами капусты, тщательно разглядывает каждый кочан.
За Жежелем в плаще и фуражке энергично шагает Иван Пименович Прозоров.
Останавливаются, считают: столько-то овощей направили в город, здесь начиная
с июля давали всем по полкило в день...
-- Поэтому все и здоровые стали такие! -- замечает Петров.
Идем по полям, в лучшую бригаду -- двадцатишестилетней украинки Кати
Ульяновой, беседуем со всеми семью девушками этой бригады о том, как
вручную, брошенными ржавыми финскими серпами они за полтора дня сжали 1, 20
гектара овса, и как по колено в воде на болоте косили сено и собрали его
восемнадцать тонн, и носили к дороге на граблях, на вилах метров за
семьсот... Косили двадцать дней, начиная с 1 августа...
Когда ехали сюда, я с машины увидел холм -- он один торчал
неиспользованный среди бескрайних обработанных полей.
Почему? -- спросил я.
Не хватило рук!..
И Жежель заводит разговор о том, что этот холм надо освоить под зябь.
Половина земли в хозяйстве под зябь уже вспахана -- трактором. А малые
участки -- лошадьми: в хозяйстве есть четыре лошади...
В деревне Куйвора
... И едем мы из деревни Янино в Красную Горку, оттуда в деревню
Куйвора. И я узнаю, что Красногорский сельсовет объединяет двадцать два
подсобных хозяйства, что девять других, находящихся на территории сельсовета
подсобных хозяйств принадлежат госпиталям и управляются военным аппаратом и
что есть еще у сельсовета пять действующих колхозов, в которых работают
старые колхозники, -- только осталось их мало...
Мы устали и голодны. В деревню Куйвора шлепа-
Ли по грязи, осматривали хозяйство Управления культурно-бытового
строительства Ленсовета, которое прежде строило школы, детские дома и сады,
ясли, театры, больницы, а ныне занимается оборонными работами. Один из
прорабов управления -- техник-строитель, ныне директор подсобного хозяйства.
Зовут его Андрей Андреевич Зубенин. Он встречает нас в ватнике, в
гимнастерке с синими петлицами и эмблемой технических войск. Он --
длиннолицый, большеносый, под носом -- реденькие усики, в его волосах
проблескивает сединка, орбиты его глаз глубоки, а большая нижняя губа
•-- оттопырена. У него необычно длинные пальцы рук, с крупными ровными
ногтями.
Он стремился на фронт, но его вызвали в штаб полка, приказали: "Выезжай
заниматься сельским хозяйством, таков приказ партии и правительства".
Возражать он не мог -- выехал. Когда приехал со своими двенадцатью людьми
сюда, здесь в домах и канавах лежали трупы. Трупами было завалено и все
кладбище, -- еще лежал снег.
-- Жизни здесь не было. Постепенно сами очищали, и захоронили сами.
Тридцать восемь трупов я вывез. Не было и дороги к деревне. Не знали мы, где
под снегом дороги, где колодец, -- мертвая деревня была. Тропку единую
проложили и начали тут работать... Когда начали землю пахать, было у нас две
дистрофических лошади, и сами были дистрофиками. Потом трактор нам дали,
пришлось конный плуг приспосабливать к трактору. Смонтировали здесь
колхозно-дождевую установку (КД), до пуска ее приспособили пожарную помпу и
начали поливать все поголовно -- надо было во что бы то ни стало спасти
овощи!
... И вот я на полях хозяйства, беседую с его комендантом -- работающим
здесь фоторепортером ленинградского отделения ТАСС Михаилом Антоновичем
Мицкевичем, который, если надо, и рубит капусту и полет: каждому служащему
хозяйства было задано прополоть двадцать пять соток огородных культур,
независимо от должности.
И -- с вдовой недавно убитого в 81-м гаубичном полку полкового
комиссара Клавдией Михайловной
Селезневой, -- она рабочая в засольном цехе, солит овощи.
И -- со стенографисткой Ниной Васильевной Подушко, украинкой, бывшей
секретаршей начальника управления, а теперь бригадиром засольного цеха. Она
жена сменного инженера Ленинградской городской водопроводной станции. Ее
бригада выполняет норму на сто двадцать процентов: режут бузу для закваски,
вшестером за смену нарезают до трех с половиной тонн -- последнее время на
приспособленной для того соломорезке, а еще недавно -- сечками...
Беседую и с другими людьми: стекольщиком, сторожем Е. А. Смольской, по
образованию техником; с бывшей домохозяйкой, а теперь бригадиром парникового
хозяйства Е. К. Бейдун и с агрономом Н. Ф. Барановым из Пушкинского
сельскохозяйственного института...
Интеллигенция Ленинграда в блокаде достойна имени своего гордого
города!..
В деревне Сельцы
22 октября. Сельцы
За вчерашний день мы объездили и обошли пешком с полдюжины пригородных
хозяйств. Впечатлений и записей у меня много. Оставив Прозорова в подсобном
хозяйстве треста столовых, в Красной Горке, мы прошли сюда вдвоем с Жежелем
последние четыре километра бывшей лесной дорогой, •-- "бывшей" потому,
что весь лес за лето вырублен, торчат только отдельные сосны. И казалось,
что мы одни среди красивых, темных холмов.
Но мы знали: все вокруг насыщено землянками и блиндажами, в которых
живут красноармейцы вновь формируемой 67-й армии, которая включит в свой
состав части Невской оперативной группы и, пополнившись другими частями,
займет ее место на правобережье Невы. О том, что здесь множество землянок и
блиндажей, мы только знали, а заметить в темноте решительно ничего было
нельзя.
Топая по грязи и пробираясь обочинами по мокрой, жухлой траве, по
косогорам, и беседуя о прошлой голодной зиме, из которой оба едва
выкарабкались, мы, предельно усталые, добрели наконец до дома Жежеля и вошли
в его обжитую комнату. Нас встретила жена Н. Г. Жежеля Елена Ивановна --
худощавая, миловидная ленинградка. Она сразу стала кормить нас капустным
супом и жиденькой пшенной кашей.
Проголодав в Ленинграде блокадную зиму, спасая от смерти ребенка и
мужа, который уже не вставал, Елена Ивановна пошла на службу, работала в
Ленинграде милиционером. Поздней весной ее отпустили на работу по
специальности, она стала агрономом подсобного хозяйства треста No 40 и там
добилась перевыполнения плана: вместо двадцати восьми назначенных по плану
гектаров были засеяны все земли хозяйства -- сорок один гектар.
Комната Жежеля и Пантелеевой в колхозной избе чистенькая, оклеенная
синими, дорогими, с серебряными блестками обоями; на полках и столах --
книги, городские вещицы, самовар, патефон. На стенах под потолком сушатся
пучки укропа, сельдерея, ботвы, рябина...
В соседней комнате, где русская печь и на стене коптилка, где на полу
спали три пущенных ею ночевать связиста-красноармейца из дивизии Донскова,
Елена Ивановна застелила мне кровать, положив две чистых простыни, подушку и
одеяло. Я спал, как "дома", которого у меня нет, в тепле и чистоте.
А утром играл с Юрой, -- он оказался забавным, смышленым ребенком,
знающим названия всех овощей. На все вопросы он уверенно отвечает "да", а
когда просит, например, хлеба с маслом и в масле ему отказывают, сокрушенно
повторяет "нет?" и успокоенно ест сухой черный хлеб. Вчера отец привез ему
из города бутерброд с красной икрой. Эту икру он назвал "рябиной", потому
что рябину знает, а икры еще никогда не пробовал.
Зимой он съедал все, что могли достать для него и для себя родители, --
свою еду они отдавали ему.
А сами едва не умерли, когда у них -- в феврале и в марте -- были
украдены продкарточки.
-- Понимаете, были моменты, когда, любя его больше собственной жизни,
отдавая ему последнее, я его почти ненавидел!.. Поймите меня правильно, ведь
это общая наша, ленинградская трагедия! Но все-таки мы выходили его,
смотрите: нормальный ребенок!
Сегодня утром, чтобы составить себе картину работы пригородного
хозяйства треста No 40, я обошел его поля, беседовал со многими бригадирами,
звеньевыми, служащими и рабочими.
Все бригадиры и звеньевые живут между собой в дружбе; чем и как могут,
помогают один другому. Такой же дружбой сплочена с ними Елена Ивановна,
работники хозяйства для нее -- родная семья, все личные дела рабочие идут
решать к ней, -- в этом я убедился вчера же вечером: народ до ночи, как
говорится, валом валил к ней в дом... Сама она день и ночь на полях...
А работать приходится в восемнадцати, а то и в двенадцати километрах от
передовой линии фронта, это только у нас, в Ленинграде, может называться
тылом. Боевая обстановка возникала не раз и здесь.
В то время когда на полях хозяйства рабочие занимались массовой уборкой
урожая, в двенадцати километрах от них, на Неве, шли ожесточенные бои. И
вот, к примеру, над свекловичным полем, где шла массовая уборка урожая, в
воздухе разыгрался бой между десятками самолетов. Это было 30 сентября. На
свекловичном поле работали и бригады с других полей, школьники,
шести-семилетние ребята из детского сада вместе с педагогами, бойцы
батальона выздоравливающих, пришедшие помогать.
Несмотря на стрельбу близких зенитных батарей, на опасность от падающих
осколков, никто, вопреки приказанию, с поля не ушел, кроме детей.
Хозяйство треста No 40 -- на первом месте среди тридцати одного
хозяйства Куйбышевского района. О нем писали в передовице "Ленинградской
правды"; его отмечал в своих приказах Ленгорисполком и благодарил, при
присуждении знамени, П. С. Попков.
Всего в хозяйстве собрано триста с лишком тонн овощей. Сдали
госпоставки и себе оставили часть урожая, которой для полутора тысяч человек
хватит примерно на восемь месяцев... Зима им теперь не страшна!..
Обедал у Н. Г. Жежеля: пшенная "супо-каша", квашеная капуста на второе
и немного вареной картошки -- все, конечно, без масла.
Н. Г. Жежель подсчитал:
Средний урожай с гектара овощей (всяких) в Ленинграде -- восемь тонн.
Заготовлено по Ленинграду примерно пятьдесят шесть -- шестьдесят тысяч тонн.
Выдавать населению будут по триста граммов овощей в день.
Если рассчитывать только на овощи, то их нужно съесть три килограмма в
сутки, чтоб в организм поступило достаточное количество белков и углеводов.
Но ведь, конечно, нужны и жиры. Хуже всего дело обстоит с жирами...
Сейчас -- три часа дня. После обеда у Жежеля покидаю гостеприимных
хозяев, мой курс -- на Ленинград...
Творческая работа
28 октября. Ленинград. "Астория"
Писателями Ленинграда сделано большое дело: вышел (еще 15 сентября
подписан к печати) первый номер иллюстрированного
литературно-художественного журнала "Ленинград".
В условиях блокады создать прекрасно оформленный, отпечатанный на
хорошей бумаге двухнедельник большого формата с тиражом в 15 000
экземпляров!
Уже сам по себе факт этот -- примечательный и удивительный --
демонстрирует величайшее презрение ленинградцев к осаждающим город
гитлеровцам!
Члены редколлегии журнала -- А. Прокофьев, А. Голубева и В. Саянов (он
же -- ответственный секретарь).
В номере рассказы, стихи, статьи, очерки Вс. Вишневского, Н. Тихонова,
А. Прокофьева, В. Шефнера, Н. Брауна, В. Инбер, А. Крона, Е. Рывиной, записи
Б. Лихарева о партизанском крае (где он недавно побывал) и много другого.
В Гослитиздате выпущен 1 -- 2 номер журнала "Звезда", выход которого
блокадная зима прервала только на недолгое время. В "Звезде" почти все те же
знакомые имена, да еще стихи О. Берггольц, В. Лившица, А. Решетова, рассказы
Тоболякова, пьеса М. Тевелева о балтийцах-моряках и статья бригадного
комиссара К. П. Кулика -- начальника Политуправления Ленфронта.
Издательства Ленинграда уже выпустили в этом году и выпускают в
ближайшее время ряд книг наших писателей и поэтов. Это книжки Н. Тихонова,
А. Прокофьева, В. Инбер, О. Берггольц. Это поэма "Ночь накануне бессмертия"
И. Авраменко, это ряд сборников (в которые входят и мои фронтовые очерки) и
многие другие книжки. Сборники, составленные писателями и военными
журналистами, вышли и выходят в отделении Военного издательства, под маркою
ПУЛФ (Политуправления Ленинградского фронта) и в Военно-морском
издательстве.
Вс. Вишневский, В. Азаров и А. Крон пишут на балтийском материале
пьесу, которую будет ставить театр Музыкальной комедии (единственный
работающий сейчас в городе театр), -- премьера этой пьесы1 состоится 7
ноября в помещении Большого драматического театра имени Пушкина.
Писатели и журналисты Ленинграда работают много, энергично, честно и
хорошо. Так же работают и художники.
Первая выставка Союза художников была открыта в самый тяжелый месяц
блокады -- в январе этого года, когда, казалось, жизнь в городе совсем
замерла. Картины и скульптуры, выставленные тогда, казались (да и были на
самом деле) дерзким вызовом всей гитлеровской Германии, рассчитывавшей имен-
[*] 1 "Раскинулось море
широко".
но в то время насмерть удушить голодом наш город. Не было хлеба, по
были эти картины, и они помогали посетителям выставки воспрянуть духом,
согревали души замерзавших, физически обессиленных людей.
В марте выставка была расширена -- многие художники, работавшие в
городе, в военных частях, на Балтике и на Ладоге, в авиации, дали свои новые
полотна. В мае появилось немало картин, посвященных действиям партизан.
На выставке (недавно отправленной в Москву) было представлено сорок два
художника. Репродукции лучших картин недавно выпущены серией открыток. Они
дороги сердцам ленинградцев и раскупаются прямо-таки с восторгом.
Художественные открытки эти лежат сейчас передо мною на столе в
"Астории", и, вглядываясь в них, я знаю: после войны все они станут одной из
самых больших исторических ценностей в музеях нашего города...
Композиторы, музыканты наши работают с такой же, заслуживающей
бессмертного признания энергией, с удивительным, не знаемым прежде людьми
искусства, я бы сказал, -- гордым и мстительным -- вдохновением...
Какой нищетою духа, каким ничтожеством мысли надо обладать, чтобы
рассчитывать, как это делают гитлеровские генералы, сломить, победить и
покорить нас, русских людей, ленинградцев!..
Два слова о бюрократах
Конечно, условия для работы у большинства еще очень трудные...
Трудны они и у меня. Положение с питанием -- скверное. Никаких
"академических", "писательских", "подарочных" и т. п. пайков я не имею
(конечно, только потому, что я -- не прикрепленный никуда "фронтовой
бродяга"!). Почти три месяца, со дня отъезда из редакции армейской газеты
"Ленинский путь", мне в скитаниях моих не выдаются и командирский паек
и обмундирование: не состою в штатах никакой воинской части. ТАСС --
учреждение "гражданское" -- не удосужился схлопотать мне такой паек (как это
для своих спецвоенкоров сделали "Правда", "Красная звезда", "Известия",
"Ленинградская правда" и другие газеты). Особенно далек от всякого
довольствия я теперь, став спецвоенкором всесоюзного ТАСС: ленинградское
отделение ТАСС "обижено" на меня и за мою критику в Москве его работы, и за
нынешнюю независимость от него. Центральное (московское) руководство ТАСС
должно бы действовать через ГлавПУРККА, но оно, конечно, не понимает
истинного положения с питанием в Ленинграде и не знает здешних строжайших
законов, обусловливающих его распределение. Потому мои телеграммы в ТАСС --
безрезультатны. Питаюсь по обычному аттестату (в частях, или по талончикам в
Доме Красной Армии) раз в сутки, да и то обновление аттестата сопряжено с
исключительными трудностями. Когда, особенно в конце каждого месяца, я
предъявляю его в какое-нибудь тыловое АХО, то рискую лишиться его совсем.
"Тассовский корреспондент? А что за воинская часть -- ТАСС? Не воинская? Ну,
пусть там вас и кормят!" -- "Но я же старший командир! В кадрах
ГлавПУРККА!.. " -- "Значит, туда и обращайтесь, а мы при чем?.. "
Чем "тыловее", чем дальше от пуль АХО -- тем холоднее, тем беспощадней
"ахойский" бюрократизм!
Самый страшный бюрократизм я видел в интендантстве Комендантского
управления в Москве. У меня сохранилось командировочное предписание в
Москву. На нем -- двадцать московских штампиков и подписей! Не лучше дело и
в наших городских АХО и, например, Дома Красной Армии.
В передовых частях -- куда проще! Там котловое довольствие, там добрый
армейский котелок, а для гостя -- черпак улыбчивого старшины всегда
размашист!.. Но ведь то -- на "передке", где всякий счет и всякий расчет
ведутся по единому слову все на свете испытавшего боевого командира и совсем
по дру-
гим -- человеколюбивым, товарищеским, фронтовым законам!
Ничего! Когда пойдем вперед на Берлин -- и положение с питанием станет
иным, и многим буквоедским "аховцам" придется тоже трепать подметки! На
победном шаге самый дотошный крючкотвор научится любить и уважать людей!
Все эти дни испытываю чувство голода, -- был сытым только в двухдневной
поездке по пригородным хозяйствам. Не "полагается" мне и зимнего
обмундирования. Нет даже мыла и табака. В "Астории" -- ни отопления, ни
света. С трудом добыл "летучую мышь", но керосин? Пойди-ка добудь его! Да и
некогда заниматься "бытом".
Последнее время чувствую, что от недоедания и холода ослабел физически.
Поднимаюсь по лестницам с трудом, с одышкой. Хожу медленно, останавливаясь.
Но работаю по-прежнему напряженно. За эти дни отправил в ТАСС шесть
больших корреспонденции, пишу брошюру для Политуправления. Сколько еще нужно
сделать!
Настроение наше
Ночь на 29 октября. "Астория"
Обстрелы города -- каждый день. Сильны и часты. Просто скучно о них
записывать. Вчера, когда шел в ДКА, надо мной на улице Чайковского полетели
стекла, снаряд грохнул рядом, другие -- подальше.
Сейчас, ночью, вернувшись в "Асторию", разговаривал с ее
администратором -- молодой еще женщиной, с чуть подкрашенными ресницами.
-- Я иду по лестнице, -- говорила она, -- и песни пою. Меня спрашивают:
"Галина Алексеевна, что вы такая веселая?" А я и сама не знаю. Обстрел идет,
а я иду и песню пою. Раньше я вообще никогда утром не напевала, -- знаете,
говорят, с утра нехорошо петь. Да раньше я вообще такой не была... Жила
хорошо, а плакала часто, от чего только я не плакала! А теперь мне смешно
даже подумать -- теперь я никогда
не плачу. Казалось бы, странно это, ведь я чего только не пережила за
этот год, чего только не испытала! И самое большее, что я потеряла, --
потеряла близкого, самого близкого мне человека... И вообще мне казалось,
что я не переживу всего этого. А теперь я ко всему готова. Думаю: жива я,
чего же мне печалиться? Суждено будет умереть -- умру, а не боюсь я смерти
теперь. Раньше страшно было даже подумать, что могу умереть! Теперь --
ничего не страшно. И какая бы бомбежка или обстрел ни были, я в убежище не
бегу. "Стоит еще беспокоиться! -- думаю -- Утомлять себя!" Вот вчера,
знаете, сильный обстрел был, а я пришла домой после дежурства, разделась,
легла в постель и так сладко заснула! А ведь в начале войны бегала в
убежище, беспокоилась!..
Как изменилось за последнее время настроение ленинградцев! Уже никто не
говорит теперь об угрозе штурма. Я слушал выступления партийных
руководителей и представителей военного командования на больших городских
собраниях, а три дня назад на торжественном вечере в ДКА, посвященном героям
Сталинградского фронта. Не об опасности штурма речь! Наша бдительная
готовность ни на минуту не ослабевает и не должна ослабевать. Военное
обучение в городе продолжается. Но прямая опасность (во всяком случае, на
ближайшее время) схлынула! Все зависит теперь от положения на юге. Там
напряжение -- крайнее!.. Воронеж, Новороссийск, Туапсе, Минеральные воды и
Пятигорск, бои под Моздоком, немцы подбираются к Грозному, углубляются в
Кавказские горы, стремятся к Баку...
А узел событий -- в самом Сталинграде. На город, на Волгу ежедневно
сыплются многие десятки тысяч бомб и снарядов, тысячи танков штурмуют
дымящиеся руины. Но защитники города держатся, прижатые этими окровавленными
руинами к издырявленному берегу кипящей, горящей Волги. И как держатся!..
"За Волгой для нас земли нет!.. "
Замирает сердце мое в каждодневных мыслях об этих людях, в изучении
утренних и вечерних ("... продолжаются упорные бои... ") сводок. Но темп на-
ступления немцев резко снизился. Они продвигаются в сутки уже не на
километры и даже не на сотни метров, а на метры!.. Как и все ленинградцы,
верю: наши воины выстоят!
Не зря в печати промелькнули слова: "Разгромить немцев под
Сталинградом!.. " Что-то новое -- бодрое, обнадеживающее -- чувствуется!..
Не зря в недавнем обращении к ленинградцам по радио защитников Сталинграда
сказано: "В трудный момент перед нами был пример Ленинграда, мы учились у
вас. Ваш великий пример вдохновляет!.. "
Мы сорвали штурм города Ленина. Верю: сорвут и они!.. Мы -- я уже это
знаю -- готовимся к решительному новому наступлению... А они?..
Секретарь горкома партии А. Кузнецов, выступая в филармонии, сказал (я
записал дословно):
-- Враг недавно создал большую группировку из тех дивизий, что
действовали под Севастополем. Но благодаря синявинской операции и действиям
войск Ленинградского фронта -- эта группировка разбита. И недалек тот час,
когда наши войска получат приказ: прорвать кольцо блокады...
Эти слова встречены были овацией.
Три дня назад в большом зале ДКА о том же говорил командир 45-й
гвардейской дивизии полковник А. А. Краснов.
Тонус ленинградцев нынче высок. Гигантскими усилиями готовя свой город
к зиме: заготовляя топливо, заполняя овощами хранилища, заканчивая ремонт
жилищ, -- люди сейчас работают уверенно и спокойно.
Как придирчивый хозяин наблюдает за каждым уголком своего дома, как
врач мерит пульс на руке выздоравливающего больного, так я хочу знать каждый
день все, что делается в моем Ленинграде. Он сейчас -- исполинский, живой
организм, одержимый страстью: встать на обе ноги и, забыв о ранах своих,
размахнуться и уж так отдубасить врага, чтоб тому неповадно было вновь
подкрадываться к нам поволчьи!..
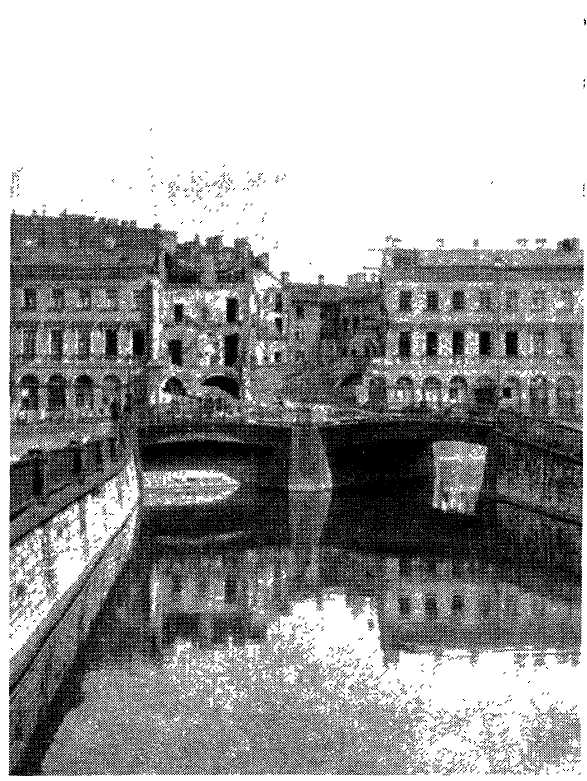 На Мойке после бомбежки.
ря 15 тысяч вражеских солдат и офицеров жизнью своей расплатились за
преступную авантюру. 12 тысяч взято в плен. Нарушена связь вражеских частей,
утрачено единство управления. Три дивизии, вместе со штабами своими, вместе
с генералами, взяты в плен. Брошенные врагом во время отступления и
захваченные нашими частями орудия, танки, автомашины, винтовки, автоматы
составляют целый арсенал -- 1164 орудия, 431 танк, 3 миллиона снарядов, 18
миллионов патронов и т. д. Нашими войсками заняты многие города и населенные
пункты...
И еще радость: учреждаются медали за оборону четырех городов --
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда. Английская газета "Ивнинг
ньюс" пишет: "В течение полутора отчаянных лет Красная Армия вынуждена была
выдерживать натиск лавины вражеских войск. Никогда в истории ни одна армия
не сражалась с таким хладнокровием и стойкостью, с таким непревзойденным
мастерством, с такой неослабевающей мощью... " И дальше: "Давайте искренне
признаем, что, не будь подвигов Красной Армии, судьба свободных народов была
бы поистине мрачной.. "
Наша взяла!
... Я решил с утра выехать в 55-ю армию, чтоб осуществить давнее свое
желание: познакомиться с теми нашими артиллеристами, которые ведут
контрбатарейную борьбу, уничтожая дальнобойные орудия оголтелых гитлеровцев,
яростно обстреливающих Ленинград. Надо все узнать, увидеть своими глазами!..
Но мне хочется привести здесь еще один эпизод, который я записал ночью,
перед отъездом...
Ленинградской ночью
Ночь на 26 ноября
Я шел в ДКА из "Астории".
Время близилось к полуночи, и Ленинград был пуст. В прорыве туч
показалась луна, залила призрачным светом снежную улицу, перекресток, руины
огромного, давно разъятого бомбой дома.
За разбитой стеною мне почудились голоса. Я приостановился,
прислушался, тихо подошел ближе. Сомнения быть не могло: в хаосе кирпичей
разговаривали двое мужчин.
Это было странно и подозрительно. Осажденный город... Пустые улицы...
Кто и зачем может скрываться ночью в холодных развалинах?.. Расстегнув
кобуру пистолета, я тихо встал в проломе разбитой стены. Разговаривающие
теперь были где-то рядом со мною, но я их не видел. Завывание ветра мешало
мне расслышать слова.
Я подкрался еще ближе. Один сказал громко:
Ну, что, скоро ли?
Пора! -- ответил другой.
Л может, не будет? -- Будет наверняка...
И замолчали. Я был готов ко всему. Они опять тихо заговорили, и на этот
раз я, конечно, расслышал бы их слова, но тут на весь тихий и пустынный
квартал раскатился голос громкоговорителя, прикрепленного на одном из углов
перекрестка:
"В последний час... Наступление наших войск продолжается... "
Не спуская глаз с тех руин, где скрывались двое мужчин, я прослушал
новые, еще более радостные и волнующие известия о наших прекрасных делах на
юге. Те двое также, должно быть, слушали.
Радио умолкло, и я услышал восклицание одного из них:
Замечательно! Пятьдесят одна тысяча пленных!.. А ты не хотел вылезать
из постели. Праздникто, сынок, и на нашей улице начинается!
Папа! Это -- цветочки, ягодки впереди... А насчет постели... Да я бы
сейчас туда хоть пешком!
Ну-ну... И в Ленинграде нынче неплохо! Пойдем-ка лучше до дому,
спать!..
Прямо на меня из руин вышли бородатый старик в меховой шубе и парень в
ватнике. Оба, испуганные, остановились...
Все дальнейшее можно объяснить в двух словах. Старик оказался учителем
музыки Иваном Сергееви-
своими 152-миллиметровыми гаубицами они ведут контрбатарейную борьбу с
тяжелыми орудиями гитлеровцев, обстреливающими Ленинград. А кроме того,
уничтожают все другие огневые средства врага; бьют по любой цели -- по
обнаруженным разведкой ротам гитлеровцев на марше, по их штабам и
наблюдательным пунктам, по их железнодорожным составам, автомашинам,
повозкам. Артиллеристы, особенно разведчики-наблюдатели, завели у себя
хороший обычай: выходят по двое, по трое на передний край, в боевые порядки
пехоты, и даже в нейтральную полосу, выкапывают себе ячейки; часами
выслеживают с помощью перископов и стереотруб гитлеровцев и истребляют их из
винтовок.
Полк еще недавно, до марта этого года, назывался 101-м гaп. Свою
историю он ведет с 1927 года. В 1936 году, на Первых всеармейских
состязаниях, он занял лучшее место в военном округе. В войне с белофиннами,
круша в упор железобетонные доты, проламывая линию Маннергейма, полк стал
Краснознаменным. Отечественная война застала его за Выборгом, там вел он
оборонительные бои, потом долго и мучительно, уничтожив по приказу
командования свою технику, выходил из окружения. Сформированный заново,
опять вел упорные бои сначала под Урицком, позже на одном из самых опасных и
трудных участков обороны -- у Невской Дубровки, против левого берега Невы,
где нами был создан плацдарм для будущего прорыва блокады -- знаменитый
героизмом наших десантников и уже не раз описанный мною "пятачок", принявший
в свою землю много русской крови...
В этом году полк слал гитлеровцам снаряды из района Автова, а затем
перешел сюда, на участок Колпина и Ижор.
Полк держит под огнем полукружие фронта гитлеровцев от устья притока
Невы -- реки Тосны у села Ивановского до лесов Красного Бора и далее к
югозападу, до Пушкина и Павловска.
Восточную часть этого полукружия по реке Тосне занимает фашистская
полицейская дивизия СС; правее по фронту расположена 250-я испанская
"голубая
дивизия", сменившая недавно 121-ю немецкую пехотную дивизию.
И немецкие, и испанские фашисты чувствуют себя неуверенно, боятся,
поспешно строят оборонительные сооружения. Они знают настроение наших войск.
Оно определяется чувством ненависти к гитлеровцам, сознательно причиняющим
страдания населению Ленинграда. Зверские обстрелы города резко усилились с
начала 1942 года: с тех пор на жителей, на дома и улицы Ленинграда легли
десятки тысяч тяжелых снарядов. Везде и всюду слышишь в войсках
Ленинградского фронта: "Вот бы и нам начать общее наступление!"
Это настроение, этот дух боевой активности проявились и в частных
наступательных операциях, какие были проведены в районе Урицка, у Ям-Ижоры,
у Ивановского и, особенно, в синявинских боях, которыми было сорвано
намерение Гитлера начать общий штурм города.
С недавнего времени 12-м гвардейским полком командует полковник И. А.
Потифоров. До него командиром был полковник Н. Н. Жданов, теперь занимающий
более высокую должность. Оба командира имеют отличное специальное
образование, опытны, смелы, оба прославлены по всему Ленинградскому фронту.
Н. Н. Жданов стал особенно известен с тех пор, как батареи его корпусного
артиллерийского полка первыми на Ленинградском фронте, еще осенью 1941 года,
завязали активную контрбатарейную борьбу и положили начало созданию особой
наступательной группы, призванной противодействовать дальнобойной артиллерии
врага.
Любят, хорошо знают и заместителя командира полка по политчасти
подполковника М. В. Евдокимова, храбрость которого доказана еще во время
прорыва линии Маннергейма.
Люди полка -- простые, суровые, способные спокойно переносить любые
опасности и лишения, закалились в боях, умудрены опытом. Каждый из них
старается внести своим боевым мастерством что-нибудь новое, полезное в
работу полка.
Примеров этому я мог бы привести очень много. Но главное, мне хочется
определить явно ощущаемую мною разницу между тем, как воевали наши люди
совсем недавно, на первом году войны, и как воюют сейчас, в конце 1942 года;
в чем изменились сами они, в чем именно выражается приобретенное ими
мастерство.
Знакомство с Фомичевым
Я только что долго беседовал с Иваном Петровичем Фомичевым. Человек он
здоровый, высокорослый, ему двадцать шесть лет. Фомичев -- командир взвода
управления восьмой батареи; звание лейтенанта получил в январе, а гвардии
старшим лейтенантом стал в июле этого года. Он -- опытный командир.
Вот он сидит передо мной за столом в землянке, откинувшись на спинку
венского стула, держа прямо свою коротко остриженную голову. Его крупное,
удлиненное лицо с большим прямым носом и губами, обведенными двумя
морщинами, весьма выразительно. Руки с сильными грубоватыми пальцами
рабочего человека недвижно лежат на топографической, расчерченной цветными
карандашами карте. Он очень восприимчив, сообразителен, мгновенно оценивает,
что нужно его собеседнику; видимо, в нем есть привычка представлять себя на
месте того, с кем он беседует.
Он родился под Тихвином, в семье крестьянинабедняка. Надо было самому
сызмальства трудиться. Кормилец-отец умер, когда Ваньку только исполнилось
четыре года. В гражданскую войну отец работал председателем волостного
Совета. Однажды кулак-сосед избил председателя так, что тот пролежал с
полгода. Но оправился, вновь работал как выборное лицо и даже самоуком
одолел грамоту. Вот мать, семидесятипятилетняя Анна Алексеевна, так без
образования и провела жизнь...
Фомичев умеет слушать собеседника очень внимательно, глядя на него
спокойно своими серовато-
голубыми глазами. Ответы дает мне продуманные, точные. Чувствую: думает
он в лад с моими мыслями.
Это умение "думать за другого", наверное, сказывается и в его боевой
работе: он стремится ясно представить себе, что именно замышляет враг. И,
угадав, дает наиточнейший ответ снарядами, которые накрывают цель. Умение
разгадывать замыслы врага, ясно представлять себе, чего хочет он, --
драгоценное качество воина.
Беседа с Фомичевым легка и приятна. Слова у него вытягивать не
приходится, с полунамека вникает он в твой вопрос и даже сам помогает его
сформулировать. Нет в его мозгу ни готовых схем, суррогатов мышления, ни
казенщины, всегда обличающей косность ума, безответственность и равнодушие.
Фомичев подтянут, выдержан.
Он ранен на днях, однако продолжает свою боевую работу. Ранен пулей в
руку, выше локтя, при перестрелке с немецким снайпером. Рука Фомичева
перевязана, но перевязка под рукавом гимнастерки незаметна. Вчера я спросил
врача, лечащего Фомичева, как он переносит боль.
-- Очень просто, -- ответил мне врач, -- терпелив, не пожалуется, но
если спросить: "Больно ли?", скажет: "Больно!" Нервы у него прекрасные,
спокойный, здоровый!
Действительно, взглянув на Фомичева, никак не скажешь, что он пережил
год блокады.
Работа разведчика-наблюдателя
Итак, главная задача полка -- уничтожение дальнобойных орудий
гитлеровцев, то есть контрбатарейная борьба.
Это дело трудное.
Гитлеровцы давно уже не ставят своих орудий на опушках лесов,
обступающих с немецкой стороны Ленинградский фронт. Огневые позиции
противника
хорошо укрыты в глубине леса, в оврагах, на обратных скалах холмов, за
большими каменными зданиями и в парках Пушкина, Петергофа, Стрельны...
Такие огневые позиции не увидишь с наблюдательных пунктов, их трудно
обнаружить и звуковой разведкой, потому что звуковые волны, рожденные
выстрелами вражеских батарей, наталкиваясь на всякие барьеры, пропадают или
искажаются.
Наученные горьким опытом, фашисты редко теперь ведут огонь побатарейно.
Чаще их рассредоточенные орудия стреляют в одиночку -- это помогает
маскировать основные огневые позиции.
По просекам, по проложенным в чаще лесов дорогам, кроме того, перевозят
кочующие орудия; такие орудия, послав в Ленинград несколько тяжелых
снарядов, быстро оказываются в новом, столь же неожиданном месте...
Маскируют звук выстрела немцы и другими методами. Например, располагают
ряд отдельных орудий, минометов, даже целые батареи в створе, на одном
азимуте. И ежели все они совершают короткий огневой налет одновременно, то
на ленте нашей звукоразведки получается такая смесь шумовых записей, что
определить координаты бывает весьма затруднительно.
Гитлеровцы обстреливают город и наши передовые позиции еще и
сверхтяжелыми орудиями калибра 380--420 миллиметров. Их перевозят на
специальных установках по скрытым лесными массивами железным дорогам.
Звуковая волна от выстрелов этих орудий до наших постов звукозаписи иногда
не доходит. Такие орудия можно засечь только по пару или дымкам паровозов,
либо разведкой с воздуха.
И все-таки наши артиллеристы научились засекать любые вражеские
батареи, сочетая данные звуковой, зрительной и всех других методов разведки.
В 12-м гвардейском артполку применяется сложная и умная система СНД
("Сопряженного наблюдения дивизионов").
Наблюдения ведутся одновременно с нескольких
пунктов, расположенных на высоких зданиях, на заводских трубах Колпина,
Ижор и со всяких других вышек.
Каждый наблюдательный пункт обеспечен заготовленными заранее таблицами
направлении на разведанные цели с обозначением номера вражеской батареи и ее
калибров. Вспышка или блеск при выстреле вражеского орудия сразу же
отмечается стрелкойуказателем, приспособленной к стереотрубе. Это помогает
наблюдателю мгновенно дать нашим командирам батареи правильный ориентир. А
если стрелка стереотрубы показывает новое направление, значит, огонь ведет
еще не разведанное вражеское орудие. Тогда на его разведку полк немедленно
устремляет все свои средства наблюдения.
В контрбатарейной борьбе принимают участие артиллеристы всех
специальностей. Особенно ответственна работа разведки. Что делает, например,
командир взвода управления восьмой батареи гвардии старший лейтенант Иван
Фомичев?
Взвод имеет четыре отделения: разведки, связи, радио и вычислительное.
Фомичев подготовил опытных разведчиков, которые умеют самостоятельно
готовить разведсхемы.
Стороны угла сектора работы Фомичева уходят от позиций нашего 286-го
стрелкового полка в глубь расположения врага так далеко, как только могут
бить своими снарядами орудия восьмой батареи.
В числе многих удалось подавить в начале ноября цель No 605. Эта цель
-- немецкая батарея, как и другие, пронумерованные, нанесенные на карты и
таблицы, была давно разведана и засечена.
А засекли батарею так. Днем, когда вспышек не видно, она открыла огонь
за Колпино, по деревне Балканы, где находились наши огневые позиции, Фомичев
шел к своему НП -- к церкви, что в деревне Малая Славянка, и слушал "простым
ухом" (а слух у него обостренный, Фомичев приучил себя сразу угадывать
направление звуков). Определил точно: стреляет вражеская батарея со стороны
Павловска, из-за элеватора, который виден с НП. Фомичев поднялся на ко-
локольню церкви и вмecтe с двумя разведчиками стал наблюдать.
Часов в девять вечера батарея дала по центру Колпина пять залпов из
трех орудий.
Еще засветло Фомичев поставил перекрестие своей стереотрубы на
предварительно выбранный по слуху ориентир -- белую силосную башню в
оккупированной немцами деревне Финские Липицы: 30, 0... И едва батарея
начала стрелять, Фомичев, увидев вспышку, снял отсчет по первому стреляющему
орудию, а после второго и третьего залпов -- по остальным двум орудиям.
Отсчет по всем трем орудиям оказался: 36, 60; 36, 62 и 36, 64.
Значительно левее наблюдательного пункта Фомичева другой НП --
ефрейтора Глеза и сержанта Жижикина -- засек те же орудия так: 38, 80; 38,
82 и 38, 84.
Теперь ничего не стоило по планшету высчитать дистанцию, затем,
пользуясь бюллетенем артиллерийского метеорологического пункта (сообщаемого
каждые два часа), внести поправки на температуру воздуха и дать точные
координаты командиру батареи.
На следующий день цель была подавлена: девятая батарея выпустила по ней
пятнадцать, а восьмая -- десять снарядов.
Возможно, что подавленная батарея спустя некоторое время откроет огонь.
Но цель известна, известно также, сколько на батарее орудий и какого они
калибра. И как только разведчик-наблюдатель определит, что заговорили именно
они, то сразу вызовет на них огонь.
На определение цели и передачу координат Фомичеву прежде требовалось
семь-восемь минут. Теперь, хорошо натренировав себя и своих разведчиков, он
управляется за полторы-две минуты. Для уточнения и проверки одну и ту же
цель он засекает несколько раз.
В своем секторе разведки Фомичев заранее засекает каждый дом, каждый
бугор, любую выделяющуюся точку и подготовляет по ним данные на всякий
случай. Все данные записаны у него в тетради, которую он держит при себе, и
в журнале целей, находя-
щемся в землянке ПНП или НП. Это его собственная инициатива,
поддержанная начальником разведки полка. Теперь так делается на всех
батареях.
Артиллерийские разведчики обычно ограничиваются наблюдением со своих НП
и ПНП. Но с наблюдательного пункта не все увидишь. Иной раз бывают
неразличимы хорошо замаскированные дзоты, пулеметные точки, землянки
минометных батарей. При наступлении на Ивановское, например, артиллеристы
обстреляли пустое место, потому что не знали, где расположен передний край
противника, не могли разглядеть проволочных заграждений.
Иван Фомичев, опять же по собственной инициативе, решил в свободные
часы ходить на передний край, в стрелковые роты. Оттуда, выбирая удобные
места для наблюдения, он производит с двух пунктов засечку всего, что
интересно для артиллеристов. Часто с одним или двумя из своих разведчиков он
выползает даже в нейтральную зону и наблюдает оттуда. Например, вражеский
миномет вблизи заметен по голубому дымку с легкой синеватой шапкой, а зимой
над минометом поднимается легкая снежная пыльца; кроме того, можно заметить
подноску мин.
Засекая такие объекты, Фомичев заранее составляет список целей,
нумерует их, подготовляет для их подавления и уничтожения все данные.
Работая так, он в своем секторе наблюдения дал возможность батарее
уничтожить шесть дзотов с крупнокалиберными пулеметами, пять наблюдательных
пунктов врага, две минометные батареи, два противотанковых орудия, в здании
элеватора -- два крупнокалиберных и один станковый пулемет и снайперскую
ячейку на чердаке здания. У меня нет возможности перечислить здесь все
объекты, уничтоженные с помощью Фомичева.
А кроме того, у него есть "в запасе" пока не уничтоженных семь
минометных батарей, два НП, шестнадцать дзотов со станковыми и ручными
пулеметами, три противотанковых орудия, одно 75-миллиметровое орудие и много
других целей, в том числе штаб батальона. Этот штаб Фомичев обнаружил,
тшатель-
но наблюдая за одной из траншей: увидел офицера, который выходил к
сидящей на цепи собаке; увидел сменяющихся каждые два часа часовых; позже,
допросив одного из пленных, получил подтверждение, что там -- штаб
батальона. Выявил Фомичев и все вражеские ходы сообщения, ведущие к
переднему краю, и два минных поля. Узнать, что они минированы, помогло
внимательное наблюдение: при разрывах наших мин или снарядов рядом бывало
еще по нескольку взрывов.
Фомичев знает даже, когда сменяются часовые у вражеских землянок и
дзотов, -- словом, он подробнейше изучил всю жизнь переднего края
противника.
В нужный момент на все эти припасенные для уничтожения объекты он
направит огонь своей батареи, а до той поры, попутно, сам занимается
истреблением отдельных вражеских офицеров и солдат, подолгу подстерегая их в
какой-либо из своих снайперских ячеек.
Методы разведывательной работы Фомичева применяются теперь и в других
дивизионах полка и даже в других полках, например в соседнем, 96-м артполку.
Начальник штаба 286-го стрелкового полка, находящегося на том же участке
обороны, что и 12-й артполк, не раз присылал к Фомичеву за советом
начальника разведки своего полка.
В 12-м гвардейском артполку недавно было совещание командиров взводов
управления 96-го артполка. Выяснилось, что они не знают расположения огневых
точек нашей пехоты и своих соседей-артиллеристов. А это необходимо знать на
случай, если фашисты ворвутся в наши боевые порядки, чтобы сразу обрушить
туда на врага артиллерийский огонь...
Артиллерия, как известно, наука точная, и потому все артиллеристы 12-го
артполка непрерывно учатся, день ото дня становятся все более знающими и
опытными. Многие из них -- хорошо подготовленные и инициативные --
вырабатывают свои, новые методы разведки и наблюдения, помогающие полку все
лучше вести контрбатарейную борьбу. Каждый из артиллеристов полка понимает,
что от точности и быстроты
его действий зависит жизнь сотен и тысяч воинов Ленинградского фронта и
мирных жителей Ленинграда.
Разбил вражескую пушку -- сохранил в Ленинграде несколько домов, сотни
жизней!
Это знают, это помнят, этим воодушевляются артиллеристы полка.
На Мойке после бомбежки.
ря 15 тысяч вражеских солдат и офицеров жизнью своей расплатились за
преступную авантюру. 12 тысяч взято в плен. Нарушена связь вражеских частей,
утрачено единство управления. Три дивизии, вместе со штабами своими, вместе
с генералами, взяты в плен. Брошенные врагом во время отступления и
захваченные нашими частями орудия, танки, автомашины, винтовки, автоматы
составляют целый арсенал -- 1164 орудия, 431 танк, 3 миллиона снарядов, 18
миллионов патронов и т. д. Нашими войсками заняты многие города и населенные
пункты...
И еще радость: учреждаются медали за оборону четырех городов --
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда. Английская газета "Ивнинг
ньюс" пишет: "В течение полутора отчаянных лет Красная Армия вынуждена была
выдерживать натиск лавины вражеских войск. Никогда в истории ни одна армия
не сражалась с таким хладнокровием и стойкостью, с таким непревзойденным
мастерством, с такой неослабевающей мощью... " И дальше: "Давайте искренне
признаем, что, не будь подвигов Красной Армии, судьба свободных народов была
бы поистине мрачной.. "
Наша взяла!
... Я решил с утра выехать в 55-ю армию, чтоб осуществить давнее свое
желание: познакомиться с теми нашими артиллеристами, которые ведут
контрбатарейную борьбу, уничтожая дальнобойные орудия оголтелых гитлеровцев,
яростно обстреливающих Ленинград. Надо все узнать, увидеть своими глазами!..
Но мне хочется привести здесь еще один эпизод, который я записал ночью,
перед отъездом...
Ленинградской ночью
Ночь на 26 ноября
Я шел в ДКА из "Астории".
Время близилось к полуночи, и Ленинград был пуст. В прорыве туч
показалась луна, залила призрачным светом снежную улицу, перекресток, руины
огромного, давно разъятого бомбой дома.
За разбитой стеною мне почудились голоса. Я приостановился,
прислушался, тихо подошел ближе. Сомнения быть не могло: в хаосе кирпичей
разговаривали двое мужчин.
Это было странно и подозрительно. Осажденный город... Пустые улицы...
Кто и зачем может скрываться ночью в холодных развалинах?.. Расстегнув
кобуру пистолета, я тихо встал в проломе разбитой стены. Разговаривающие
теперь были где-то рядом со мною, но я их не видел. Завывание ветра мешало
мне расслышать слова.
Я подкрался еще ближе. Один сказал громко:
Ну, что, скоро ли?
Пора! -- ответил другой.
Л может, не будет? -- Будет наверняка...
И замолчали. Я был готов ко всему. Они опять тихо заговорили, и на этот
раз я, конечно, расслышал бы их слова, но тут на весь тихий и пустынный
квартал раскатился голос громкоговорителя, прикрепленного на одном из углов
перекрестка:
"В последний час... Наступление наших войск продолжается... "
Не спуская глаз с тех руин, где скрывались двое мужчин, я прослушал
новые, еще более радостные и волнующие известия о наших прекрасных делах на
юге. Те двое также, должно быть, слушали.
Радио умолкло, и я услышал восклицание одного из них:
Замечательно! Пятьдесят одна тысяча пленных!.. А ты не хотел вылезать
из постели. Праздникто, сынок, и на нашей улице начинается!
Папа! Это -- цветочки, ягодки впереди... А насчет постели... Да я бы
сейчас туда хоть пешком!
Ну-ну... И в Ленинграде нынче неплохо! Пойдем-ка лучше до дому,
спать!..
Прямо на меня из руин вышли бородатый старик в меховой шубе и парень в
ватнике. Оба, испуганные, остановились...
Все дальнейшее можно объяснить в двух словах. Старик оказался учителем
музыки Иваном Сергееви-
своими 152-миллиметровыми гаубицами они ведут контрбатарейную борьбу с
тяжелыми орудиями гитлеровцев, обстреливающими Ленинград. А кроме того,
уничтожают все другие огневые средства врага; бьют по любой цели -- по
обнаруженным разведкой ротам гитлеровцев на марше, по их штабам и
наблюдательным пунктам, по их железнодорожным составам, автомашинам,
повозкам. Артиллеристы, особенно разведчики-наблюдатели, завели у себя
хороший обычай: выходят по двое, по трое на передний край, в боевые порядки
пехоты, и даже в нейтральную полосу, выкапывают себе ячейки; часами
выслеживают с помощью перископов и стереотруб гитлеровцев и истребляют их из
винтовок.
Полк еще недавно, до марта этого года, назывался 101-м гaп. Свою
историю он ведет с 1927 года. В 1936 году, на Первых всеармейских
состязаниях, он занял лучшее место в военном округе. В войне с белофиннами,
круша в упор железобетонные доты, проламывая линию Маннергейма, полк стал
Краснознаменным. Отечественная война застала его за Выборгом, там вел он
оборонительные бои, потом долго и мучительно, уничтожив по приказу
командования свою технику, выходил из окружения. Сформированный заново,
опять вел упорные бои сначала под Урицком, позже на одном из самых опасных и
трудных участков обороны -- у Невской Дубровки, против левого берега Невы,
где нами был создан плацдарм для будущего прорыва блокады -- знаменитый
героизмом наших десантников и уже не раз описанный мною "пятачок", принявший
в свою землю много русской крови...
В этом году полк слал гитлеровцам снаряды из района Автова, а затем
перешел сюда, на участок Колпина и Ижор.
Полк держит под огнем полукружие фронта гитлеровцев от устья притока
Невы -- реки Тосны у села Ивановского до лесов Красного Бора и далее к
югозападу, до Пушкина и Павловска.
Восточную часть этого полукружия по реке Тосне занимает фашистская
полицейская дивизия СС; правее по фронту расположена 250-я испанская
"голубая
дивизия", сменившая недавно 121-ю немецкую пехотную дивизию.
И немецкие, и испанские фашисты чувствуют себя неуверенно, боятся,
поспешно строят оборонительные сооружения. Они знают настроение наших войск.
Оно определяется чувством ненависти к гитлеровцам, сознательно причиняющим
страдания населению Ленинграда. Зверские обстрелы города резко усилились с
начала 1942 года: с тех пор на жителей, на дома и улицы Ленинграда легли
десятки тысяч тяжелых снарядов. Везде и всюду слышишь в войсках
Ленинградского фронта: "Вот бы и нам начать общее наступление!"
Это настроение, этот дух боевой активности проявились и в частных
наступательных операциях, какие были проведены в районе Урицка, у Ям-Ижоры,
у Ивановского и, особенно, в синявинских боях, которыми было сорвано
намерение Гитлера начать общий штурм города.
С недавнего времени 12-м гвардейским полком командует полковник И. А.
Потифоров. До него командиром был полковник Н. Н. Жданов, теперь занимающий
более высокую должность. Оба командира имеют отличное специальное
образование, опытны, смелы, оба прославлены по всему Ленинградскому фронту.
Н. Н. Жданов стал особенно известен с тех пор, как батареи его корпусного
артиллерийского полка первыми на Ленинградском фронте, еще осенью 1941 года,
завязали активную контрбатарейную борьбу и положили начало созданию особой
наступательной группы, призванной противодействовать дальнобойной артиллерии
врага.
Любят, хорошо знают и заместителя командира полка по политчасти
подполковника М. В. Евдокимова, храбрость которого доказана еще во время
прорыва линии Маннергейма.
Люди полка -- простые, суровые, способные спокойно переносить любые
опасности и лишения, закалились в боях, умудрены опытом. Каждый из них
старается внести своим боевым мастерством что-нибудь новое, полезное в
работу полка.
Примеров этому я мог бы привести очень много. Но главное, мне хочется
определить явно ощущаемую мною разницу между тем, как воевали наши люди
совсем недавно, на первом году войны, и как воюют сейчас, в конце 1942 года;
в чем изменились сами они, в чем именно выражается приобретенное ими
мастерство.
Знакомство с Фомичевым
Я только что долго беседовал с Иваном Петровичем Фомичевым. Человек он
здоровый, высокорослый, ему двадцать шесть лет. Фомичев -- командир взвода
управления восьмой батареи; звание лейтенанта получил в январе, а гвардии
старшим лейтенантом стал в июле этого года. Он -- опытный командир.
Вот он сидит передо мной за столом в землянке, откинувшись на спинку
венского стула, держа прямо свою коротко остриженную голову. Его крупное,
удлиненное лицо с большим прямым носом и губами, обведенными двумя
морщинами, весьма выразительно. Руки с сильными грубоватыми пальцами
рабочего человека недвижно лежат на топографической, расчерченной цветными
карандашами карте. Он очень восприимчив, сообразителен, мгновенно оценивает,
что нужно его собеседнику; видимо, в нем есть привычка представлять себя на
месте того, с кем он беседует.
Он родился под Тихвином, в семье крестьянинабедняка. Надо было самому
сызмальства трудиться. Кормилец-отец умер, когда Ваньку только исполнилось
четыре года. В гражданскую войну отец работал председателем волостного
Совета. Однажды кулак-сосед избил председателя так, что тот пролежал с
полгода. Но оправился, вновь работал как выборное лицо и даже самоуком
одолел грамоту. Вот мать, семидесятипятилетняя Анна Алексеевна, так без
образования и провела жизнь...
Фомичев умеет слушать собеседника очень внимательно, глядя на него
спокойно своими серовато-
голубыми глазами. Ответы дает мне продуманные, точные. Чувствую: думает
он в лад с моими мыслями.
Это умение "думать за другого", наверное, сказывается и в его боевой
работе: он стремится ясно представить себе, что именно замышляет враг. И,
угадав, дает наиточнейший ответ снарядами, которые накрывают цель. Умение
разгадывать замыслы врага, ясно представлять себе, чего хочет он, --
драгоценное качество воина.
Беседа с Фомичевым легка и приятна. Слова у него вытягивать не
приходится, с полунамека вникает он в твой вопрос и даже сам помогает его
сформулировать. Нет в его мозгу ни готовых схем, суррогатов мышления, ни
казенщины, всегда обличающей косность ума, безответственность и равнодушие.
Фомичев подтянут, выдержан.
Он ранен на днях, однако продолжает свою боевую работу. Ранен пулей в
руку, выше локтя, при перестрелке с немецким снайпером. Рука Фомичева
перевязана, но перевязка под рукавом гимнастерки незаметна. Вчера я спросил
врача, лечащего Фомичева, как он переносит боль.
-- Очень просто, -- ответил мне врач, -- терпелив, не пожалуется, но
если спросить: "Больно ли?", скажет: "Больно!" Нервы у него прекрасные,
спокойный, здоровый!
Действительно, взглянув на Фомичева, никак не скажешь, что он пережил
год блокады.
Работа разведчика-наблюдателя
Итак, главная задача полка -- уничтожение дальнобойных орудий
гитлеровцев, то есть контрбатарейная борьба.
Это дело трудное.
Гитлеровцы давно уже не ставят своих орудий на опушках лесов,
обступающих с немецкой стороны Ленинградский фронт. Огневые позиции
противника
хорошо укрыты в глубине леса, в оврагах, на обратных скалах холмов, за
большими каменными зданиями и в парках Пушкина, Петергофа, Стрельны...
Такие огневые позиции не увидишь с наблюдательных пунктов, их трудно
обнаружить и звуковой разведкой, потому что звуковые волны, рожденные
выстрелами вражеских батарей, наталкиваясь на всякие барьеры, пропадают или
искажаются.
Наученные горьким опытом, фашисты редко теперь ведут огонь побатарейно.
Чаще их рассредоточенные орудия стреляют в одиночку -- это помогает
маскировать основные огневые позиции.
По просекам, по проложенным в чаще лесов дорогам, кроме того, перевозят
кочующие орудия; такие орудия, послав в Ленинград несколько тяжелых
снарядов, быстро оказываются в новом, столь же неожиданном месте...
Маскируют звук выстрела немцы и другими методами. Например, располагают
ряд отдельных орудий, минометов, даже целые батареи в створе, на одном
азимуте. И ежели все они совершают короткий огневой налет одновременно, то
на ленте нашей звукоразведки получается такая смесь шумовых записей, что
определить координаты бывает весьма затруднительно.
Гитлеровцы обстреливают город и наши передовые позиции еще и
сверхтяжелыми орудиями калибра 380--420 миллиметров. Их перевозят на
специальных установках по скрытым лесными массивами железным дорогам.
Звуковая волна от выстрелов этих орудий до наших постов звукозаписи иногда
не доходит. Такие орудия можно засечь только по пару или дымкам паровозов,
либо разведкой с воздуха.
И все-таки наши артиллеристы научились засекать любые вражеские
батареи, сочетая данные звуковой, зрительной и всех других методов разведки.
В 12-м гвардейском артполку применяется сложная и умная система СНД
("Сопряженного наблюдения дивизионов").
Наблюдения ведутся одновременно с нескольких
пунктов, расположенных на высоких зданиях, на заводских трубах Колпина,
Ижор и со всяких других вышек.
Каждый наблюдательный пункт обеспечен заготовленными заранее таблицами
направлении на разведанные цели с обозначением номера вражеской батареи и ее
калибров. Вспышка или блеск при выстреле вражеского орудия сразу же
отмечается стрелкойуказателем, приспособленной к стереотрубе. Это помогает
наблюдателю мгновенно дать нашим командирам батареи правильный ориентир. А
если стрелка стереотрубы показывает новое направление, значит, огонь ведет
еще не разведанное вражеское орудие. Тогда на его разведку полк немедленно
устремляет все свои средства наблюдения.
В контрбатарейной борьбе принимают участие артиллеристы всех
специальностей. Особенно ответственна работа разведки. Что делает, например,
командир взвода управления восьмой батареи гвардии старший лейтенант Иван
Фомичев?
Взвод имеет четыре отделения: разведки, связи, радио и вычислительное.
Фомичев подготовил опытных разведчиков, которые умеют самостоятельно
готовить разведсхемы.
Стороны угла сектора работы Фомичева уходят от позиций нашего 286-го
стрелкового полка в глубь расположения врага так далеко, как только могут
бить своими снарядами орудия восьмой батареи.
В числе многих удалось подавить в начале ноября цель No 605. Эта цель
-- немецкая батарея, как и другие, пронумерованные, нанесенные на карты и
таблицы, была давно разведана и засечена.
А засекли батарею так. Днем, когда вспышек не видно, она открыла огонь
за Колпино, по деревне Балканы, где находились наши огневые позиции, Фомичев
шел к своему НП -- к церкви, что в деревне Малая Славянка, и слушал "простым
ухом" (а слух у него обостренный, Фомичев приучил себя сразу угадывать
направление звуков). Определил точно: стреляет вражеская батарея со стороны
Павловска, из-за элеватора, который виден с НП. Фомичев поднялся на ко-
локольню церкви и вмecтe с двумя разведчиками стал наблюдать.
Часов в девять вечера батарея дала по центру Колпина пять залпов из
трех орудий.
Еще засветло Фомичев поставил перекрестие своей стереотрубы на
предварительно выбранный по слуху ориентир -- белую силосную башню в
оккупированной немцами деревне Финские Липицы: 30, 0... И едва батарея
начала стрелять, Фомичев, увидев вспышку, снял отсчет по первому стреляющему
орудию, а после второго и третьего залпов -- по остальным двум орудиям.
Отсчет по всем трем орудиям оказался: 36, 60; 36, 62 и 36, 64.
Значительно левее наблюдательного пункта Фомичева другой НП --
ефрейтора Глеза и сержанта Жижикина -- засек те же орудия так: 38, 80; 38,
82 и 38, 84.
Теперь ничего не стоило по планшету высчитать дистанцию, затем,
пользуясь бюллетенем артиллерийского метеорологического пункта (сообщаемого
каждые два часа), внести поправки на температуру воздуха и дать точные
координаты командиру батареи.
На следующий день цель была подавлена: девятая батарея выпустила по ней
пятнадцать, а восьмая -- десять снарядов.
Возможно, что подавленная батарея спустя некоторое время откроет огонь.
Но цель известна, известно также, сколько на батарее орудий и какого они
калибра. И как только разведчик-наблюдатель определит, что заговорили именно
они, то сразу вызовет на них огонь.
На определение цели и передачу координат Фомичеву прежде требовалось
семь-восемь минут. Теперь, хорошо натренировав себя и своих разведчиков, он
управляется за полторы-две минуты. Для уточнения и проверки одну и ту же
цель он засекает несколько раз.
В своем секторе разведки Фомичев заранее засекает каждый дом, каждый
бугор, любую выделяющуюся точку и подготовляет по ним данные на всякий
случай. Все данные записаны у него в тетради, которую он держит при себе, и
в журнале целей, находя-
щемся в землянке ПНП или НП. Это его собственная инициатива,
поддержанная начальником разведки полка. Теперь так делается на всех
батареях.
Артиллерийские разведчики обычно ограничиваются наблюдением со своих НП
и ПНП. Но с наблюдательного пункта не все увидишь. Иной раз бывают
неразличимы хорошо замаскированные дзоты, пулеметные точки, землянки
минометных батарей. При наступлении на Ивановское, например, артиллеристы
обстреляли пустое место, потому что не знали, где расположен передний край
противника, не могли разглядеть проволочных заграждений.
Иван Фомичев, опять же по собственной инициативе, решил в свободные
часы ходить на передний край, в стрелковые роты. Оттуда, выбирая удобные
места для наблюдения, он производит с двух пунктов засечку всего, что
интересно для артиллеристов. Часто с одним или двумя из своих разведчиков он
выползает даже в нейтральную зону и наблюдает оттуда. Например, вражеский
миномет вблизи заметен по голубому дымку с легкой синеватой шапкой, а зимой
над минометом поднимается легкая снежная пыльца; кроме того, можно заметить
подноску мин.
Засекая такие объекты, Фомичев заранее составляет список целей,
нумерует их, подготовляет для их подавления и уничтожения все данные.
Работая так, он в своем секторе наблюдения дал возможность батарее
уничтожить шесть дзотов с крупнокалиберными пулеметами, пять наблюдательных
пунктов врага, две минометные батареи, два противотанковых орудия, в здании
элеватора -- два крупнокалиберных и один станковый пулемет и снайперскую
ячейку на чердаке здания. У меня нет возможности перечислить здесь все
объекты, уничтоженные с помощью Фомичева.
А кроме того, у него есть "в запасе" пока не уничтоженных семь
минометных батарей, два НП, шестнадцать дзотов со станковыми и ручными
пулеметами, три противотанковых орудия, одно 75-миллиметровое орудие и много
других целей, в том числе штаб батальона. Этот штаб Фомичев обнаружил,
тшатель-
но наблюдая за одной из траншей: увидел офицера, который выходил к
сидящей на цепи собаке; увидел сменяющихся каждые два часа часовых; позже,
допросив одного из пленных, получил подтверждение, что там -- штаб
батальона. Выявил Фомичев и все вражеские ходы сообщения, ведущие к
переднему краю, и два минных поля. Узнать, что они минированы, помогло
внимательное наблюдение: при разрывах наших мин или снарядов рядом бывало
еще по нескольку взрывов.
Фомичев знает даже, когда сменяются часовые у вражеских землянок и
дзотов, -- словом, он подробнейше изучил всю жизнь переднего края
противника.
В нужный момент на все эти припасенные для уничтожения объекты он
направит огонь своей батареи, а до той поры, попутно, сам занимается
истреблением отдельных вражеских офицеров и солдат, подолгу подстерегая их в
какой-либо из своих снайперских ячеек.
Методы разведывательной работы Фомичева применяются теперь и в других
дивизионах полка и даже в других полках, например в соседнем, 96-м артполку.
Начальник штаба 286-го стрелкового полка, находящегося на том же участке
обороны, что и 12-й артполк, не раз присылал к Фомичеву за советом
начальника разведки своего полка.
В 12-м гвардейском артполку недавно было совещание командиров взводов
управления 96-го артполка. Выяснилось, что они не знают расположения огневых
точек нашей пехоты и своих соседей-артиллеристов. А это необходимо знать на
случай, если фашисты ворвутся в наши боевые порядки, чтобы сразу обрушить
туда на врага артиллерийский огонь...
Артиллерия, как известно, наука точная, и потому все артиллеристы 12-го
артполка непрерывно учатся, день ото дня становятся все более знающими и
опытными. Многие из них -- хорошо подготовленные и инициативные --
вырабатывают свои, новые методы разведки и наблюдения, помогающие полку все
лучше вести контрбатарейную борьбу. Каждый из артиллеристов полка понимает,
что от точности и быстроты
его действий зависит жизнь сотен и тысяч воинов Ленинградского фронта и
мирных жителей Ленинграда.
Разбил вражескую пушку -- сохранил в Ленинграде несколько домов, сотни
жизней!
Это знают, это помнят, этим воодушевляются артиллеристы полка.
 Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант Николай Павлович
Симоняк.
А эту двухсотметровую полосу обрабатывали только наши орудия прямой
наводки. Плотность огня была такова, что на каждый квадратный метр
левобережья Невы легло в среднем четыре снаряда... Все основные огневые
средства врага на направлении нашего главного удара были превращены в прах,
узлы сопротивления сломлены. Только на участке 45-й гвардейской дивизии А.
А. Краснова да против самого Шлиссельбурга не все огневые точки врага
удалось привести к молчанию, -- о причинах этого я скажу дальше.
В полдень 12 февраля 269-й, 270-й и 342-й полки 136-й дивизии Н. П.
Симоняка по сигналу, одновременно с другими дивизиями, развернутыми цепями
предприняли бросок через Неву. От стремительности и внезапности этого броска
зависел успех всей операции. Сразу после одновременного взрыва минных полей
духовой оркестр в траншеях дивизии заиграл "Интернационал". Первым на лед
выскочил из траншеи батальон 269-го полка, которым командовал ка-
питан Федор Собакин. Рванулись вперед штурмовые блок-группы, за ними --
"основная волна", затем резерв комбата -- стрелковый взвод, отделение ПТР,
отделение обслуживания, два пулеметных расчета и расчет противотанковой
пушки. Долговязый, хорошо тренированный, ловкий и, как всегда, решительный,
капитан Собакин перебежал Неву ровно за четыре минуты. Командиры полков
дивизии Симоняка -- Шерстнев, Федоров, Кожевников, их заместители по
политчасти Хламкин, Чудинов и Бондаренко, все командиры батальонов и их
замполиты -- вопреки обычным положениям устава -- находились впереди цепей.
В этом месте ширина Невы достигает шестисот метров, по отлично
подготовленные бойцы и командиры преодолели Неву за семь -- десять минут.
Немцы открыли артиллерийский огонь лишь тогда, когда наступающим частям
оставалось до левого берега не более ста пятидесяти метров. Огневые средства
и укрепления врага оказались так решительно подавлены, разрушены нашей
артиллерией и авиацией, что немцы не могли встретить атакующую дивизию огнем
станковых пулеметов.
Паши бойцы форсируя Неву, бежали молча: некогда было кричать "ура",
каждый был озабочен тем, как бы скорее достичь противоположного берега и
закрепиться на нем. Ни один боец не залег, ни один не отстал. Потеряв на
льду Невы не более тридцати красноармейцев и только двух командиров, все три
полка дивизии ворвались в береговые траншеи противника, смяли и уничтожили
все на своем пути. Подготовленный немцами в глубоком овраге следующий сильно
укрепленный рубеж, с "ласточкиными гнездами"-- ячейками на склонах оврага --
был сломлен. Столь же стремительно промчавшись дальше, круша узлы
сопротивления, дивизия ворвалась в основной пункт обороны противника --
деревню Марьино, с ходу взяла ее, прочистила все дзоты и блиндажи. Миновав
деревню, с тем же вдохновенным напором взяла населенный пункт Пильня
Мельница, но и тут не задержалась -- продолжала двигаться дальше...
В блистательном успехе этой непрерывной атаки сказался опыт,
приобретенный во время учений на озерах Карельского перешейка -- в
частности, уменье пехоты бесстрашно идти вплотную за передвигающимся по мере
ее продвижения артиллерийским огневым валом. Этот метод атаки был хорошо
отработан, и бойцы были уверены в том, что рвущиеся впереди них наши снаряды
и мины не поразят их. а только расчистят им путь, разметав и уничтожив
врага.
Характерно: за весь день 12 января немцы на всей полосе нашего
наступления нигде не предпринимали контратак. Не до того было!.. Контратаки
начались только со следующего дня, когда к прибрежным гитлеровским частям
стали подходить подкрепления из немецкого тыла.
Во время артподготовки, расчищая четырем нашим дивизиям путь, с правого
берега по левому били все тысяча восемьсот орудий и минометов -- такого
количества артиллерии дотоле еще не сосредоточивал для удара Ленинградский
фронт.
Но только 136-й стрелковой дивизии удалось форсировать реку столь
быстро и почти без потерь. Другим дивизиям на льду Невы пришлось встретить
сильное сопротивление. 45-я гвардейская дивизия, наступавшая в районе
Невского "пятачка" и с самого плацдарма, но недостаточно перед тем
разведавшая цели, сразу же оказалась в трудном положении и еще на льду
понесла жестокие потери. Слева ее держали под сильнейшим огнем гитлеровцы,
засевшие в гигантском железобетонном кубическом здании разрушенной 8-й ГЭС.
Она была давно превращена в сильнейшую крепость1. Ведя жестокие бои и неся
потери, 45-я гвардейская дивизия все семь суток боев удерживала за собой
"пятачок", но не смогла развить наступления...
[*] 1 М. П. Духанов
впоследствии рассказал мне, что ее можно было бы разбить только мощной
морской артиллерией, но такая дальнобойная артиллерия, давая большое
рассеивание, неминуемо раздробила бы весь лед Невы, чем помешала бы штурму,
а кроме того, по той же причине могла бы поразить своих.
Начиная с 13 февраля эту дивизию справа непрерывно контратаковали
крупные гитлеровские резервы, двинутые с юго-востока, и хотя на подмогу ей
были брошены соединения второго эшелона, она вынуждена была только
обороняться.
С первого часа нашего наступления в тяжелом положении неожиданно
оказался и 330-й полк 86-й дивизии В. А. Трубачева. Отлично тренированные
для ночных действий на лыжах в тылу врага, два батальона полка с
несравненной смелостью форсировали Неву против Шлиссельбурга. Но у немцев
здесь оказались скрытые от наблюдения с нашей стороны направленные вкось
амбразуры. Подпустив наши штурмующие батальоны к самому берегу, немцы
внезапно открыли по ним косоприцельный перекрестный огонь. Полк сразу понес
большие потери. В. А. Трубачев, наблюдавший за наступлением из блиндажа на
нашем береговом срезе Невы, приказал уцелевшим людям немедленно вернуться. К
вечеру, пополнив полк, он, по приказанию М. П. Духанова, направил его вместе
с резервным 284-м полком к Черной речке -- на участок, удачно прорванный
136-й дивизией (и правофланговым, 169-м полком 86-й дивизии).
В прорыв, сделанный дивизией Н. П. Симоняка, двинулись и 86-я и 268-я
стрелковые дивизии, а затем, по их следам, каждый день двигались дивизии и
бригады второго эшелона армии. Все они, действуя плечом к плечу с частями
первого эшелона, наращивали силу общего удара и расширяли общий фронт
наступления.
Невозможно рассказать о бесчисленных проявлениях героизма бойцов и
командиров. Упомяну только об одном -- о подвиге тридцатичетырехлетнего
красноармейца третьего батальона 270-го стрелкового полка дивизии Н. П.
Симоняка Дмитрия Семеновича Молодцова, в прошлом -- механика шхуны
"Знаменка" Балтийской дноуглубительной флотилии. 13 января, когда батальон
прошел рощу "Мак" и пошел в атаку па высотку 20. 4, ил пути к Рабочему
поселку No 1 он был встречен сильным пулеметным огнем из дзота. Молодцов в
тот момент тянул связь от КП
своего батальона. Три бойца, кинувшиеся к дзоту, погибли. Тогда
Молодцов отложил катушку с кабелем и пополз к огневой точке. Подползая к
дзоту, он увидел на снегу убитого земляка Константина Усова, тот лежал с
гранатой, зажатой в вытянутой руке. Молодцов взял из его руки гранату,
подполз к дзоту, бросил гранату. Она разорвалась, ударившись в угол
амбразуры. Молодцов швырнул еще две своих, но умолкнувший было пулемет вдруг
заговорил: на дзот шла в атаку вторая рота. Молодцов отполз в сторону, встал
во весь рост, сбоку подбежал к амбразуре, ухватился пальцами за бревна, за
стреляющий пулемет, подтянулся и закрыл собой амбразуру, -- больше гранат у
него не было. Пулемет умолк. И тогда, подбежав к дзоту, ближайший друг
Молодцова Василий Семенов рванул дверь дзота, швырнул в гитлеровцев
гранату... Молодцов пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы бойцы его роты
могли свободно атаковать находившуюся под прикрытием этого дзота тяжелую
немецкую батарею. И четырехпушечная батарея 305-миллиметровых была захвачена
второй ротой.
В следующие несколько суток, не задерживаясь для отдыха, дивизия вместе
с танками и артиллерией продолжала вгрызаться в разветвленную систему
укреплений врага.
Хорошего успеха с начала боя добилась и 268-я стрелковая дивизия С. Н.
Борщева. Ее 952-й полк подполковника Клюканова (уже прославившегося на
Ивановском плацдарме) и 942-й полк полковника Козино первыми захватили
траншеи вражеского переднего края, прошли вперед от полутора до трех
километров, углубились в лес, сметая немецкие контратаки на пути к Рабочему
поселку No 5.
Немцы, укрепив силы своей разгромленной 170-й пехотной дивизии сначала
двумя, брошенными из резерва, а потом и дополнительными пехотными дивизиями,
тапками, тяжелой артиллерией, переходя в непрерывные контратаки, оказывали
нашим наступающим частям все более яростное сопротивление. Они бросили сюда
и всю наличную авиацию, но наши
самолеты по-прежнему господствовали в воздухе, как это было с первого
дня наступления.
Командующий 67-й армией ввел в бой против Невской Дубровки 13-ю
стрелковую дивизию В. П. Якутовича, в леса южнее Марьина -- 123-ю отдельную
стрелковую бригаду подполковника Шипова, а на прочие участки фронта --
другие стрелковые соединения второго эшелона. С ними двигались перешедшие
Неву по четырем наведенным переправам тяжелые и средние тапки,
крупнокалиберная артиллерия. Напор наших передовых частей усилился. 123-я
стрелковая бригада, еще 13 января войдя в стык между дивизиями В. А.
Трубачева и Н. П. Симоняка, приближалась к Рабочему поселку No 1, а дивизия
Н. П. Симоняка -- к Рабочему поселку No 5. По льду Ладоги наступали лыжные
бригады.
Высота Преображенская
Была ли когда-нибудь гладкой и ровной узкая полоса между Невой и
дорогой?.. Нет сомнений -- была. Стояли на ней аккуратные домики с
палисадниками, окруженные огородами. Над гнутыми прутьями, обводившими
зеленые клумбы, поднимались анютины глазки, иван-да-марья. Чистенькие
мостики сбегали к невской воде; подтянутые к ним тугими цепочками, дремали,
противясь течению, рыбацкие лодки... Как археолог находит следы цветения
исчезнувшей жизни под мрачным покровом пустыни, я устанавливаю прошлое этих
мест по выброшенному взрывом мины на берег лодочному веслу, по пробитой
пулеметной очередью зеленой садовой лейке, по черному обглодышу резного
надкрылечного петуха, что торчит из дымящегося квадрата углей и золы...
Сейчас вся эта полоса -- груды развалин, изрезанных ходами сообщений, в
которых валяются обледенелые трупы немцев, и снег запятнан смерзшейся
кровью.
Я стою над коротким, пересекающим мне путь оврагом. Он протянулся от
дороги к Неве и был есте-
ственной преградой па пути наших бойцов к высоте Преображенской. Он
изрыт, он издолблен норами блиндажей, пулеметных гнезд, стрелковых ячеек.
Поперек оврага -- печальное зрелище: лежит разбитый на мелкие куски самолет.
Его мотором вогнана в землю вражеская минометная установка. Слева на снегу
распласталось превращенное в черную головешку тело летчика. Хвост штурмовика
отлетел далеко, на нем большая красная звезда... Я не знаю имени летчика. Но
прекрасный подвиг его мне понятен. В пятнадцати метрах отсюда -- дорога, на
которой мог сделать посадку подбитый огнем врага самолет. Это, безусловно,
вполне зависело от воли летчика. Конечно, он попал бы в плен... Но в ту
последнюю минуту своего полета и своей жизни сильный волей герой склонил
машину прямо на немецкую минометную батарею... Сегодня тело летчика
похоронят. Через год и через сотню лет сюда, к памятнику, который непременно
воздвигнут здесь, будут приходить советские люди, чтобы постоять в молчании,
в раздумье о Великой Отечественной войне.
А сейчас, после откипевшего здесь сражения, я стою над оврагом, еще не
отдавая себе полностью отчета во всех впечатлениях. Рядом со мной стоит в
ватной куртке, с автоматом, висящим поперек груди, маленький, говорливый, с
черными усиками, вздернутым носом и обветренным лицом человек. Это --
командир девятой роты ЗЗО-го полка А. М. Гаркун. Он был здесь и в тот
момент, когда самолет упал, он видел все, но тогда ему было некогда -- он
был занят тогда тем, что сам называет делом, а я назову -- совершением
подвига.
С девятью товарищами он первым переправился на этот берег, сплошь еще
занятый гитлеровцами. В ночной тьме он сумел проскочить Неву, не задетый ни
трассирующими пулями, ни холодным светом спускавшихся на парашютах ракет.
Вместе с товарищами он пробрался вон к тому, ныне разбитому, домику у дороги
и залег там, стреляя во всякого немца, который попадался ему на мушку.
Фашисты были
заняты напряженной обороной: пулеметчики сидели у своих разгоряченных
пулеметов, минометчики слали мины на правый берег, стрелки не смели высунуть
головы из траншей... А десять разведчиков, затаясь в самой гуще врагов,
спокойно выбивали их одного за другим. Семь часов провели они здесь возле
одинокого домика у дороги; перед утром ворвались в него, гранатами убили
немецкого офицера и десяток его солдат. Воспользовавшись переполохом, сумели
под покровом тьмы проскользнуть обратно к Неве, перейти ее, потеряв одного
только человека, и доложили командованию обо всем, что здесь, на старом
развороченном кладбище, видели, что узнали.
И когда на следующий день командир девятой роты старший лейтенант
Александр Гаркун вновь оказался здесь, подойдя теперь не с Невы, а с фланга,
вместе со своей ротой, то все вокруг было ему знакомо -- и домик этот, уже
разбитый снарядами, и этот овраг, и высота Преображенская впереди, такая
таинственная ночью, а теперь, в солнечном свете дня, оказавшаяся совсем
близкой и досягаемой. Вот налево церковь, которую нужно брать, потому что в
ней засели немецкие автоматчики, вот дорога, обходящая высоту справа и
устремленная вдаль, где видны строения Шлиссельбурга, вот еще правее --
гладкое снежное поле, простертое до самого леса. - В этом лесу уже действует
батальон старшего лейтенанта Григория Проценко, оттесняя немцев к
узкоколейке, что протянута за высотой, от леса к Неве. Гаркуну тоже придется
ее пересечь, когда он займет высоту и, спускаясь по ее склонам, выйдет па
штурм Шлиссельбурга...
Собственно говоря, командир третьего батальона 330-го полка капитан
Владимир Заводский вовсе не приказывал Гаркуну брать высоту, слишком хорошо
укрепленную, чтобы можно было овладеть ею силами двух имевшихся в наличии
рот. Эти роты были утомлены тяжелыми боями, которые в первые два дня
наступления вел на своем участке Невы 330-й стрелковый полк. Высоту
Преображенскую важно было хотя бы блокировать, в ожидании подкреплений --
они уже спешили сюда. И потому задача Гаркуну была поставлена ясно:
пройти полем, правее дороги, вперед и, обогнув высоту вдоль линии
узкоколейки, дойдя до Невы, разобщить высоту и город. А чтобы немцы, сидящие
на высоте, не помешали этому, Заводский, в момент когда рота Гаркуна
двинулась, вызвал с правого берега огонь артиллерии по Преображенской и
одновременно стал глушить немцев своей собственной артиллерией -- было у
пего шесть противотанковых орудий и семь минометов.
Семь минут работала артиллерия: с 9. 05 до 9. 12 минут утра 16 января.
Поросшая густым и высоким кладбищенским лесом, круглая, как гигантский
свернувшийся еж, высота ответила артиллерии треском ветвей, стоном
ломающихся стволов, скрежетом разлетающихся под разрывами могильных камней,
бешеной чечеткой надрывающихся немецких пулеметов и автоматов... Но эта
чечетка выбивалась из сил, слабела. Рота Гаркуна прорвалась до самой
узкоколейки вперед, крича "ура!", пересекла ее, достигла Невы, а затем в
минуту, когда наша артиллерия разом замолкла, устремилась со стороны
немецкого тыла на высоту.
Слыша несмолкающее "ура!", Заводский, находившийся по эту сторону
высоты, понял, что Гаркун не остановился, что его рота -- неудержима, и
потому, не медля в решении поддержать инициативу Гаркуна, мгновенно двинул
навстречу ему с этой стороны высоты роту старшего лейтенанта Василия
Семенихина. Теперь "ура" гремело уже с двух сторон высоты. А со стороны
дороги с поля к высоте двинулись три гусеничных трактора с укрепленными на
них станковыми пулеметами. Позже пленные немцы признались, что шум этих
тракторов был принят ими за громыхание танков и что потому, мол, нечего
удивляться панике, охватившей в те минуты эсэсовцев.
Ровно в 10. 00, через пятьдесят пять минут после начала операции,
высота Преображенская была взята, гитлеровцы, кроме нескольких взятых в
плен, истреблены в своих рассекавших могилы траншеях и врезанных в старые
склепы дзотах. Только сотни пол-
торы, находившихся за узкоколейкой, побежали врассыпную в сторону
Шлиссельбурга.
Белокурый, горбоносый, с раскрасневшимся лицом капитан Заводский,
размахивая шапкой, командовал артиллеристами и минометчиками:
-- Скорее, отсечный огонь!
И этот отсечный огонь не заставил себя ждать. А рота Гаркуна
развернулась, устремилась с высоты в погоню за убегавшими гитлеровцами.
Задержанные отсечным огнем, они остановились, беспомощно заметались,
пытались было залечь вдоль узкоколейки, но автоматы и штыки бойцов Гаркуна
не дали им опомниться -- почти все эти гитлеровцы были перебиты. Рота
Гаркуна поспешила дальше, на Шлиссельбург, ворвалась в окраинные его улицы,
заняла три квартала...
Но это было еще преждевременно и неразумно -- фланг у Невы оказался
открытым, другие наши части еще не успели закрыть его, и потому Заводский
приказал Гаркуну немедленно возвратиться из занятых им кварталов и
закрепиться вдоль узкоколейки. Увлеченные успехом, бойцы остановились с
явной неохотой. Однако приказ есть приказ, и он был немедленно выполнен.
Заводский, который и сам бы не прочь двигаться в это утро дальше, доложил
своему командиру, что, взяв высоту Преображенскую и прочно закрепившись,
ждет дальнейших приказаний.
Взятие Шлиссельбурга
Все ближе сходились бойцы двух фронтов. Параллельными дугами, тесно
смыкаясь на флангах, словно циркулем вычерчивая кривую близящейся победы,
обходили Шлиссельбург войска Ленинградского фронта. Все уже становился
коридор между двумя сходящимися фронтами. Наконец этот коридор стал так
узок, что наши войска уже не могли давать огневой вал артиллерии перед
наступающими пехотинцами -- был риск поразить снарядами бойцов встречного
фронта.
Тогда, видимо хорошо уяснив себе смысл донесенного сюда с Волги и Дона
слова "котел", гитлеровцы побежали из Шлиссельбурга. Их давили наступавшие с
юга на город и на тылы его гарнизона полки 86-й дивизии Героя Советского
Союза полковника В. А. Трубачева и батальоны 34-й лыжной бригады
подполковника Я. Ф. Потехина, недавнего журналиста, ставшего строевым
офицером.
К этому времени главные силы 67-й армии оттянули от Шлиссельбурга
основную массу немецких частей и, сокрушив их в бесчисленных очагах боев,
настолько ослабили оборону вражеского гарнизона, настолько деморализовали
его, что дали возможность сравнительно малым силам полка Середина доделать
общее дело. Полк Середина двинулся штурмовать город, а полки Смородкина и
Фомичева, двигаясь в обход города, все больше сближались с наступающими им
навстречу волховчанами.
У каждой из этих частей есть свои заслуги в общем победном деле. 169-й
полк Смородкина и прежде всего бойцы второго батальона А. Гофмана первыми на
своем участке форсировали Неву против развалин совхоза "Овощь" и прорвали
левобережные укрепления врага. 284-й полк Фомичева, вступив на левый берег,
прошел с жестокими боями вдоль всего переднего края фашистов, по береговой
кромке до высоты Преображенской. Здесь, уйдя сам в немецкий тыл, он уступил
место следовавшим за ним частям, чтобы те с этого исходного рубежа могли
обрушить свои атаки на высоту и на город. Все они дружно взаимодействовали.
Мне довелось разговаривать с еще не успокоившимся после боевого азарта
старшим лейтенантом Василием Федоровичем Кондрашевым, который в этот день,
18 января, "сгреб", как он выразился, фашистского капитана, командира
первого батальона 401-го полка 170-й "гренадерской" дивизии, ныне навеки
недвижимой и заметенной снегом почти в полном своем составе.
-- Вбегаю в дом, вижу: сидит за столом офицер, зажав руками виски. На
столе перед ним -- револь-
вер. "Хенде хох!" -- кричу ему, с добавлением, понимаете, нескольких
русских слов. Он встал, поднял руки... И объяснил мне так: был им получен
приказ от фашистского командования немедленно отступить с остатками
батальона. Но едва они двинулись вдоль узкоколейки, новый приказ:
остановиться и- оказать русским сопротивление "до последней капли крови".
Этот капитан -- фамилия его Штейрер -- хотел было выполнить приказ, однако
никакими угрозами уже не мог остановить бегства своих гренадеров. Штейрер
послал им вдогонку офицеров. Те охотно помчались следом и... так же, как
солдаты, не вернулись. Штейрер остался один. Хотел было бежать тоже, да
понял, что начальство расстреляет его за невыполнение приказа. Тогда
вернулся, сел за стол и стал дожидаться нашего появления, чтобы сдаться в
плен...
Вид у него был жалкий, и, охотно выбалтывая нам все немецкие тайны, он
поминутно спрашивал: "А отвечая вам на этот вопрос, я не парушу своей чести
офицера?" Мы со смехом говорили: "Нет, какая у вас может быть честь!" Он
соглашался: "Яволь1, какая может быть честь!" -- и продолжал рассказывать
решительно все и через минуту повторял ту же фразу...
Так же, как "храбрецы" Штейрера, вели себя все части фашистского
гарнизона: бегство было поспешным, паническим. Гитлеровцы бросали в городе
оружие, и награбленное барахлишко, и казенные архивы со всеми секретными
документами, и обмундирование.
Это происходило днем 18-го... Но в предшествующую ночь, когда гарнизон
еще не уяснил себе, что будет вот-вот окружен (ибо немецкое командование на
сей счет обманывало его), отдельные группы эсэсовцев яростно сопротивлялись.
Несколько групп засели в полуразрушенных корпусах ситценабивной
фабрики. Фабрика эта отделена от города каналом, расположена на островке
между ним и Невой.
[*] 1 Да, конечно (нем
).
Сюда в ночь на 18-е двинулась с высоты Преображенской рота Гаркуна.
Другие роты батальона Заводского штурмовали соседние кварталы города,
взаимодействуя на своем правом фланге с батальоном Проценко. Одновременно в
город ворвались девять броневиков, приданных этим батальонам, и артиллеристы
вкатили, действуя в боевых порядках: пехоты, противотанковые орудия.
Гаркун прорвал баррикады из вагонеток и бочек, выставленных на
оконечности островка, подошел к фабрике с двух сторон по очищенным им от
немцев траншеям и занял разрушенное здание между ними. Немецкие автоматчики,
засев во всех трех этажах фабрики, стреляли и вдоль траншей, и в упор по
занятому красноармейцами зданию. Отсюда же, с фабрики, била прямой наводкой
и вражеская пушка. Изза канала по фабрике били наши броневики и
противотанковые орудия, очищая от врага окно за окном. А когда Заводский
окружил фабрику, бой продолжался в ее помещениях -- наши бойцы переползали
по развалинам, выбивая фашистов гранатами. Все поголовно фашистские
автоматчики были истреблены.
После этого нашу занимающую город пехоту ничто не могло задержать. Уже
наступил день. Началось повальное бегство немцев. И только в тех домах,
которые оказывались окруженными нашей пехотой, продолжались ожесточенные
схватки.
Броневики майора Легазы, перешедшие Неву в первый день штурма,
пронеслись по всем улицам города, жители выбегали из домов, встречали наших
бойцов, указывали крыши и подвалы, еще служившие убежищем гитлеровцам. Рота
Гаркуна добивала последних сопротивлявшихся автоматчиков в охваченной
плотным кольцом церкви, боец Губанов уже водружал на ее колокольне красный
флаг.
Город был взят к четырем часам дня. При прочесывании города рота
Гаркуна потеряла одного бойца убитым и одного раненым.
На чердаках, в подвалах, среди догорающих бревен, в норах среди
кирпичных груд лежали трупы фашистов -- их заледенил сильный мороз.
А того узенького, уходящего на юг коридора между двумя нашими
наступающими фронтами больше не существовало -- наши танки, пехота и
артиллерия сделали свое дело: ленинградцы и волховчане сомкнулись.
Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант Николай Павлович
Симоняк.
А эту двухсотметровую полосу обрабатывали только наши орудия прямой
наводки. Плотность огня была такова, что на каждый квадратный метр
левобережья Невы легло в среднем четыре снаряда... Все основные огневые
средства врага на направлении нашего главного удара были превращены в прах,
узлы сопротивления сломлены. Только на участке 45-й гвардейской дивизии А.
А. Краснова да против самого Шлиссельбурга не все огневые точки врага
удалось привести к молчанию, -- о причинах этого я скажу дальше.
В полдень 12 февраля 269-й, 270-й и 342-й полки 136-й дивизии Н. П.
Симоняка по сигналу, одновременно с другими дивизиями, развернутыми цепями
предприняли бросок через Неву. От стремительности и внезапности этого броска
зависел успех всей операции. Сразу после одновременного взрыва минных полей
духовой оркестр в траншеях дивизии заиграл "Интернационал". Первым на лед
выскочил из траншеи батальон 269-го полка, которым командовал ка-
питан Федор Собакин. Рванулись вперед штурмовые блок-группы, за ними --
"основная волна", затем резерв комбата -- стрелковый взвод, отделение ПТР,
отделение обслуживания, два пулеметных расчета и расчет противотанковой
пушки. Долговязый, хорошо тренированный, ловкий и, как всегда, решительный,
капитан Собакин перебежал Неву ровно за четыре минуты. Командиры полков
дивизии Симоняка -- Шерстнев, Федоров, Кожевников, их заместители по
политчасти Хламкин, Чудинов и Бондаренко, все командиры батальонов и их
замполиты -- вопреки обычным положениям устава -- находились впереди цепей.
В этом месте ширина Невы достигает шестисот метров, по отлично
подготовленные бойцы и командиры преодолели Неву за семь -- десять минут.
Немцы открыли артиллерийский огонь лишь тогда, когда наступающим частям
оставалось до левого берега не более ста пятидесяти метров. Огневые средства
и укрепления врага оказались так решительно подавлены, разрушены нашей
артиллерией и авиацией, что немцы не могли встретить атакующую дивизию огнем
станковых пулеметов.
Паши бойцы форсируя Неву, бежали молча: некогда было кричать "ура",
каждый был озабочен тем, как бы скорее достичь противоположного берега и
закрепиться на нем. Ни один боец не залег, ни один не отстал. Потеряв на
льду Невы не более тридцати красноармейцев и только двух командиров, все три
полка дивизии ворвались в береговые траншеи противника, смяли и уничтожили
все на своем пути. Подготовленный немцами в глубоком овраге следующий сильно
укрепленный рубеж, с "ласточкиными гнездами"-- ячейками на склонах оврага --
был сломлен. Столь же стремительно промчавшись дальше, круша узлы
сопротивления, дивизия ворвалась в основной пункт обороны противника --
деревню Марьино, с ходу взяла ее, прочистила все дзоты и блиндажи. Миновав
деревню, с тем же вдохновенным напором взяла населенный пункт Пильня
Мельница, но и тут не задержалась -- продолжала двигаться дальше...
В блистательном успехе этой непрерывной атаки сказался опыт,
приобретенный во время учений на озерах Карельского перешейка -- в
частности, уменье пехоты бесстрашно идти вплотную за передвигающимся по мере
ее продвижения артиллерийским огневым валом. Этот метод атаки был хорошо
отработан, и бойцы были уверены в том, что рвущиеся впереди них наши снаряды
и мины не поразят их. а только расчистят им путь, разметав и уничтожив
врага.
Характерно: за весь день 12 января немцы на всей полосе нашего
наступления нигде не предпринимали контратак. Не до того было!.. Контратаки
начались только со следующего дня, когда к прибрежным гитлеровским частям
стали подходить подкрепления из немецкого тыла.
Во время артподготовки, расчищая четырем нашим дивизиям путь, с правого
берега по левому били все тысяча восемьсот орудий и минометов -- такого
количества артиллерии дотоле еще не сосредоточивал для удара Ленинградский
фронт.
Но только 136-й стрелковой дивизии удалось форсировать реку столь
быстро и почти без потерь. Другим дивизиям на льду Невы пришлось встретить
сильное сопротивление. 45-я гвардейская дивизия, наступавшая в районе
Невского "пятачка" и с самого плацдарма, но недостаточно перед тем
разведавшая цели, сразу же оказалась в трудном положении и еще на льду
понесла жестокие потери. Слева ее держали под сильнейшим огнем гитлеровцы,
засевшие в гигантском железобетонном кубическом здании разрушенной 8-й ГЭС.
Она была давно превращена в сильнейшую крепость1. Ведя жестокие бои и неся
потери, 45-я гвардейская дивизия все семь суток боев удерживала за собой
"пятачок", но не смогла развить наступления...
[*] 1 М. П. Духанов
впоследствии рассказал мне, что ее можно было бы разбить только мощной
морской артиллерией, но такая дальнобойная артиллерия, давая большое
рассеивание, неминуемо раздробила бы весь лед Невы, чем помешала бы штурму,
а кроме того, по той же причине могла бы поразить своих.
Начиная с 13 февраля эту дивизию справа непрерывно контратаковали
крупные гитлеровские резервы, двинутые с юго-востока, и хотя на подмогу ей
были брошены соединения второго эшелона, она вынуждена была только
обороняться.
С первого часа нашего наступления в тяжелом положении неожиданно
оказался и 330-й полк 86-й дивизии В. А. Трубачева. Отлично тренированные
для ночных действий на лыжах в тылу врага, два батальона полка с
несравненной смелостью форсировали Неву против Шлиссельбурга. Но у немцев
здесь оказались скрытые от наблюдения с нашей стороны направленные вкось
амбразуры. Подпустив наши штурмующие батальоны к самому берегу, немцы
внезапно открыли по ним косоприцельный перекрестный огонь. Полк сразу понес
большие потери. В. А. Трубачев, наблюдавший за наступлением из блиндажа на
нашем береговом срезе Невы, приказал уцелевшим людям немедленно вернуться. К
вечеру, пополнив полк, он, по приказанию М. П. Духанова, направил его вместе
с резервным 284-м полком к Черной речке -- на участок, удачно прорванный
136-й дивизией (и правофланговым, 169-м полком 86-й дивизии).
В прорыв, сделанный дивизией Н. П. Симоняка, двинулись и 86-я и 268-я
стрелковые дивизии, а затем, по их следам, каждый день двигались дивизии и
бригады второго эшелона армии. Все они, действуя плечом к плечу с частями
первого эшелона, наращивали силу общего удара и расширяли общий фронт
наступления.
Невозможно рассказать о бесчисленных проявлениях героизма бойцов и
командиров. Упомяну только об одном -- о подвиге тридцатичетырехлетнего
красноармейца третьего батальона 270-го стрелкового полка дивизии Н. П.
Симоняка Дмитрия Семеновича Молодцова, в прошлом -- механика шхуны
"Знаменка" Балтийской дноуглубительной флотилии. 13 января, когда батальон
прошел рощу "Мак" и пошел в атаку па высотку 20. 4, ил пути к Рабочему
поселку No 1 он был встречен сильным пулеметным огнем из дзота. Молодцов в
тот момент тянул связь от КП
своего батальона. Три бойца, кинувшиеся к дзоту, погибли. Тогда
Молодцов отложил катушку с кабелем и пополз к огневой точке. Подползая к
дзоту, он увидел на снегу убитого земляка Константина Усова, тот лежал с
гранатой, зажатой в вытянутой руке. Молодцов взял из его руки гранату,
подполз к дзоту, бросил гранату. Она разорвалась, ударившись в угол
амбразуры. Молодцов швырнул еще две своих, но умолкнувший было пулемет вдруг
заговорил: на дзот шла в атаку вторая рота. Молодцов отполз в сторону, встал
во весь рост, сбоку подбежал к амбразуре, ухватился пальцами за бревна, за
стреляющий пулемет, подтянулся и закрыл собой амбразуру, -- больше гранат у
него не было. Пулемет умолк. И тогда, подбежав к дзоту, ближайший друг
Молодцова Василий Семенов рванул дверь дзота, швырнул в гитлеровцев
гранату... Молодцов пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы бойцы его роты
могли свободно атаковать находившуюся под прикрытием этого дзота тяжелую
немецкую батарею. И четырехпушечная батарея 305-миллиметровых была захвачена
второй ротой.
В следующие несколько суток, не задерживаясь для отдыха, дивизия вместе
с танками и артиллерией продолжала вгрызаться в разветвленную систему
укреплений врага.
Хорошего успеха с начала боя добилась и 268-я стрелковая дивизия С. Н.
Борщева. Ее 952-й полк подполковника Клюканова (уже прославившегося на
Ивановском плацдарме) и 942-й полк полковника Козино первыми захватили
траншеи вражеского переднего края, прошли вперед от полутора до трех
километров, углубились в лес, сметая немецкие контратаки на пути к Рабочему
поселку No 5.
Немцы, укрепив силы своей разгромленной 170-й пехотной дивизии сначала
двумя, брошенными из резерва, а потом и дополнительными пехотными дивизиями,
тапками, тяжелой артиллерией, переходя в непрерывные контратаки, оказывали
нашим наступающим частям все более яростное сопротивление. Они бросили сюда
и всю наличную авиацию, но наши
самолеты по-прежнему господствовали в воздухе, как это было с первого
дня наступления.
Командующий 67-й армией ввел в бой против Невской Дубровки 13-ю
стрелковую дивизию В. П. Якутовича, в леса южнее Марьина -- 123-ю отдельную
стрелковую бригаду подполковника Шипова, а на прочие участки фронта --
другие стрелковые соединения второго эшелона. С ними двигались перешедшие
Неву по четырем наведенным переправам тяжелые и средние тапки,
крупнокалиберная артиллерия. Напор наших передовых частей усилился. 123-я
стрелковая бригада, еще 13 января войдя в стык между дивизиями В. А.
Трубачева и Н. П. Симоняка, приближалась к Рабочему поселку No 1, а дивизия
Н. П. Симоняка -- к Рабочему поселку No 5. По льду Ладоги наступали лыжные
бригады.
Высота Преображенская
Была ли когда-нибудь гладкой и ровной узкая полоса между Невой и
дорогой?.. Нет сомнений -- была. Стояли на ней аккуратные домики с
палисадниками, окруженные огородами. Над гнутыми прутьями, обводившими
зеленые клумбы, поднимались анютины глазки, иван-да-марья. Чистенькие
мостики сбегали к невской воде; подтянутые к ним тугими цепочками, дремали,
противясь течению, рыбацкие лодки... Как археолог находит следы цветения
исчезнувшей жизни под мрачным покровом пустыни, я устанавливаю прошлое этих
мест по выброшенному взрывом мины на берег лодочному веслу, по пробитой
пулеметной очередью зеленой садовой лейке, по черному обглодышу резного
надкрылечного петуха, что торчит из дымящегося квадрата углей и золы...
Сейчас вся эта полоса -- груды развалин, изрезанных ходами сообщений, в
которых валяются обледенелые трупы немцев, и снег запятнан смерзшейся
кровью.
Я стою над коротким, пересекающим мне путь оврагом. Он протянулся от
дороги к Неве и был есте-
ственной преградой па пути наших бойцов к высоте Преображенской. Он
изрыт, он издолблен норами блиндажей, пулеметных гнезд, стрелковых ячеек.
Поперек оврага -- печальное зрелище: лежит разбитый на мелкие куски самолет.
Его мотором вогнана в землю вражеская минометная установка. Слева на снегу
распласталось превращенное в черную головешку тело летчика. Хвост штурмовика
отлетел далеко, на нем большая красная звезда... Я не знаю имени летчика. Но
прекрасный подвиг его мне понятен. В пятнадцати метрах отсюда -- дорога, на
которой мог сделать посадку подбитый огнем врага самолет. Это, безусловно,
вполне зависело от воли летчика. Конечно, он попал бы в плен... Но в ту
последнюю минуту своего полета и своей жизни сильный волей герой склонил
машину прямо на немецкую минометную батарею... Сегодня тело летчика
похоронят. Через год и через сотню лет сюда, к памятнику, который непременно
воздвигнут здесь, будут приходить советские люди, чтобы постоять в молчании,
в раздумье о Великой Отечественной войне.
А сейчас, после откипевшего здесь сражения, я стою над оврагом, еще не
отдавая себе полностью отчета во всех впечатлениях. Рядом со мной стоит в
ватной куртке, с автоматом, висящим поперек груди, маленький, говорливый, с
черными усиками, вздернутым носом и обветренным лицом человек. Это --
командир девятой роты ЗЗО-го полка А. М. Гаркун. Он был здесь и в тот
момент, когда самолет упал, он видел все, но тогда ему было некогда -- он
был занят тогда тем, что сам называет делом, а я назову -- совершением
подвига.
С девятью товарищами он первым переправился на этот берег, сплошь еще
занятый гитлеровцами. В ночной тьме он сумел проскочить Неву, не задетый ни
трассирующими пулями, ни холодным светом спускавшихся на парашютах ракет.
Вместе с товарищами он пробрался вон к тому, ныне разбитому, домику у дороги
и залег там, стреляя во всякого немца, который попадался ему на мушку.
Фашисты были
заняты напряженной обороной: пулеметчики сидели у своих разгоряченных
пулеметов, минометчики слали мины на правый берег, стрелки не смели высунуть
головы из траншей... А десять разведчиков, затаясь в самой гуще врагов,
спокойно выбивали их одного за другим. Семь часов провели они здесь возле
одинокого домика у дороги; перед утром ворвались в него, гранатами убили
немецкого офицера и десяток его солдат. Воспользовавшись переполохом, сумели
под покровом тьмы проскользнуть обратно к Неве, перейти ее, потеряв одного
только человека, и доложили командованию обо всем, что здесь, на старом
развороченном кладбище, видели, что узнали.
И когда на следующий день командир девятой роты старший лейтенант
Александр Гаркун вновь оказался здесь, подойдя теперь не с Невы, а с фланга,
вместе со своей ротой, то все вокруг было ему знакомо -- и домик этот, уже
разбитый снарядами, и этот овраг, и высота Преображенская впереди, такая
таинственная ночью, а теперь, в солнечном свете дня, оказавшаяся совсем
близкой и досягаемой. Вот налево церковь, которую нужно брать, потому что в
ней засели немецкие автоматчики, вот дорога, обходящая высоту справа и
устремленная вдаль, где видны строения Шлиссельбурга, вот еще правее --
гладкое снежное поле, простертое до самого леса. - В этом лесу уже действует
батальон старшего лейтенанта Григория Проценко, оттесняя немцев к
узкоколейке, что протянута за высотой, от леса к Неве. Гаркуну тоже придется
ее пересечь, когда он займет высоту и, спускаясь по ее склонам, выйдет па
штурм Шлиссельбурга...
Собственно говоря, командир третьего батальона 330-го полка капитан
Владимир Заводский вовсе не приказывал Гаркуну брать высоту, слишком хорошо
укрепленную, чтобы можно было овладеть ею силами двух имевшихся в наличии
рот. Эти роты были утомлены тяжелыми боями, которые в первые два дня
наступления вел на своем участке Невы 330-й стрелковый полк. Высоту
Преображенскую важно было хотя бы блокировать, в ожидании подкреплений --
они уже спешили сюда. И потому задача Гаркуну была поставлена ясно:
пройти полем, правее дороги, вперед и, обогнув высоту вдоль линии
узкоколейки, дойдя до Невы, разобщить высоту и город. А чтобы немцы, сидящие
на высоте, не помешали этому, Заводский, в момент когда рота Гаркуна
двинулась, вызвал с правого берега огонь артиллерии по Преображенской и
одновременно стал глушить немцев своей собственной артиллерией -- было у
пего шесть противотанковых орудий и семь минометов.
Семь минут работала артиллерия: с 9. 05 до 9. 12 минут утра 16 января.
Поросшая густым и высоким кладбищенским лесом, круглая, как гигантский
свернувшийся еж, высота ответила артиллерии треском ветвей, стоном
ломающихся стволов, скрежетом разлетающихся под разрывами могильных камней,
бешеной чечеткой надрывающихся немецких пулеметов и автоматов... Но эта
чечетка выбивалась из сил, слабела. Рота Гаркуна прорвалась до самой
узкоколейки вперед, крича "ура!", пересекла ее, достигла Невы, а затем в
минуту, когда наша артиллерия разом замолкла, устремилась со стороны
немецкого тыла на высоту.
Слыша несмолкающее "ура!", Заводский, находившийся по эту сторону
высоты, понял, что Гаркун не остановился, что его рота -- неудержима, и
потому, не медля в решении поддержать инициативу Гаркуна, мгновенно двинул
навстречу ему с этой стороны высоты роту старшего лейтенанта Василия
Семенихина. Теперь "ура" гремело уже с двух сторон высоты. А со стороны
дороги с поля к высоте двинулись три гусеничных трактора с укрепленными на
них станковыми пулеметами. Позже пленные немцы признались, что шум этих
тракторов был принят ими за громыхание танков и что потому, мол, нечего
удивляться панике, охватившей в те минуты эсэсовцев.
Ровно в 10. 00, через пятьдесят пять минут после начала операции,
высота Преображенская была взята, гитлеровцы, кроме нескольких взятых в
плен, истреблены в своих рассекавших могилы траншеях и врезанных в старые
склепы дзотах. Только сотни пол-
торы, находившихся за узкоколейкой, побежали врассыпную в сторону
Шлиссельбурга.
Белокурый, горбоносый, с раскрасневшимся лицом капитан Заводский,
размахивая шапкой, командовал артиллеристами и минометчиками:
-- Скорее, отсечный огонь!
И этот отсечный огонь не заставил себя ждать. А рота Гаркуна
развернулась, устремилась с высоты в погоню за убегавшими гитлеровцами.
Задержанные отсечным огнем, они остановились, беспомощно заметались,
пытались было залечь вдоль узкоколейки, но автоматы и штыки бойцов Гаркуна
не дали им опомниться -- почти все эти гитлеровцы были перебиты. Рота
Гаркуна поспешила дальше, на Шлиссельбург, ворвалась в окраинные его улицы,
заняла три квартала...
Но это было еще преждевременно и неразумно -- фланг у Невы оказался
открытым, другие наши части еще не успели закрыть его, и потому Заводский
приказал Гаркуну немедленно возвратиться из занятых им кварталов и
закрепиться вдоль узкоколейки. Увлеченные успехом, бойцы остановились с
явной неохотой. Однако приказ есть приказ, и он был немедленно выполнен.
Заводский, который и сам бы не прочь двигаться в это утро дальше, доложил
своему командиру, что, взяв высоту Преображенскую и прочно закрепившись,
ждет дальнейших приказаний.
Взятие Шлиссельбурга
Все ближе сходились бойцы двух фронтов. Параллельными дугами, тесно
смыкаясь на флангах, словно циркулем вычерчивая кривую близящейся победы,
обходили Шлиссельбург войска Ленинградского фронта. Все уже становился
коридор между двумя сходящимися фронтами. Наконец этот коридор стал так
узок, что наши войска уже не могли давать огневой вал артиллерии перед
наступающими пехотинцами -- был риск поразить снарядами бойцов встречного
фронта.
Тогда, видимо хорошо уяснив себе смысл донесенного сюда с Волги и Дона
слова "котел", гитлеровцы побежали из Шлиссельбурга. Их давили наступавшие с
юга на город и на тылы его гарнизона полки 86-й дивизии Героя Советского
Союза полковника В. А. Трубачева и батальоны 34-й лыжной бригады
подполковника Я. Ф. Потехина, недавнего журналиста, ставшего строевым
офицером.
К этому времени главные силы 67-й армии оттянули от Шлиссельбурга
основную массу немецких частей и, сокрушив их в бесчисленных очагах боев,
настолько ослабили оборону вражеского гарнизона, настолько деморализовали
его, что дали возможность сравнительно малым силам полка Середина доделать
общее дело. Полк Середина двинулся штурмовать город, а полки Смородкина и
Фомичева, двигаясь в обход города, все больше сближались с наступающими им
навстречу волховчанами.
У каждой из этих частей есть свои заслуги в общем победном деле. 169-й
полк Смородкина и прежде всего бойцы второго батальона А. Гофмана первыми на
своем участке форсировали Неву против развалин совхоза "Овощь" и прорвали
левобережные укрепления врага. 284-й полк Фомичева, вступив на левый берег,
прошел с жестокими боями вдоль всего переднего края фашистов, по береговой
кромке до высоты Преображенской. Здесь, уйдя сам в немецкий тыл, он уступил
место следовавшим за ним частям, чтобы те с этого исходного рубежа могли
обрушить свои атаки на высоту и на город. Все они дружно взаимодействовали.
Мне довелось разговаривать с еще не успокоившимся после боевого азарта
старшим лейтенантом Василием Федоровичем Кондрашевым, который в этот день,
18 января, "сгреб", как он выразился, фашистского капитана, командира
первого батальона 401-го полка 170-й "гренадерской" дивизии, ныне навеки
недвижимой и заметенной снегом почти в полном своем составе.
-- Вбегаю в дом, вижу: сидит за столом офицер, зажав руками виски. На
столе перед ним -- револь-
вер. "Хенде хох!" -- кричу ему, с добавлением, понимаете, нескольких
русских слов. Он встал, поднял руки... И объяснил мне так: был им получен
приказ от фашистского командования немедленно отступить с остатками
батальона. Но едва они двинулись вдоль узкоколейки, новый приказ:
остановиться и- оказать русским сопротивление "до последней капли крови".
Этот капитан -- фамилия его Штейрер -- хотел было выполнить приказ, однако
никакими угрозами уже не мог остановить бегства своих гренадеров. Штейрер
послал им вдогонку офицеров. Те охотно помчались следом и... так же, как
солдаты, не вернулись. Штейрер остался один. Хотел было бежать тоже, да
понял, что начальство расстреляет его за невыполнение приказа. Тогда
вернулся, сел за стол и стал дожидаться нашего появления, чтобы сдаться в
плен...
Вид у него был жалкий, и, охотно выбалтывая нам все немецкие тайны, он
поминутно спрашивал: "А отвечая вам на этот вопрос, я не парушу своей чести
офицера?" Мы со смехом говорили: "Нет, какая у вас может быть честь!" Он
соглашался: "Яволь1, какая может быть честь!" -- и продолжал рассказывать
решительно все и через минуту повторял ту же фразу...
Так же, как "храбрецы" Штейрера, вели себя все части фашистского
гарнизона: бегство было поспешным, паническим. Гитлеровцы бросали в городе
оружие, и награбленное барахлишко, и казенные архивы со всеми секретными
документами, и обмундирование.
Это происходило днем 18-го... Но в предшествующую ночь, когда гарнизон
еще не уяснил себе, что будет вот-вот окружен (ибо немецкое командование на
сей счет обманывало его), отдельные группы эсэсовцев яростно сопротивлялись.
Несколько групп засели в полуразрушенных корпусах ситценабивной
фабрики. Фабрика эта отделена от города каналом, расположена на островке
между ним и Невой.
[*] 1 Да, конечно (нем
).
Сюда в ночь на 18-е двинулась с высоты Преображенской рота Гаркуна.
Другие роты батальона Заводского штурмовали соседние кварталы города,
взаимодействуя на своем правом фланге с батальоном Проценко. Одновременно в
город ворвались девять броневиков, приданных этим батальонам, и артиллеристы
вкатили, действуя в боевых порядках: пехоты, противотанковые орудия.
Гаркун прорвал баррикады из вагонеток и бочек, выставленных на
оконечности островка, подошел к фабрике с двух сторон по очищенным им от
немцев траншеям и занял разрушенное здание между ними. Немецкие автоматчики,
засев во всех трех этажах фабрики, стреляли и вдоль траншей, и в упор по
занятому красноармейцами зданию. Отсюда же, с фабрики, била прямой наводкой
и вражеская пушка. Изза канала по фабрике били наши броневики и
противотанковые орудия, очищая от врага окно за окном. А когда Заводский
окружил фабрику, бой продолжался в ее помещениях -- наши бойцы переползали
по развалинам, выбивая фашистов гранатами. Все поголовно фашистские
автоматчики были истреблены.
После этого нашу занимающую город пехоту ничто не могло задержать. Уже
наступил день. Началось повальное бегство немцев. И только в тех домах,
которые оказывались окруженными нашей пехотой, продолжались ожесточенные
схватки.
Броневики майора Легазы, перешедшие Неву в первый день штурма,
пронеслись по всем улицам города, жители выбегали из домов, встречали наших
бойцов, указывали крыши и подвалы, еще служившие убежищем гитлеровцам. Рота
Гаркуна добивала последних сопротивлявшихся автоматчиков в охваченной
плотным кольцом церкви, боец Губанов уже водружал на ее колокольне красный
флаг.
Город был взят к четырем часам дня. При прочесывании города рота
Гаркуна потеряла одного бойца убитым и одного раненым.
На чердаках, в подвалах, среди догорающих бревен, в норах среди
кирпичных груд лежали трупы фашистов -- их заледенил сильный мороз.
А того узенького, уходящего на юг коридора между двумя нашими
наступающими фронтами больше не существовало -- наши танки, пехота и
артиллерия сделали свое дело: ленинградцы и волховчане сомкнулись.
 Сообщение Совинформбюро о прорыве блокады.
ступлении не понадобился бойцы регулярно, трижды в день, получали
горячую пищу в термосах, нормы были повышенными, питание организовано хорошо
После того как взятая штурмом насыпь узкоколейки была пройдена, груза у всех
убавилось, потому что часть его навью шли на захваченных лошадей
Никто не знал, где в данный момент волховчане и потому готовились
подойти к деревне Липки и paзвернуться к бою, чтобы взять эту деревню
штурмом Предполагалось, что еще немало немцев встретится на шути Идущий
впереди дозор внимательно вглядывался в белесую мглу
Только что под бровкой канала был обнаружен продовольственный оклад,
задерживаться из-за пего не хотелось, выделять бойцов для охраны было бы
неразумно -- в тылу могли оказаться удравшие из Шлиссельбурга и скрывшиеся в
лесу фашисты Майор В. Д. Ломанов, красивый рослый моряк, предупредил всех об
осторожности склад мог быть минирован Оказалось, однако, что гитлеровцы в
поспешном бегстве не успели сделать этого
Быстро стемнело Впереди всех шли разведчики под командой старшего
сержанта командира взвода разведчиков Кириченко Их было человек двадцать
Кириченко тихо промолвил "Стой'" Разведчики сразу остановились Впереди на
бровке канала, показались какие-то фигуры
Разведчики залегли, с автоматами наготове поползли вперед
Всем очень захотелось, чтобы темные фигуры впереди оказались не
гитлеровцами, чтоб это -- великое и долгожданное событие -- именно сейчас,
(Незамедлительно, свершилось.
Каждый повторил про себя установленный пароль встречи
Каждый боец знал, что в момент встречи он должен поднять свою винтовку
или свой автомат двумя руками и, держа его поперек груди, крикнуть "Победа1"
Разведчики взялись за оружие двумя руками, но тут же усомнились а если
все-таки враг?
Но, подпустив встречных на близкое расстояние, не обнаруживая себя,
разводчики ясно различили такие же, как у них самих, маскхалаты, такие же
шапки-ушанки и полушубки, наши советские автоматы
Можно было вскочить, кинуться навстречу, по. Кириченко поступил по
уставу: он подманил к себе рукой старшего сержанта Шалагина, взволнованно
прошептал ему
-- Беги, докладывай!
И, напрягая зрение, взглянул на часы Было 18 часов 40 минут
Шалагин опрометью побежал назад, срывающимся голосом доложил Фомичеву
Товарищ подполковник! Волховские идут'
Не ошибся? -- почувствовав, как екнуло сердце, опросил Фомичев.
Как можно, товарищ подполковник?! Да своими ж глазами'
И Николай Иванович Фомичев, повернувшись к комбату Жукову, приказал ему
остановить батальон А сам вместе с майором Ломановым вышел вперед
Разрешите с вами, товарищ подполковник? -- торопливо проговорил
адъютант лейтенант Шевченко
Да.. И возьмите лучших автоматчиков Человек семь..
Все эти фразы произносились торопливо, взволнованно, горячим
полушепотом -- историческое значение происходящего обжигало сознание каждого
Семь автоматчиков со своими командирами степенным шагом двинулись по
береговой бровке канала навстречу тем, кто там, впереди, также остановился и
откуда пока также не доносилось никаких голосов Этими семью автоматчиками
были командир взвода старший сержант Иван Пашков, старший сержант Владимир
Мерцалов, помкомвзвода младший сержант Петр Копчун, красноармейцы Василии
Мельник, Василий Жилкин, Леонтии Синенко, Усман Еникеев Каждый из них
сегодня перебил немало врагов.
-- Кто идет? -- впервые громко крикнул Фомичев, сблизившись с
невидимыми во мраке застывшими на месте фигурами
Свои, волховчане! -- донесся радостный отклик И тут кто-то из
автоматчиков, не удержавшись, возгласил на всю тишину канала.
Даешь Липки!
Липки наши! -- послышался веселый голос из темноты.
Но никто не сдвинулся с места, потому что все видели: подполковник
Фомичев и майор Ломанов при свете электрического фонарика проверяют
документы двух волховских командиров и показывают им свои.
-- Ну, правильно все! -- наконец громко произнес Фомичев. -- Здорово,
друзья! -- И направил луч фонаря прямо в смеющиеся лица майора Гриценко --
заместителя командира встречной 12-й отдельной лыжной бригады, и капитана
Коптева -- начальника артиллерии 128-й стрелковой дивизии.
Фонарь тут же полетел в снег, широко распахнутые объятия двух
командиров сомкнулись, они расцеловались так, словно были родными братьями.
И сразу же, как волной, смыло всякий порядок. Бойцы и командиры двух
фронтов хлынули навстречу друг другу. Объятия и поцелуи прошедших сквозь
смерть и огонь мужчин-воинов, никогда прежде не видавших друг друга, -- это
бывает только на войне, только в час доброй победы! Словно веселый лес
зашумел над снежным и темным каналом, вопросы, поздравления и смех слились в
один непередаваемый гул ликования. Но вот в этом гуле стало возможным
различить отдельные фразы:
-- Давно не видались!.. Лица-то у вас здоровые, а мы думали, что вы
дистрофики... Гляди, поздоровей наших!.. Ну, как Ленинград? Как жили?
Новый друг Фомичева подхватил тот же вопрос:
-- Как жили?
И Фомичев ответил:
Было плохо, теперь хорошо, -- и добавил (позже ему было смешно
вспоминать об этом): -- Двадцать семь линий трамвая ходят.
Ну да?
Точно!
Фомичев и сам не знает, почему он решил в ту минуту, что именно
двадцать семь!
Свет! Вода! Жить стало культурно, хорошо!
А как побит Ленинград? Очень сильно?
Есть места побитые, а в общем -- ничего... Стоит!
Да еще как стоит! Победителем!.. А как продукты к вам поступали?
По Ладожской.
Это мы знаем, что по Ладожской, а все-таки трудно?
Чего там трудного! Одинаковую норму возили, -- что вы, то и мы едим...
А боеприпасы?
-- А мы сами их делаем, еще вам взаймы можем дать... Небось артиллерию
нашу слышали?
-- О-го-го! Вот уж это действительно, мы удивлялись даже...
И тут в разговор вмешался подскочивший сбоку капитан Коптев:
Родные ленинградцы, я ваших всех перецеловал!
Ну и мы тебя поцелуем! -- расхохотался Фомичев.
И минут пять все окружающие подряд мяли и целовали растерявшегося,
уронившего шапку Коптева...
А затем подполковник Фомичев приказал восстановить порядок. Волховчане
и ленинградцы разошлись на сто метров, построились. В подразделениях
начались митинги. Под насыпью, в дружно очищенной бойцами землянке связи,
была развернута найденная там кипа мануфактуры. Она помогла придать землянке
праздничный вид. Совместный ужин командиров был назначен на 20 часов.
Продуктов было хоть отбавляй, не нашлось лишь ни капли водки, а двух бутылок
предложенного кем-то красного вина хватило, только чтобы налить каждому по
маленькой стопочке.
-- Чем будем угощать ленинградцев? -- воскликнул Коптев. -- Как же это
так не предусмотрели?
И тут связной капитана, Гриша, хитро сощурив глаза, вытянул из кармана
своих ватных штанов за-
ветную поллитровку. Только успели распить ее, волховчане получили
приказ по радио: поскольку штурмовать Шлиссельбург оказалось ненужным,
отойти обратно на Липки.
А ровно через пятнадцать минут такой же приказ по радио получил
подполковник Фомичев: поскольку штурмовать Липки оказалось ненужным, отойти
на Шлиссельбург...
И тотчас же, горячо распрощавшись, оставляя за собой боевое охранение,
волховчане и ленинградцы пошли выполнять полученные ими приказы.
В Шлиссельбурге
Мы в городе. Вчера еще в нем владычествовали гитлеровцы. По рассеянным
над снежным покровом развалинам, по торчащим из снега обгорелым бревнам, по
печным трубам, похожим "а кладбищенские памятники, трудно определить даже
границы исчезнувших кварталов. Очень немногие, зияющие пустыми глазницами
окон кирпичные дома сохранили хоть приблизительно свои первоначальные формы.
Позже я узнал, что из восьмисот домов, имевшихся в городе до захвата его
гитлеровцами, уцелело лишь шестьдесят, да и то большая часть их приходится
на приселок, вытянувшийся вдоль Ново-Ладожского канала, строго говоря, уже
за чертою города. В комендатуре оставлен на стене огромный план
Шлиссельбурга, вычерченный с поистине дьявольской педантичностью,
свойственной современным тевтонам. Все сожженные дома на плане обозначены
красной краской. Все разрушенные перечеркнуты крест-накрест, а уцелевшие
залиты желтой тушью. Только тщательно вглядываясь в этот немецкий план,
можно по пальцам пересчитать редкие желтые пятнышки.
Мы въехали в город по улице, сплошь усеянной еще не втоптанными в грязь
винтовочными патронами, заваленной выброшенным из окон и подвалов хламом.
Население торопилось вышвырнуть из своих полуразрушенных жилищ все
относящееся к нена-
вистным оккупантам: их амуницию, пустые бутылки из-под французского
коньяка, патентованные средства, геббельсовскую литературу, громоздкие
соломенные эрзац-валенки и суконные солдатские боты на толстой деревянной
подошве, изломанное оружие, всевозможную загаженную (Казарменную требуху...
Улицы запружены обозами вступивших в город красноармейских частей.
Дымят полевые кухни, грузовики с продовольствием и боеприпасами настойчиво
прокладывают себе дорогу Всю неделю боев армейцам приходилось спать на снегу
-- теперь они торопятся наладить себе жилье. Звенят пилы, стучат топоры,
молотки -- надо забить досками зияющие окна, исправить печи в разысканных
среди развалин комнатах.
Всюду слышатся веселые голоса. Разговоры о победе, о наступлении, о
встрече с волховчанами, о железной дороге, по которой скоро можно будет
ехать прямым сообщением из Ленинграда в Москву, -- каждый хотел бы
удостоиться чести совершить этот путь, и именно в первом поезде!..
Над пробитой снарядами колокольней церкви висит красный флаг -- его
водрузил красноармеец третьего батальона 330-го стрелкового полка М. Г.
Губанов после того, как 37-миллиметровая пушка, стрелявшая с этой
колокольни, была разбита прямым попаданием из орудия, которое паши
артиллеристы подкатили вплотную к церкви В подвале церкви бойцы роты Гаркуна
еще дрались с последними автоматчиками из той полусотни "смертников", что
засела здесь, а Губанов уже спускался с колокольни под приветственные крики
"ура!".
Мы остановились возле броневика, над которым его экипаж воздвигал
антенну. То был один из девяти броневиков, приданных 330-му стрелковому
полку подполковника Середина, первым вступившему в город. На этих броневиках
пехотинцы прочесывали центральные улицы, истребляя последних, стрелявших из
подвалов и окон фашистских автоматчиков, уже окруженных, не успевших вместе
со всем гитлеровским воинством предаться поспешному бегству.
Ища коменданта города, мы вернулись к окраинным кварталам и увидели
против разбитых цехов ситценабивной фабрики остатки большого немецкого
кладбища. Население вместе с бойцами рубило на нем кресты, чтобы стереть с
лица земли и эти следы фашистского нашествия. Чуть дальше группа женщин
выволакивала из-за забора два скрюченных замороженных трупа эсэсовцев.
Красно-черная нарукавная повязка одного из них зацепилась за колья забора и
осталась лежать на снегу. Взвалив трупы на саночки, женщины потащили их...
Солнце скрылось за горизонтом. Город погрузился во тьму. В нем не было
ни освещения, ни водопровода, в нем не было ничего, присущего каждому
населенному пункту. Он был еще мертв.
На перекрестке двух разбаррикадированных улиц регулировщики указали нам
полуразрушенный дом, в котором мы найдем коменданта. Майор Гальмин,
комендант, сидел за большим письменным столом против потрескивающей сухими
дровами печки. Два огарка в бронзовых подсвечниках мигали, потому что дверь
то и дело приотворялась: с мороза входили все новые люди в шинелях и
полушубках. Входили торопливо, каждому было некогда, каждый хотел как можно
скорее порешить с комендантом свои 'неотложные дела.
А он сидел за столом, перебирая пачку принесенных ему красноармейцем
писем, не знал, за которое взяться раньше, разрывал один конверт за другим и
одновременно отвечал хриплым от ночевок на снегу голосом -- худой, усталый,
с блестящими от волнения глазами.
Он отвечал быстрыми, точными словами и снова принимался читать письмо
вслух всем обступившим его незнакомым людям:
-- "Костя, у меня не будет ни одного "посредственно"... Папа сложил
печку, в комнате у нас стало теплее... "
Это было письмо от племянницы из Москвы, и все обступившие стол -- люди
в шинелях и полушубках -- отвлекались от своих насущных, не терпящих отлага-
тельства дел и слушали внимательно. Не дочитав письма, майор откладывал
его, брался за другое и одновременно, обращаясь к кому-то из тех, кто стоял
в темном углу комнаты, отдавал приказание:
-- Сообщите по радио, в тринадцать ноль-ноль начался артобстрел,
методический, выпущено тридцать снарядов!
Едва он заканчивал фразу, окружающие его торопили:
-- Дальше, дальше-то что пишет племянница?
И комендант Шлиссельбурга снова брался за письмо.
-- Нет, это не то!.. Должно быть, письмо от жены, с фотокарточкой --
давно обещала. Если без фотокарточки, я и читать не стану!
И наконец, найдя по почерку письмо от жены, вытянул его из конверта, и
на стол выпал тусклый фотографический снимок.
-- Ой-ой-ой, вот это я ждал! -- хриплым шепотом возгласил комендант,
вставая, склоняясь над свечкой. -- И дочка, дочка Галина, год и три месяца
ей, я еще ни разу в жизни ее не видел!.. А вы, товарищ лейтенант, возьмите
роту и обойдите все землянки вдоль южных кварталов, только саперов возьмите,
там мин полно. Ясно? Ясно, ну идите!.. "Поздравляю тебя, Костенька, с Новый
годом... " С Новым годом поздравляет меня жена, понимаете? Вот ее
фотокарточка!
И фотография пошла по рукам командиров и красноармейцев, а майор, вновь
берясь за другую, где -- дочка, смеялся:
-- Галиночка-то какая толстая получилась, весь фокус заняла... В
Кировской она области, понимаете?
Все, решительно все понимали состояние коменданта! Все были семь суток
в бою, все ночевали в снегу, всем остро хотелось писем от родных и друзей...
А на стене висел вражеский план сожженного города, а полуразбитый дом вновь
заходил ходуном, потому что на заваленных трофеями, залитых кровью улицах
опять стали разрываться снаряды. Но никто не обращал внимания на разрывы,
все жадно вслушива-
лись в письмо далекой женщины к сидящему за столом счастливому мужу...
В этот час все в городе были счастливы -- и те, кто пришли сюда, и те,
"то шестнадцать месяцев дожидались пришедших. Немногие дождались: из шести
тысяч жителей, находившихся в Шлиссельбурге в момент оккупации его
гитлеровцами, осталось только триста двадцать человек, из которых мужчин
было не больше двух-трех десятков. Две с половиной тысячи шлиссельбуржцев
умерли от голода и лишений, многие были замучены, остальные отправлены в
глубокий -вражеский тыл. Фашисты кое-как кормили тех, кого им удалось
заставить работать. Кормили, например, единственную в городе артель
плотников и столяров, которая изготовляла гробы. Гробов требовалось немало:
советская артиллерия каждый день отправляла эсэсовцев к праотцам.
Гитлеровцы, живя в [городе, нервничали. В каждом сохранившемся или
полуразрушенном доме, с южной его стороны, они посреди комнат построили
блиндажи, северная половина дома служила блиндажу прикрытием. В блиндажах
фашисты старались устроиться с комфортом, стаскивали в них диваны, зеркала,
пианино и самовары, ковры и хрусталь, кружевные занавески и пуховые
одеяла... Русское население ютилось в землянках в лесу. Каждое утро всех
выгоняли на работу на рытье траншей, на строительство дзотов. С двух часов
дня ни один русский человек не смел показаться на улицах, каждого
запоздавшего хотя бы на пять минут ждали плети или расстрел.
Три сотни бледных, запуганных жителей из шести тысяч! Им долго еще надо
привыкать к мысли, что 'настало наконец время, когда обо всем можно говорить
громко и внятно, в уверенности, что ни один фашист, ни один подосланный
бургомистром предатель-доносчик их не подслушает, что за правду их не
потащат ни на пытки, ни на расстрел... Все они, как больные, в первый paз
открывшие глаза после долгого беспамятства, в котором их беспрестанно терзал
кошмар.
Мы ушли из комендатуры, полные впечатлений от
рассказов, какими обменивались толпившиеся здесь люди.
В политотделе дивизии В. А. Трубачева, расположившемся в трех уцелевших
комнатах разбитого, перерезанного траншеей дома, мы легли спать -- так же,
как и все, на поломанных железных кроватях, на голых и обледенелых прутьях.
Было холодно, никто не скинул ни валенок, ни полушубков, ни шапок-ушанок.
Ночью враг обстреливал город дальнобойными орудиями откуда-то из-за
Синявина. Всю ночь гремела жестокая канонада: наша артиллерия взламывала все
новые и новые узлы -мощных оборонительных сооружений врага. Взлетали
осветительные ракеты, лунная ночь рассекалась вспышками и гулами не
прекращающегося ни на один час сражения.
Крепость Орешек
В прибрежной траншее, между двумя окровавленными трупами эсэсовцев,
кажущимися в своем смерзшемся обмундировании непомерно огромными, рассыпаны
на снегу бумаги -- обрывки писем, документы. Среди них -- длинный листок:
рисунок акварелью, сделанный еще летом. Примитивно изображено то, что немцы
видели из этой траншеи прямо перед собой. Узкая полоска Невы. Низкий,
длинный, серый, похожий на корпус дредноута скалистый островок. На нем
иззубренная стана и высящееся над ней краснокаменное здание с башнями. В
летний день, когда немец (рисовал эту крепость, в здании были разбиты только
верхние этажи и макушка церкви. Ныне от всего, что высилось за
восьмиметровыми стенами, остались одни развалины. Но это гордые развалины,
так и не взятые врагом!..
Есть такое старинное русское слово, обозначающее нечистое стремление.
Так вот, шестнадцать месяцев сидевшие в траншеях немцы вожделели, глядя па
эту твердыню, до которой от них было всего только двести двадцать метров.
Взирая на нее -- близкую и недосягаемую, -- они видели в своих меч-
тах Ленинград. Па рисунке по-немецки так и написано: "Шлиссельбург близ
Петербурга... " Больше они не видят уже вообще ничего. Орешек оказался им не
по зубам. Вот они лежат передо мной: застывшие трупы.
А славная крепость Орешек высится на островке с гордо реющим красным
флагом. Пулеметами и снарядами рвали немцы этот флаг в лоскутья. Но над
высшей точкой руин -- над разбитой колокольней собора, -- вопреки
исступленному огню врага, каждый раз опять поднималось новое алое полотнище
взамен изорванного. Двести двадцать метров, отделявшие Шлиссельбург от
Орешка, оказались неодолимыми для всей военной мощи Германии, покорившей
Европу...
Я был в этой крепости. Я прошел эти двести двадцать метров, спустившись
из освобожденного Шлиссельбурга на лед Невы, ступая осторожно по узкой
тропинке, проложенной среди еще не расчищенных немецких минных полей, и
обойдя не замерзающий от быстрого течения участок реки, любуясь паром,
поднимающимся отводы и словно возносящим эту -- уже легендарную -- крепость
над солнечным, ослепительно сверкающим миром.
Обогнув высящуюся надо мной громаду, я вступил на островок с
северо-западной его стороны, там, где к правому берегу Невы обращены
старинные крепостные ворота под Государевой башней. Все шестнадцать месяцев
блокады к этим воротам, под беглым огнем врага, ежесуточно ходили с правого
берега связные, командиры и те, кто доставлял героическому гарнизону
продовольствие, топливо и боеприпасы: летом-- "а шлюпках, зимою -- на лыжах
или, в маскхалатах, ползком. Я нырнул в узенький проем в кирпичной кладке,
которой заделаны ворота, и свободно прошел через все внутренние дворы,
точнее, через все груды камня и кирпича, к траншее, сделанной в наружной
стене; эта траншея -- единственное место, где человек, остававшийся на
островке, мог рассчитывать остаться живым, ибо вся площадь островка
круглосуточно, шестнадцать месяцев подряд, обстреливалась и под-
вергалась бомбежкам с воздуха. Были дни, когда на Орешек обрушивалось
до трех тысяч мин и снарядов В местах максимальной протяженности островок
имеет в длину двести пятьдесят метров, в ширину -- сто пятьдесят. Но он
неправильной формы, поэтому перемножить эти две цифры значило бы
преувеличить размеры площади островка. И вот на этот крошечный островок за
четыреста девяносто восемь дней обороты, по самым минимальным подсчетам,
легло свыше ста тысяч снарядов, мин и авиабомб, то есть примерно по
полдюжины на -квадратный метр пространства. Немцы били в упор даже из 220- и
305-миллиметровых орудий. Камни Орешка превращены в прах. Но крепость не
сдалась. Люди ее не только оказались крепче, несокрушимей "амия, но и
сохранили способность весело разговаривать, шутить, смеяться... Все эти
месяцы они вели ответный огонь по врагу, несмотря на то, что каждая огневая
точка здесь была засечена гитлеровцами. Среди немецких бумаг, найденных в
Шлиссельбурге, была обнаружена схема крепости с безошибочно обозначенными
батареями.
Каждый день по немцам вела огонь 409-я морская артиллерийская батарея
капитана Петра Никитича Кочаненкова, который стал командиром этой батареи 8
ноября 1941 года. Каждый день вела минометный огонь рота гвардии лейтенанта
Мальшукова. Каждый день били по вражеским позициям пулеметы роты старшего
лейтенанта Гусева. Взвод автоматчиков младшего лейтенанта Клунина и взвод
стрелков младшего лейтенанта Шульги уложили в могилу каждого из тех
гитлеровцев, которые хотя бы на минуту приподняли голову над бруствером
вынесенных на самый берег реки траншей. И каждая огневая точка немцев также
была известна гарнизону Орешка. Два дня назад, 18 января, когда ровно в
шесть утра расчет Русинова сделал последний выстрел из крепости Орешек и его
пушка "Дуня" получила право на отдых, Мальшуков заявил, что пора ему сходить
в Шлиссельбург за той немецкой стереотрубой, которую он заметил уже давно. И
когда в 9. 30 утра взводы Клунина и Шульги сошли на лед Невы и, разминировав
гранатами уча-
сток немецкого переднего края, ворвались в город, чтоб дать последнее
сражение бегущим из города немцам, Мальшуков пошел за трубой и взял ее так
спокойно, будто она всегда только ему принадлежала...
С 9 сентября 1941 года находится в крепости начальник штаба ее --
младший лейтенант Георгии Яковлевич Кондратенко, первым пришедший в нее со
взводом стрелков и двумя станковыми пулеметами после того, как сутки она
пустовала, не занятая немцами, еще не имевшая нашего гарнизона. И сегодня
Кондратенко мне жалуется:
-- В первый раз за все время мне скучно... Были впереди всех, а теперь
оказались в глубоком тылу. Никогда не бывало скучно, зайдешь на "мостик" --
так называем мы наш наблюдательный пункт, -- поглядишь в амбразурку, увидишь
-- землянка у немцев дымит, ну, сразу и потушишь землянку, или снайпер их
вылезет -- снимешь снайпера, или слушаешь вечером, как их тяжелый снаряд,
будто поросенок, визжит, --досадно им, крейсер такой стоит у них перед,
глазами, и ничего с ним не сделать... А мне от этого всегда было весело...
Придется теперь просить начальство, чтоб повое назначение дали, скуки я
терпеть не могу...
И смеется исхудалый, усталый Кондратенко, и глаза его искрятся, он
внешне очень спокоен, и не окажешь, что сто тысяч бомб, снарядов и мин
отразились на его нервах!
Начальник гарнизона гвардии капитан Александр Васильевич Строилов и
заместитель его по политчасти капитан А. Я. Антонов скучают так же, как и Г.
Я. Кондратенко. Тишина давно уже стала им непривычной. Да и за Ладожской
трассой больше не надобно наблюдать -- целый год крепость охраняла ее, целый
год была падежным часовым "Дороги жизни" блокированного Ленинграда. Больше
эту трассу не обстреляет никто, да и сама она, став ненужной, войдет в
историю как один из славных путей, по которым наша Родина шла к блестящей
победе...
Мне, к сожалению, не довелось повидаться с од-
ним из самых известных героев Орешка -- командиром орудия Константином
Шкляром: в этот час он был где-то в Шлиссельбурге, исследуя там остатки тех
целей -- немецких дзотов, орудий, блиндажей, по которым безошибочно многие
месяцы бил из крепости.
Украинец с Черниговщины, в далеком уже прошлом -- столяр, он стал
ладожским краснофлотцем за год до войны и с первых дней обороны Орешка воюет
в составе его гарнизона. Он первым из защитников крепости стал бить по
немцам из станкового пулемета. Он много раз отправлялся на шлюпке к правому
берегу Невы: доставлял туда раненых, а оттуда -- продовольствие и
боеприпасы. Это именно он шесть раз под огнем врага поднимал над крепостью
сбиваемый немцами красный флаг. Стал командиром орудия, обучил многих
краснофлотцев стрелять из своей пушки по-снайперски. Артиллеристы гарнизона
назвали его именем переправу на правый берег Невы1.
Я ушел из крепости, взволнованный всем, что в ней увидел. И на прощанье
мне со смехом показали кошку Машку, дважды раненную и выздоровевшую,
любимицу всего гарнизона, которую младший лейтенант Кондратенко обнаружил в
одном из казематов 9 сентября 1941 года, -- все "население" крепости в тот
день состояло из кошки с котом да собаки, да лошади, которую удалось увести
только зимой, после того как Нева покрылась льдом.
Я ушел из крепости в город Шлиссельбург, освобожденный от немцев, и
решил сохранить тот, найденный мною в траншее, рисунок, который злополучный
гитлеровец сделал, конечно уже уверившись, что на этот остров ему не удастся
вступить никогда.
На льду канала еще лежат безобразные, замороженные трупы гитлеровцев.
Их много, они нагромождены один на другой. Желтая кожа лиц кажется сде-
[*] 1 Недавно, готовя
эту книгу к печати, я узнал, что в настоящее время Константин Леонтьевич
Шкляр, вернувшись по зову сердца с родной Украины в Петрокрепость
(Шлиссельбург), работает там бригадиром строительной бригады,
восстанавливающей ту башню Орешка, где во время обороны его он жил со своими
товарищами и откуда не раз вел огонь по гитлеровцам.
ланной из картона. Рваные раны, скрюченные пальцы, изорванная,
окровавленная одежда, красно-черные повязки эсэсовцев на рукавах, соломенные
эрзац-валенки и обмотки на распяленных ногах -- вот зрелище, венчающее
черные дела 170-й немецкой пехотной дивизии, предавшей огню и мечу Одессу,
Севастополь и Керчь, расстрелявшей и замучившей изуверскими пытками десятки
тысяч ни в чем не повинных, мирных советских людей.
Пришел день возмездия! 170-й "гренадерской" дивизии больше нет. В
Шлиссельбурге и на каналах -- ни одного живого гитлеровца. Пленные под
конвоем девушек-автоматчиц отправлены в Ленинград. Мертвецы будут сброшены в
воронки от снарядов и авиабомб и заметены снегом.
А в тихих разбитых домиках вдоль канала снова поселились советские
люди...
... В 00 часов 57 минут, в ночь с 18 "а 19 января, через несколько
минут после того, как строгая тайна о боях по прорыву блокады была
командованием снята и в эфир было передано торжествующее сообщение
Совинформбюро, мне удалось первому из корреспондентов центральной печати
передать по военному телеграфу в Москву обзорную корреспонденцию о прорыве.
В те радостные ночные часы счастливые ленинградцы не спали. Поздравляя друг
друга, обнимаясь -- в домах и на улицах, они ликовали. В воинских частях
происходили митинги. А враг тупо и яростно обстреливал город, но никто на
этот обстрел внимания не обращал...
Сообщение Совинформбюро о прорыве блокады.
ступлении не понадобился бойцы регулярно, трижды в день, получали
горячую пищу в термосах, нормы были повышенными, питание организовано хорошо
После того как взятая штурмом насыпь узкоколейки была пройдена, груза у всех
убавилось, потому что часть его навью шли на захваченных лошадей
Никто не знал, где в данный момент волховчане и потому готовились
подойти к деревне Липки и paзвернуться к бою, чтобы взять эту деревню
штурмом Предполагалось, что еще немало немцев встретится на шути Идущий
впереди дозор внимательно вглядывался в белесую мглу
Только что под бровкой канала был обнаружен продовольственный оклад,
задерживаться из-за пего не хотелось, выделять бойцов для охраны было бы
неразумно -- в тылу могли оказаться удравшие из Шлиссельбурга и скрывшиеся в
лесу фашисты Майор В. Д. Ломанов, красивый рослый моряк, предупредил всех об
осторожности склад мог быть минирован Оказалось, однако, что гитлеровцы в
поспешном бегстве не успели сделать этого
Быстро стемнело Впереди всех шли разведчики под командой старшего
сержанта командира взвода разведчиков Кириченко Их было человек двадцать
Кириченко тихо промолвил "Стой'" Разведчики сразу остановились Впереди на
бровке канала, показались какие-то фигуры
Разведчики залегли, с автоматами наготове поползли вперед
Всем очень захотелось, чтобы темные фигуры впереди оказались не
гитлеровцами, чтоб это -- великое и долгожданное событие -- именно сейчас,
(Незамедлительно, свершилось.
Каждый повторил про себя установленный пароль встречи
Каждый боец знал, что в момент встречи он должен поднять свою винтовку
или свой автомат двумя руками и, держа его поперек груди, крикнуть "Победа1"
Разведчики взялись за оружие двумя руками, но тут же усомнились а если
все-таки враг?
Но, подпустив встречных на близкое расстояние, не обнаруживая себя,
разводчики ясно различили такие же, как у них самих, маскхалаты, такие же
шапки-ушанки и полушубки, наши советские автоматы
Можно было вскочить, кинуться навстречу, по. Кириченко поступил по
уставу: он подманил к себе рукой старшего сержанта Шалагина, взволнованно
прошептал ему
-- Беги, докладывай!
И, напрягая зрение, взглянул на часы Было 18 часов 40 минут
Шалагин опрометью побежал назад, срывающимся голосом доложил Фомичеву
Товарищ подполковник! Волховские идут'
Не ошибся? -- почувствовав, как екнуло сердце, опросил Фомичев.
Как можно, товарищ подполковник?! Да своими ж глазами'
И Николай Иванович Фомичев, повернувшись к комбату Жукову, приказал ему
остановить батальон А сам вместе с майором Ломановым вышел вперед
Разрешите с вами, товарищ подполковник? -- торопливо проговорил
адъютант лейтенант Шевченко
Да.. И возьмите лучших автоматчиков Человек семь..
Все эти фразы произносились торопливо, взволнованно, горячим
полушепотом -- историческое значение происходящего обжигало сознание каждого
Семь автоматчиков со своими командирами степенным шагом двинулись по
береговой бровке канала навстречу тем, кто там, впереди, также остановился и
откуда пока также не доносилось никаких голосов Этими семью автоматчиками
были командир взвода старший сержант Иван Пашков, старший сержант Владимир
Мерцалов, помкомвзвода младший сержант Петр Копчун, красноармейцы Василии
Мельник, Василий Жилкин, Леонтии Синенко, Усман Еникеев Каждый из них
сегодня перебил немало врагов.
-- Кто идет? -- впервые громко крикнул Фомичев, сблизившись с
невидимыми во мраке застывшими на месте фигурами
Свои, волховчане! -- донесся радостный отклик И тут кто-то из
автоматчиков, не удержавшись, возгласил на всю тишину канала.
Даешь Липки!
Липки наши! -- послышался веселый голос из темноты.
Но никто не сдвинулся с места, потому что все видели: подполковник
Фомичев и майор Ломанов при свете электрического фонарика проверяют
документы двух волховских командиров и показывают им свои.
-- Ну, правильно все! -- наконец громко произнес Фомичев. -- Здорово,
друзья! -- И направил луч фонаря прямо в смеющиеся лица майора Гриценко --
заместителя командира встречной 12-й отдельной лыжной бригады, и капитана
Коптева -- начальника артиллерии 128-й стрелковой дивизии.
Фонарь тут же полетел в снег, широко распахнутые объятия двух
командиров сомкнулись, они расцеловались так, словно были родными братьями.
И сразу же, как волной, смыло всякий порядок. Бойцы и командиры двух
фронтов хлынули навстречу друг другу. Объятия и поцелуи прошедших сквозь
смерть и огонь мужчин-воинов, никогда прежде не видавших друг друга, -- это
бывает только на войне, только в час доброй победы! Словно веселый лес
зашумел над снежным и темным каналом, вопросы, поздравления и смех слились в
один непередаваемый гул ликования. Но вот в этом гуле стало возможным
различить отдельные фразы:
-- Давно не видались!.. Лица-то у вас здоровые, а мы думали, что вы
дистрофики... Гляди, поздоровей наших!.. Ну, как Ленинград? Как жили?
Новый друг Фомичева подхватил тот же вопрос:
-- Как жили?
И Фомичев ответил:
Было плохо, теперь хорошо, -- и добавил (позже ему было смешно
вспоминать об этом): -- Двадцать семь линий трамвая ходят.
Ну да?
Точно!
Фомичев и сам не знает, почему он решил в ту минуту, что именно
двадцать семь!
Свет! Вода! Жить стало культурно, хорошо!
А как побит Ленинград? Очень сильно?
Есть места побитые, а в общем -- ничего... Стоит!
Да еще как стоит! Победителем!.. А как продукты к вам поступали?
По Ладожской.
Это мы знаем, что по Ладожской, а все-таки трудно?
Чего там трудного! Одинаковую норму возили, -- что вы, то и мы едим...
А боеприпасы?
-- А мы сами их делаем, еще вам взаймы можем дать... Небось артиллерию
нашу слышали?
-- О-го-го! Вот уж это действительно, мы удивлялись даже...
И тут в разговор вмешался подскочивший сбоку капитан Коптев:
Родные ленинградцы, я ваших всех перецеловал!
Ну и мы тебя поцелуем! -- расхохотался Фомичев.
И минут пять все окружающие подряд мяли и целовали растерявшегося,
уронившего шапку Коптева...
А затем подполковник Фомичев приказал восстановить порядок. Волховчане
и ленинградцы разошлись на сто метров, построились. В подразделениях
начались митинги. Под насыпью, в дружно очищенной бойцами землянке связи,
была развернута найденная там кипа мануфактуры. Она помогла придать землянке
праздничный вид. Совместный ужин командиров был назначен на 20 часов.
Продуктов было хоть отбавляй, не нашлось лишь ни капли водки, а двух бутылок
предложенного кем-то красного вина хватило, только чтобы налить каждому по
маленькой стопочке.
-- Чем будем угощать ленинградцев? -- воскликнул Коптев. -- Как же это
так не предусмотрели?
И тут связной капитана, Гриша, хитро сощурив глаза, вытянул из кармана
своих ватных штанов за-
ветную поллитровку. Только успели распить ее, волховчане получили
приказ по радио: поскольку штурмовать Шлиссельбург оказалось ненужным,
отойти обратно на Липки.
А ровно через пятнадцать минут такой же приказ по радио получил
подполковник Фомичев: поскольку штурмовать Липки оказалось ненужным, отойти
на Шлиссельбург...
И тотчас же, горячо распрощавшись, оставляя за собой боевое охранение,
волховчане и ленинградцы пошли выполнять полученные ими приказы.
В Шлиссельбурге
Мы в городе. Вчера еще в нем владычествовали гитлеровцы. По рассеянным
над снежным покровом развалинам, по торчащим из снега обгорелым бревнам, по
печным трубам, похожим "а кладбищенские памятники, трудно определить даже
границы исчезнувших кварталов. Очень немногие, зияющие пустыми глазницами
окон кирпичные дома сохранили хоть приблизительно свои первоначальные формы.
Позже я узнал, что из восьмисот домов, имевшихся в городе до захвата его
гитлеровцами, уцелело лишь шестьдесят, да и то большая часть их приходится
на приселок, вытянувшийся вдоль Ново-Ладожского канала, строго говоря, уже
за чертою города. В комендатуре оставлен на стене огромный план
Шлиссельбурга, вычерченный с поистине дьявольской педантичностью,
свойственной современным тевтонам. Все сожженные дома на плане обозначены
красной краской. Все разрушенные перечеркнуты крест-накрест, а уцелевшие
залиты желтой тушью. Только тщательно вглядываясь в этот немецкий план,
можно по пальцам пересчитать редкие желтые пятнышки.
Мы въехали в город по улице, сплошь усеянной еще не втоптанными в грязь
винтовочными патронами, заваленной выброшенным из окон и подвалов хламом.
Население торопилось вышвырнуть из своих полуразрушенных жилищ все
относящееся к нена-
вистным оккупантам: их амуницию, пустые бутылки из-под французского
коньяка, патентованные средства, геббельсовскую литературу, громоздкие
соломенные эрзац-валенки и суконные солдатские боты на толстой деревянной
подошве, изломанное оружие, всевозможную загаженную (Казарменную требуху...
Улицы запружены обозами вступивших в город красноармейских частей.
Дымят полевые кухни, грузовики с продовольствием и боеприпасами настойчиво
прокладывают себе дорогу Всю неделю боев армейцам приходилось спать на снегу
-- теперь они торопятся наладить себе жилье. Звенят пилы, стучат топоры,
молотки -- надо забить досками зияющие окна, исправить печи в разысканных
среди развалин комнатах.
Всюду слышатся веселые голоса. Разговоры о победе, о наступлении, о
встрече с волховчанами, о железной дороге, по которой скоро можно будет
ехать прямым сообщением из Ленинграда в Москву, -- каждый хотел бы
удостоиться чести совершить этот путь, и именно в первом поезде!..
Над пробитой снарядами колокольней церкви висит красный флаг -- его
водрузил красноармеец третьего батальона 330-го стрелкового полка М. Г.
Губанов после того, как 37-миллиметровая пушка, стрелявшая с этой
колокольни, была разбита прямым попаданием из орудия, которое паши
артиллеристы подкатили вплотную к церкви В подвале церкви бойцы роты Гаркуна
еще дрались с последними автоматчиками из той полусотни "смертников", что
засела здесь, а Губанов уже спускался с колокольни под приветственные крики
"ура!".
Мы остановились возле броневика, над которым его экипаж воздвигал
антенну. То был один из девяти броневиков, приданных 330-му стрелковому
полку подполковника Середина, первым вступившему в город. На этих броневиках
пехотинцы прочесывали центральные улицы, истребляя последних, стрелявших из
подвалов и окон фашистских автоматчиков, уже окруженных, не успевших вместе
со всем гитлеровским воинством предаться поспешному бегству.
Ища коменданта города, мы вернулись к окраинным кварталам и увидели
против разбитых цехов ситценабивной фабрики остатки большого немецкого
кладбища. Население вместе с бойцами рубило на нем кресты, чтобы стереть с
лица земли и эти следы фашистского нашествия. Чуть дальше группа женщин
выволакивала из-за забора два скрюченных замороженных трупа эсэсовцев.
Красно-черная нарукавная повязка одного из них зацепилась за колья забора и
осталась лежать на снегу. Взвалив трупы на саночки, женщины потащили их...
Солнце скрылось за горизонтом. Город погрузился во тьму. В нем не было
ни освещения, ни водопровода, в нем не было ничего, присущего каждому
населенному пункту. Он был еще мертв.
На перекрестке двух разбаррикадированных улиц регулировщики указали нам
полуразрушенный дом, в котором мы найдем коменданта. Майор Гальмин,
комендант, сидел за большим письменным столом против потрескивающей сухими
дровами печки. Два огарка в бронзовых подсвечниках мигали, потому что дверь
то и дело приотворялась: с мороза входили все новые люди в шинелях и
полушубках. Входили торопливо, каждому было некогда, каждый хотел как можно
скорее порешить с комендантом свои 'неотложные дела.
А он сидел за столом, перебирая пачку принесенных ему красноармейцем
писем, не знал, за которое взяться раньше, разрывал один конверт за другим и
одновременно отвечал хриплым от ночевок на снегу голосом -- худой, усталый,
с блестящими от волнения глазами.
Он отвечал быстрыми, точными словами и снова принимался читать письмо
вслух всем обступившим его незнакомым людям:
-- "Костя, у меня не будет ни одного "посредственно"... Папа сложил
печку, в комнате у нас стало теплее... "
Это было письмо от племянницы из Москвы, и все обступившие стол -- люди
в шинелях и полушубках -- отвлекались от своих насущных, не терпящих отлага-
тельства дел и слушали внимательно. Не дочитав письма, майор откладывал
его, брался за другое и одновременно, обращаясь к кому-то из тех, кто стоял
в темном углу комнаты, отдавал приказание:
-- Сообщите по радио, в тринадцать ноль-ноль начался артобстрел,
методический, выпущено тридцать снарядов!
Едва он заканчивал фразу, окружающие его торопили:
-- Дальше, дальше-то что пишет племянница?
И комендант Шлиссельбурга снова брался за письмо.
-- Нет, это не то!.. Должно быть, письмо от жены, с фотокарточкой --
давно обещала. Если без фотокарточки, я и читать не стану!
И наконец, найдя по почерку письмо от жены, вытянул его из конверта, и
на стол выпал тусклый фотографический снимок.
-- Ой-ой-ой, вот это я ждал! -- хриплым шепотом возгласил комендант,
вставая, склоняясь над свечкой. -- И дочка, дочка Галина, год и три месяца
ей, я еще ни разу в жизни ее не видел!.. А вы, товарищ лейтенант, возьмите
роту и обойдите все землянки вдоль южных кварталов, только саперов возьмите,
там мин полно. Ясно? Ясно, ну идите!.. "Поздравляю тебя, Костенька, с Новый
годом... " С Новым годом поздравляет меня жена, понимаете? Вот ее
фотокарточка!
И фотография пошла по рукам командиров и красноармейцев, а майор, вновь
берясь за другую, где -- дочка, смеялся:
-- Галиночка-то какая толстая получилась, весь фокус заняла... В
Кировской она области, понимаете?
Все, решительно все понимали состояние коменданта! Все были семь суток
в бою, все ночевали в снегу, всем остро хотелось писем от родных и друзей...
А на стене висел вражеский план сожженного города, а полуразбитый дом вновь
заходил ходуном, потому что на заваленных трофеями, залитых кровью улицах
опять стали разрываться снаряды. Но никто не обращал внимания на разрывы,
все жадно вслушива-
лись в письмо далекой женщины к сидящему за столом счастливому мужу...
В этот час все в городе были счастливы -- и те, кто пришли сюда, и те,
"то шестнадцать месяцев дожидались пришедших. Немногие дождались: из шести
тысяч жителей, находившихся в Шлиссельбурге в момент оккупации его
гитлеровцами, осталось только триста двадцать человек, из которых мужчин
было не больше двух-трех десятков. Две с половиной тысячи шлиссельбуржцев
умерли от голода и лишений, многие были замучены, остальные отправлены в
глубокий -вражеский тыл. Фашисты кое-как кормили тех, кого им удалось
заставить работать. Кормили, например, единственную в городе артель
плотников и столяров, которая изготовляла гробы. Гробов требовалось немало:
советская артиллерия каждый день отправляла эсэсовцев к праотцам.
Гитлеровцы, живя в [городе, нервничали. В каждом сохранившемся или
полуразрушенном доме, с южной его стороны, они посреди комнат построили
блиндажи, северная половина дома служила блиндажу прикрытием. В блиндажах
фашисты старались устроиться с комфортом, стаскивали в них диваны, зеркала,
пианино и самовары, ковры и хрусталь, кружевные занавески и пуховые
одеяла... Русское население ютилось в землянках в лесу. Каждое утро всех
выгоняли на работу на рытье траншей, на строительство дзотов. С двух часов
дня ни один русский человек не смел показаться на улицах, каждого
запоздавшего хотя бы на пять минут ждали плети или расстрел.
Три сотни бледных, запуганных жителей из шести тысяч! Им долго еще надо
привыкать к мысли, что 'настало наконец время, когда обо всем можно говорить
громко и внятно, в уверенности, что ни один фашист, ни один подосланный
бургомистром предатель-доносчик их не подслушает, что за правду их не
потащат ни на пытки, ни на расстрел... Все они, как больные, в первый paз
открывшие глаза после долгого беспамятства, в котором их беспрестанно терзал
кошмар.
Мы ушли из комендатуры, полные впечатлений от
рассказов, какими обменивались толпившиеся здесь люди.
В политотделе дивизии В. А. Трубачева, расположившемся в трех уцелевших
комнатах разбитого, перерезанного траншеей дома, мы легли спать -- так же,
как и все, на поломанных железных кроватях, на голых и обледенелых прутьях.
Было холодно, никто не скинул ни валенок, ни полушубков, ни шапок-ушанок.
Ночью враг обстреливал город дальнобойными орудиями откуда-то из-за
Синявина. Всю ночь гремела жестокая канонада: наша артиллерия взламывала все
новые и новые узлы -мощных оборонительных сооружений врага. Взлетали
осветительные ракеты, лунная ночь рассекалась вспышками и гулами не
прекращающегося ни на один час сражения.
Крепость Орешек
В прибрежной траншее, между двумя окровавленными трупами эсэсовцев,
кажущимися в своем смерзшемся обмундировании непомерно огромными, рассыпаны
на снегу бумаги -- обрывки писем, документы. Среди них -- длинный листок:
рисунок акварелью, сделанный еще летом. Примитивно изображено то, что немцы
видели из этой траншеи прямо перед собой. Узкая полоска Невы. Низкий,
длинный, серый, похожий на корпус дредноута скалистый островок. На нем
иззубренная стана и высящееся над ней краснокаменное здание с башнями. В
летний день, когда немец (рисовал эту крепость, в здании были разбиты только
верхние этажи и макушка церкви. Ныне от всего, что высилось за
восьмиметровыми стенами, остались одни развалины. Но это гордые развалины,
так и не взятые врагом!..
Есть такое старинное русское слово, обозначающее нечистое стремление.
Так вот, шестнадцать месяцев сидевшие в траншеях немцы вожделели, глядя па
эту твердыню, до которой от них было всего только двести двадцать метров.
Взирая на нее -- близкую и недосягаемую, -- они видели в своих меч-
тах Ленинград. Па рисунке по-немецки так и написано: "Шлиссельбург близ
Петербурга... " Больше они не видят уже вообще ничего. Орешек оказался им не
по зубам. Вот они лежат передо мной: застывшие трупы.
А славная крепость Орешек высится на островке с гордо реющим красным
флагом. Пулеметами и снарядами рвали немцы этот флаг в лоскутья. Но над
высшей точкой руин -- над разбитой колокольней собора, -- вопреки
исступленному огню врага, каждый раз опять поднималось новое алое полотнище
взамен изорванного. Двести двадцать метров, отделявшие Шлиссельбург от
Орешка, оказались неодолимыми для всей военной мощи Германии, покорившей
Европу...
Я был в этой крепости. Я прошел эти двести двадцать метров, спустившись
из освобожденного Шлиссельбурга на лед Невы, ступая осторожно по узкой
тропинке, проложенной среди еще не расчищенных немецких минных полей, и
обойдя не замерзающий от быстрого течения участок реки, любуясь паром,
поднимающимся отводы и словно возносящим эту -- уже легендарную -- крепость
над солнечным, ослепительно сверкающим миром.
Обогнув высящуюся надо мной громаду, я вступил на островок с
северо-западной его стороны, там, где к правому берегу Невы обращены
старинные крепостные ворота под Государевой башней. Все шестнадцать месяцев
блокады к этим воротам, под беглым огнем врага, ежесуточно ходили с правого
берега связные, командиры и те, кто доставлял героическому гарнизону
продовольствие, топливо и боеприпасы: летом-- "а шлюпках, зимою -- на лыжах
или, в маскхалатах, ползком. Я нырнул в узенький проем в кирпичной кладке,
которой заделаны ворота, и свободно прошел через все внутренние дворы,
точнее, через все груды камня и кирпича, к траншее, сделанной в наружной
стене; эта траншея -- единственное место, где человек, остававшийся на
островке, мог рассчитывать остаться живым, ибо вся площадь островка
круглосуточно, шестнадцать месяцев подряд, обстреливалась и под-
вергалась бомбежкам с воздуха. Были дни, когда на Орешек обрушивалось
до трех тысяч мин и снарядов В местах максимальной протяженности островок
имеет в длину двести пятьдесят метров, в ширину -- сто пятьдесят. Но он
неправильной формы, поэтому перемножить эти две цифры значило бы
преувеличить размеры площади островка. И вот на этот крошечный островок за
четыреста девяносто восемь дней обороты, по самым минимальным подсчетам,
легло свыше ста тысяч снарядов, мин и авиабомб, то есть примерно по
полдюжины на -квадратный метр пространства. Немцы били в упор даже из 220- и
305-миллиметровых орудий. Камни Орешка превращены в прах. Но крепость не
сдалась. Люди ее не только оказались крепче, несокрушимей "амия, но и
сохранили способность весело разговаривать, шутить, смеяться... Все эти
месяцы они вели ответный огонь по врагу, несмотря на то, что каждая огневая
точка здесь была засечена гитлеровцами. Среди немецких бумаг, найденных в
Шлиссельбурге, была обнаружена схема крепости с безошибочно обозначенными
батареями.
Каждый день по немцам вела огонь 409-я морская артиллерийская батарея
капитана Петра Никитича Кочаненкова, который стал командиром этой батареи 8
ноября 1941 года. Каждый день вела минометный огонь рота гвардии лейтенанта
Мальшукова. Каждый день били по вражеским позициям пулеметы роты старшего
лейтенанта Гусева. Взвод автоматчиков младшего лейтенанта Клунина и взвод
стрелков младшего лейтенанта Шульги уложили в могилу каждого из тех
гитлеровцев, которые хотя бы на минуту приподняли голову над бруствером
вынесенных на самый берег реки траншей. И каждая огневая точка немцев также
была известна гарнизону Орешка. Два дня назад, 18 января, когда ровно в
шесть утра расчет Русинова сделал последний выстрел из крепости Орешек и его
пушка "Дуня" получила право на отдых, Мальшуков заявил, что пора ему сходить
в Шлиссельбург за той немецкой стереотрубой, которую он заметил уже давно. И
когда в 9. 30 утра взводы Клунина и Шульги сошли на лед Невы и, разминировав
гранатами уча-
сток немецкого переднего края, ворвались в город, чтоб дать последнее
сражение бегущим из города немцам, Мальшуков пошел за трубой и взял ее так
спокойно, будто она всегда только ему принадлежала...
С 9 сентября 1941 года находится в крепости начальник штаба ее --
младший лейтенант Георгии Яковлевич Кондратенко, первым пришедший в нее со
взводом стрелков и двумя станковыми пулеметами после того, как сутки она
пустовала, не занятая немцами, еще не имевшая нашего гарнизона. И сегодня
Кондратенко мне жалуется:
-- В первый раз за все время мне скучно... Были впереди всех, а теперь
оказались в глубоком тылу. Никогда не бывало скучно, зайдешь на "мостик" --
так называем мы наш наблюдательный пункт, -- поглядишь в амбразурку, увидишь
-- землянка у немцев дымит, ну, сразу и потушишь землянку, или снайпер их
вылезет -- снимешь снайпера, или слушаешь вечером, как их тяжелый снаряд,
будто поросенок, визжит, --досадно им, крейсер такой стоит у них перед,
глазами, и ничего с ним не сделать... А мне от этого всегда было весело...
Придется теперь просить начальство, чтоб повое назначение дали, скуки я
терпеть не могу...
И смеется исхудалый, усталый Кондратенко, и глаза его искрятся, он
внешне очень спокоен, и не окажешь, что сто тысяч бомб, снарядов и мин
отразились на его нервах!
Начальник гарнизона гвардии капитан Александр Васильевич Строилов и
заместитель его по политчасти капитан А. Я. Антонов скучают так же, как и Г.
Я. Кондратенко. Тишина давно уже стала им непривычной. Да и за Ладожской
трассой больше не надобно наблюдать -- целый год крепость охраняла ее, целый
год была падежным часовым "Дороги жизни" блокированного Ленинграда. Больше
эту трассу не обстреляет никто, да и сама она, став ненужной, войдет в
историю как один из славных путей, по которым наша Родина шла к блестящей
победе...
Мне, к сожалению, не довелось повидаться с од-
ним из самых известных героев Орешка -- командиром орудия Константином
Шкляром: в этот час он был где-то в Шлиссельбурге, исследуя там остатки тех
целей -- немецких дзотов, орудий, блиндажей, по которым безошибочно многие
месяцы бил из крепости.
Украинец с Черниговщины, в далеком уже прошлом -- столяр, он стал
ладожским краснофлотцем за год до войны и с первых дней обороны Орешка воюет
в составе его гарнизона. Он первым из защитников крепости стал бить по
немцам из станкового пулемета. Он много раз отправлялся на шлюпке к правому
берегу Невы: доставлял туда раненых, а оттуда -- продовольствие и
боеприпасы. Это именно он шесть раз под огнем врага поднимал над крепостью
сбиваемый немцами красный флаг. Стал командиром орудия, обучил многих
краснофлотцев стрелять из своей пушки по-снайперски. Артиллеристы гарнизона
назвали его именем переправу на правый берег Невы1.
Я ушел из крепости, взволнованный всем, что в ней увидел. И на прощанье
мне со смехом показали кошку Машку, дважды раненную и выздоровевшую,
любимицу всего гарнизона, которую младший лейтенант Кондратенко обнаружил в
одном из казематов 9 сентября 1941 года, -- все "население" крепости в тот
день состояло из кошки с котом да собаки, да лошади, которую удалось увести
только зимой, после того как Нева покрылась льдом.
Я ушел из крепости в город Шлиссельбург, освобожденный от немцев, и
решил сохранить тот, найденный мною в траншее, рисунок, который злополучный
гитлеровец сделал, конечно уже уверившись, что на этот остров ему не удастся
вступить никогда.
На льду канала еще лежат безобразные, замороженные трупы гитлеровцев.
Их много, они нагромождены один на другой. Желтая кожа лиц кажется сде-
[*] 1 Недавно, готовя
эту книгу к печати, я узнал, что в настоящее время Константин Леонтьевич
Шкляр, вернувшись по зову сердца с родной Украины в Петрокрепость
(Шлиссельбург), работает там бригадиром строительной бригады,
восстанавливающей ту башню Орешка, где во время обороны его он жил со своими
товарищами и откуда не раз вел огонь по гитлеровцам.
ланной из картона. Рваные раны, скрюченные пальцы, изорванная,
окровавленная одежда, красно-черные повязки эсэсовцев на рукавах, соломенные
эрзац-валенки и обмотки на распяленных ногах -- вот зрелище, венчающее
черные дела 170-й немецкой пехотной дивизии, предавшей огню и мечу Одессу,
Севастополь и Керчь, расстрелявшей и замучившей изуверскими пытками десятки
тысяч ни в чем не повинных, мирных советских людей.
Пришел день возмездия! 170-й "гренадерской" дивизии больше нет. В
Шлиссельбурге и на каналах -- ни одного живого гитлеровца. Пленные под
конвоем девушек-автоматчиц отправлены в Ленинград. Мертвецы будут сброшены в
воронки от снарядов и авиабомб и заметены снегом.
А в тихих разбитых домиках вдоль канала снова поселились советские
люди...
... В 00 часов 57 минут, в ночь с 18 "а 19 января, через несколько
минут после того, как строгая тайна о боях по прорыву блокады была
командованием снята и в эфир было передано торжествующее сообщение
Совинформбюро, мне удалось первому из корреспондентов центральной печати
передать по военному телеграфу в Москву обзорную корреспонденцию о прорыве.
В те радостные ночные часы счастливые ленинградцы не спали. Поздравляя друг
друга, обнимаясь -- в домах и на улицах, они ликовали. В воинских частях
происходили митинги. А враг тупо и яростно обстреливал город, но никто на
этот обстрел внимания не обращал...
Популярность: 44, Last-modified: Thu, 05 Apr 2007 19:40:41 GmT