---------------------------------------------------------------
OCR: Заостровцев Г. А.
---------------------------------------------------------------
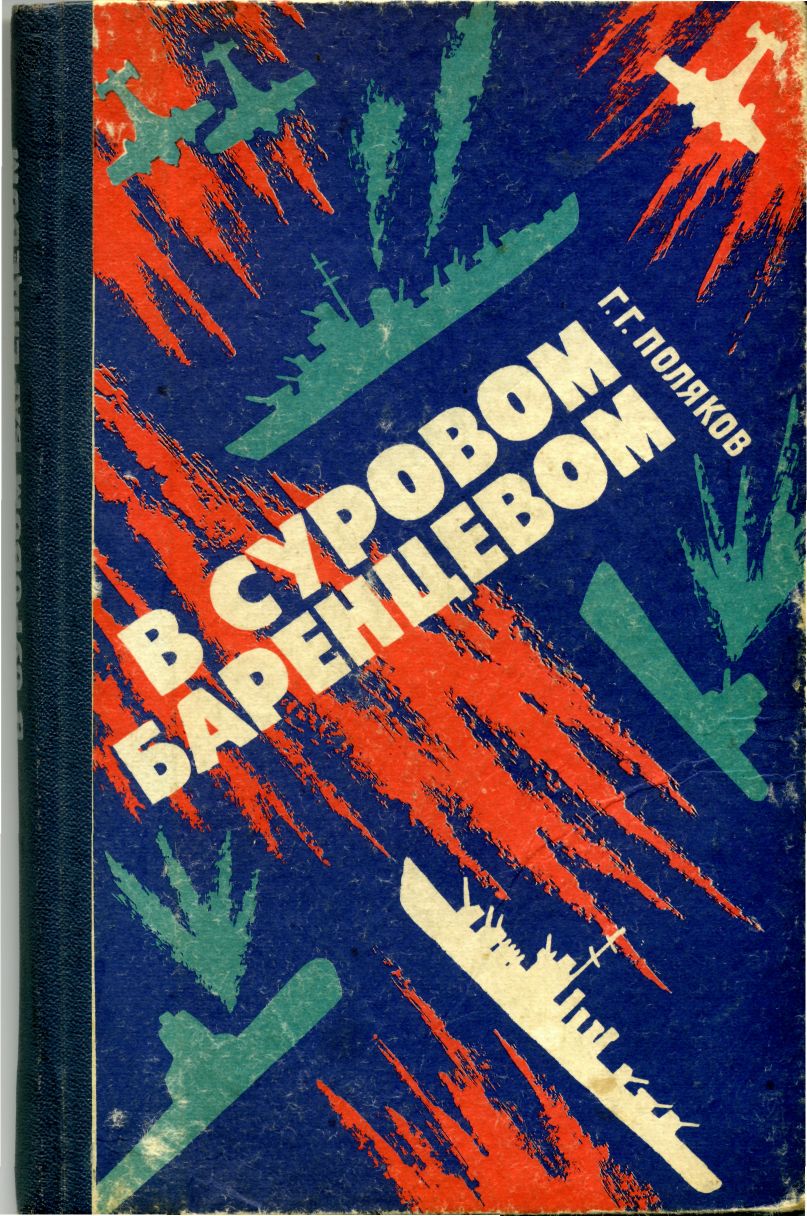
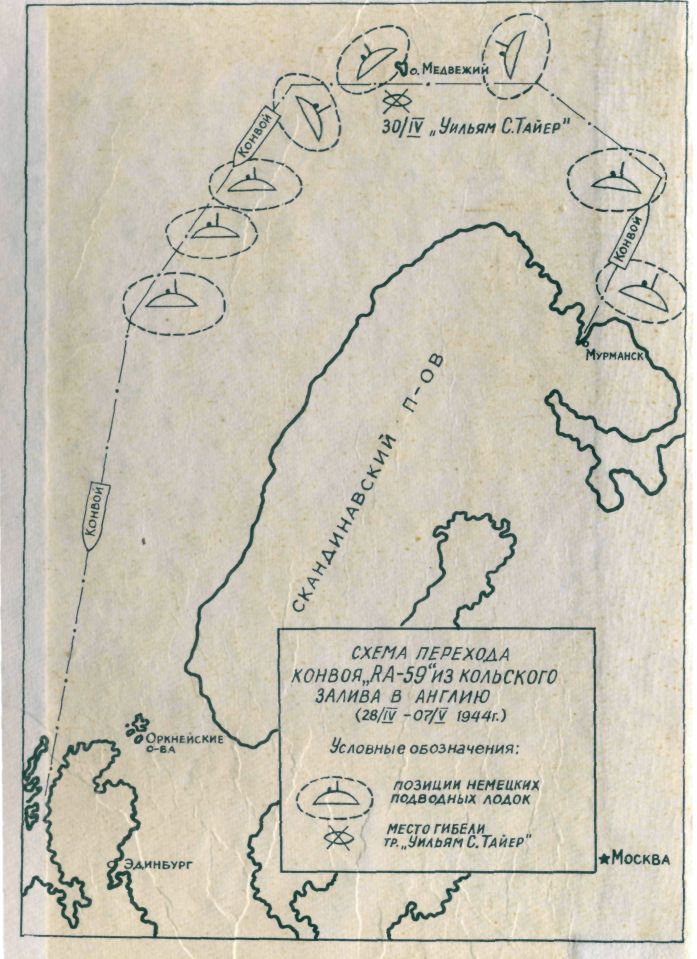
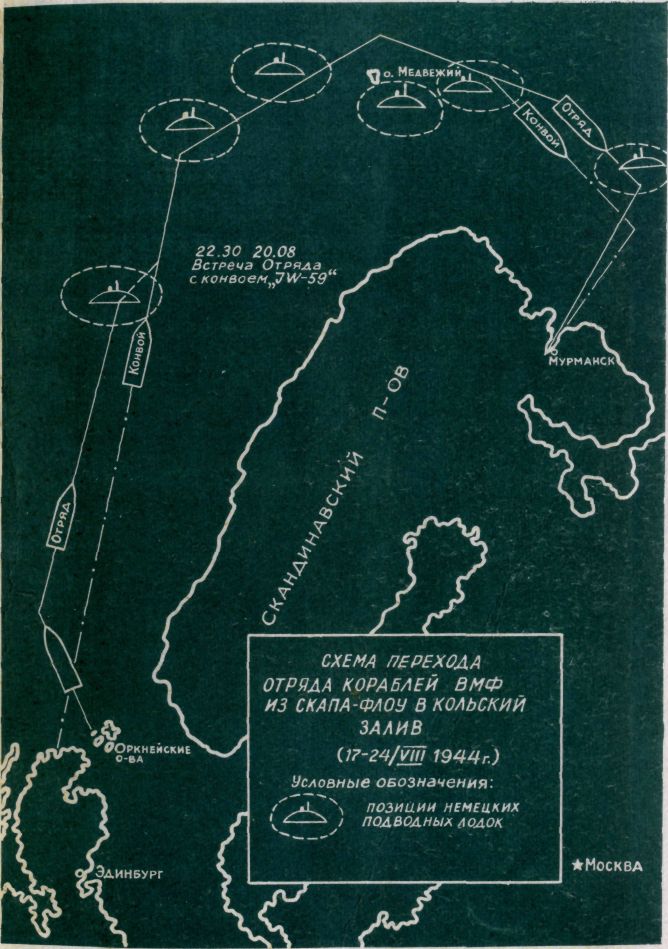
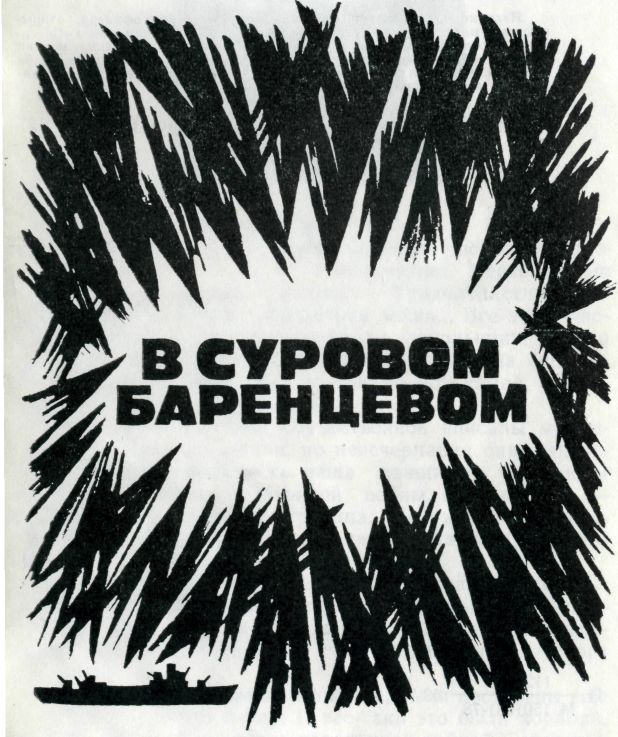 МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978
Поляков Г. Г.
П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.
176 с. с ил.
Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие
малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге
рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от
союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие
приспособленных для плавания в высоких широтах судах.
9(с)27(с12)+355.75(с12)
МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978
Поляков Г. Г.
П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.
176 с. с ил.
Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие
малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге
рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от
союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие
приспособленных для плавания в высоких широтах судах.
9(с)27(с12)+355.75(с12)
11202-21 П М .50(03).78 03-78 ИБ No136
© Мурманское книжное издательство, 1978 г.
 Очень много войн познало человечество. Неизбежными
они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,
Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.
А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой
уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.
В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но
неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим
солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая
страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры
Северного флота.
Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев
отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные
союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.
Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую
войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная
войной Советская
страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши
моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких
широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют
воевать советские люди.
Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до
сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над
нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,
вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала
запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.
Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.
Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.
Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,
предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен
также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального
военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим
ряд добрых советов.
Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал
даром.
Автор
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
подвиге советских людей в Великой Отечественной войне написано уже
немало, но эта тема поистине неисчерпаема. В своих воспоминаниях "В суровом
Баренцевом" капитан 1-го ранга запаса Г. Г. Поляков воспроизводит
малоизвестные широкому кругу читателей страницы боевой истории
Краснознаменного Северного флота.
Книга состоит из двух примерно равных по объему частей. В первой
излагается история появления в Советском Военно-Морском Флоте во время
минувшей войны кораблей иностранной постройки. Вторая часть посвящена боевой
деятельности этих кораблей под советским Военно-морским флагом в составе
эскадры Северного флота.
Чтобы дать возможность читателю лучше понять, почему в составе
Северного флота оказались корабли наших союзников по антигитлеровской
коалиции, напомним некоторые события, предшествовавшие этому.
В конце июля 1943 года фашистская Италия капитулировала. На конференции
министров иностранных дел СССР, США и Англии, которая проходила в Москве
(19--30 октября 1943 года), советская делегация предложила обсудить вопрос о
разделе итальянского флота между союзниками и конкретно -- Советскому Союзу
выделить линкор, крейсер, восемь эскадренных миноносцев и четыре подводные
лодки, что по боевой мощи составляло примерно одну треть трофейного флота.
Министры иностранных дел обещали по возвращении домой передать наши
предложения своим правительствам.
Но никакой реакции на эти предложения от правительств США и Англии не
последовало. На Тегеранской конференции (28 ноября -- 1 декабря 1943 г.)
наша делегация снова напомнила союзникам об итальянских кораблях.
Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль
согласились на передачу причитающейся нам части итальянского флота, назначив
конкретный срок -- конец января 1944 года. Время шло, война продолжалась, а
союзники не спешили с выполнением обещаний.
Наконец 23 января они сообщили, что делить итальянский флот в настоящее
время неудобно, это, дескать, настроит итальянцев против союзников, поэтому
могут передать во временное пользование только линкор -- англичане и легкий
крейсер -- американцы.
Председатель Совета Министров СССР И. Сталин 29 января 1944 года
направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю послание, в котором писал:
"...В вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому
Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок,
на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января Вы, г.
Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали согласие в Тегеране. Между тем для
Советского Союза главным является именно этот вопрос, вопрос о миноносцах и
подводных лодках, без которых не имеет значения передача 1 линкора и 1
крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без сопровождающих
их миноносцев. Поскольку в Вашем распоряжении находится весь военно-морской
флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в
пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота
не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо
итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в
наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев
и подводных лодок. При этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок
не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора
и крейсера, как это было между нами тремя ус-ловлено в Тегеране" '.
Очень много войн познало человечество. Неизбежными
они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,
Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.
А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой
уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.
В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но
неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим
солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая
страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры
Северного флота.
Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев
отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные
союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.
Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую
войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная
войной Советская
страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши
моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких
широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют
воевать советские люди.
Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до
сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над
нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,
вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала
запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.
Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.
Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.
Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,
предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен
также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального
военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим
ряд добрых советов.
Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал
даром.
Автор
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
подвиге советских людей в Великой Отечественной войне написано уже
немало, но эта тема поистине неисчерпаема. В своих воспоминаниях "В суровом
Баренцевом" капитан 1-го ранга запаса Г. Г. Поляков воспроизводит
малоизвестные широкому кругу читателей страницы боевой истории
Краснознаменного Северного флота.
Книга состоит из двух примерно равных по объему частей. В первой
излагается история появления в Советском Военно-Морском Флоте во время
минувшей войны кораблей иностранной постройки. Вторая часть посвящена боевой
деятельности этих кораблей под советским Военно-морским флагом в составе
эскадры Северного флота.
Чтобы дать возможность читателю лучше понять, почему в составе
Северного флота оказались корабли наших союзников по антигитлеровской
коалиции, напомним некоторые события, предшествовавшие этому.
В конце июля 1943 года фашистская Италия капитулировала. На конференции
министров иностранных дел СССР, США и Англии, которая проходила в Москве
(19--30 октября 1943 года), советская делегация предложила обсудить вопрос о
разделе итальянского флота между союзниками и конкретно -- Советскому Союзу
выделить линкор, крейсер, восемь эскадренных миноносцев и четыре подводные
лодки, что по боевой мощи составляло примерно одну треть трофейного флота.
Министры иностранных дел обещали по возвращении домой передать наши
предложения своим правительствам.
Но никакой реакции на эти предложения от правительств США и Англии не
последовало. На Тегеранской конференции (28 ноября -- 1 декабря 1943 г.)
наша делегация снова напомнила союзникам об итальянских кораблях.
Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль
согласились на передачу причитающейся нам части итальянского флота, назначив
конкретный срок -- конец января 1944 года. Время шло, война продолжалась, а
союзники не спешили с выполнением обещаний.
Наконец 23 января они сообщили, что делить итальянский флот в настоящее
время неудобно, это, дескать, настроит итальянцев против союзников, поэтому
могут передать во временное пользование только линкор -- англичане и легкий
крейсер -- американцы.
Председатель Совета Министров СССР И. Сталин 29 января 1944 года
направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю послание, в котором писал:
"...В вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому
Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок,
на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января Вы, г.
Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали согласие в Тегеране. Между тем для
Советского Союза главным является именно этот вопрос, вопрос о миноносцах и
подводных лодках, без которых не имеет значения передача 1 линкора и 1
крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без сопровождающих
их миноносцев. Поскольку в Вашем распоряжении находится весь военно-морской
флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в
пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота
не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо
итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в
наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев
и подводных лодок. При этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок
не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора
и крейсера, как это было между нами тремя ус-ловлено в Тегеране" '.
 1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с
президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войны 1941--1945 гг. М, Политиздат, 1976, т. 1, с 228--229
Передаваемые временно Военно-Морскому Флоту СССР английский линкор
"Ройял Соверин" и американский крейсер "Милуоки" были кораблями старой
постройки. Советское правительство ожидало, что помимо них будут выделены
современные эскадренные миноносцы, необходимые для различных видов боевой
деятельности на море.
В послании У. Черчиллю и Ф. Рузвельту 26 февраля 1944 г. И. Сталин
писал:
"...Поскольку г-н Керр специально предупредил, что все эсминцы являются
старыми, у меня имеется некоторое опасение относительно боевых качеств этих
эсминцев.
Между тем мне кажется, что для английского и американского флотов не
может представлять затруднений выделить в числе восьми эсминцев хотя бы
половину эсминцев современных, а не старых. Я все же надеюсь, что Вы и
Президент найдете возможным, чтобы в числе передаваемых эсминцев было по
крайней мере четыре современных. В результате военных действий со стороны
Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому
для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь" '.
Но ожидания эти не оправдались, хотя благодаря блистательным победам
Советских Вооруженных Сил под Москвой и особенно под Сталинградом и Курском,
обстановка в Атлантике изменилась в пользу союзников. Англичане выделили нам
эсминцы, построенные еще в период первой мировой войны в Соединенных Штатах
Америки.
В ту пору я был главой Советской военной миссии в Англии и помню, как
решался вопрос с передачей кораблей.
Первоначально предполагалось прием всех кораблей произвести в северных
портах Советского Союза. Это условие выполнили только американцы, передав в
Мурманске 20 апреля 1944 года крейсер "Милуоки". Англичане же затягивали
переговоры и, наконец, предложили произвести передачу кораблей в своих
портах.
В конце концов с союзниками была достигнута договоренность об отправке
советских приемных команд в Англию на американских транспортах.
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с
президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войны 1941--1945 гг. М., Политиздат, 1976, т. 1, с. 246.
Пунктом сбора и посадки на транспорты экипажей линкора и подводных
лодок был Архангельск, а команды эсминцев должны были отправляться из
Мурманска. Выбор этих пунктов определялся наличием действующих морских путей
сообщения между СССР и Великобританией. Движение конвоев из Англии в
северные порты нашей страны позволяло использовать возвращающиеся
американские транспорты для переброски личного состава в Англию, где нашим
морякам предстояло в короткий срок принять выделенные корабли, освоить
технику и оружие, отработать задачи боевой подготовки и соверщить на них
переход на Родину.
Моряки, отправлявшиеся для приемки кораблей, прибыли на Север с разных
флотов. Многие из них раньше никогда не встречались, не знали друг друга.
Теперь этим людям предстояло сообща решать сложную задачу в короткий срок. А
каждый человек -- это характер. Особенно трудно было офицерам и старшинам,
которые не знали, кто из краснофлотцев на что способен. Положение
облегчалось хорошо продуманным подбором команд: моряки с линкоров выделялись
для приемки линкора, с эсминцев -- на эсминцы, подводники назначались
принимать лодки. Большое значение имело и то, что в экипажах кораблей
четвертую часть составляли коммунисты и половину -- комсомольцы.
Созданные за десять--двенадцать дней до отправки в Англию партийные и
комсомольские организации кораблей и подразделений оказали большую помощь
командованию в сплочении экипажей и мобилизации моряков на успешное решение
задач.
Принимаемые от англичан корабли были организационно сведены в Отряд
кораблей Военно-Морского Флота СССР. Это соединение состояло из линейного
корабля, отдельного дивизиона эсминцев и отдельного аи-визиона подводных
лодок. Командующим отрядом был назначен заместитель Народного комиссара ВМФ
СССР вице-адмирал Г. И. Левченко, начальником штаба капитан 1-го ранга В. А.
Фокин, начальником политотдела капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо.
Линкором "Архангельск" командовал контр-адмирал В. И. Иванов,
дивизионом эсминцев -- капитан 1-го ранга И. Е. Абрамов, дивизионом
подводных лодок -- Герой Советского Союза капитан 1-го ранга А. В.
Три-польский.
Советскому читателю известна двуликость правящих кругов США и Англии,
которые вопреки клятвенным заверениям всячески уклонялись от выполнения
союзнических обязательств, намеренно ограничивали и затягивали военные
поставки Советскому Союзу, саботировали открытие второго фронта в Европе.
Надо отметить, что цельного, детализированного рассказа о том, как, в
какой обстановке происходил прием кораблей в Англии, в литературе пока нет.
Предлагаемая читателю книга восполняет этот пробел. Она поможет через
частные события яснее увидеть существо наших противоречивых отношений с
западными союзниками в годы минувшей войны.
Оказавшись впервые в капиталистической стране, наши моряки столкнулись
с непривычной для них действительностью, с необычными проблемами. Высокая
идейность и отличная техническая подготовка позволили им успешно преодолеть
встретившиеся трудности и выполнить задание в кратчайший срок.
Вторая часть книги Полякова Г. Г. знакомит читателей с небольшим по
времени (около восьми месяцев) периодом боевой деятельности эсминцев эскадры
Северного флота. Это были очень напряженные, насыщенные интенсивной боевой
деятельностью месяцы. Особенно трудно было осенью и зимой 1944/45 г., когда
наступила полярная ночь с постоянными штормами, обледенениями, снежными
бурями.
К тому времени у немцев появились лодки новых типов с повышенной
скоростью. Они имели специальные устройства, позволявшие идти под дизелями в
подводном положении (на перископной глубине), поражали транспорты и корабли
противолодочной обороны само-наводящими акустическими торпедами. Претерпела
изменения и тактика врага -- лодки действовали "волчьими стаями".
Гросс-адмирал Дениц и сам Гитлер возлагали на них большие надежды, как на
средство, которое может изменить ход войны на море в пользу Германии.
На морских коммуникациях Северного флота сложилась очень напряженная
обстановка. Основная тяжесть борьбы с гитлеровскими подводными лодками в
осенне-зимних штормовых условиях легла на эсминцы. Корабли, принятые в
Англии, были, как говорится, далеко не первой молодости. Ржавые корпуса и
прогнившие
водонепроницаемые переборки, изношенные главные и вспомогательные
механизмы, старого образца артиллерийские установки и торпедные аппараты --
все это делало эсминцы мало пригодными к плаванию и боевой деятельности в
условиях Арктики. Но благодаря высокому мастерству, самоотверженности и
великому желанию громить гитлеровских захватчиков люди "выжимали" из старой
техники и оружия все возможное, а порой и невозможное, о чем убедительно
повествует Г. Г. Поляков.
Успехи Северного флота в защите морских коммуникаций вынужден был
признать даже бывший гитлеровский адмирал Руге. Характеризуя движение
конвоев между Англией и Советским Союзом, он пишет, что "в 1944--1945 гг. в
Мурманск снова стали ходить конвои полного состава из 30 и более торговых
судов. Несмотря на атаки подводных лодок, а иногда и самолетов, потерн
остались незначительными"'.
В книге названы десятки фамилий краснофлотцев, старшин и офицеров.
Автор, участник многих из описываемых событий, с большой теплотой
рассказывает о своих боевых товарищах, об их мужестве, самоотверженности,
преданности Родине и народу. Книга правильно освещает события тех далеких
лет, правдиво рисует специфику войны на море. В этом ее
историко-познавательная ценность.
Автору удалось показать многогранную работу корабельных партийных и
комсомольских организаций, их ведущую роль в решении задач, стоявших перед
личным составом и за границей во время приемки кораблей, и в период активных
военных действий.
Книга проникнута глубоким патриотизмом, любовью и беззаветной
преданностью социалистической Родине. Нет сомнений в том, что она будет с
интересом прочитана не только теми, кто прошел через горнило Великой
Отечественной войны, но и молодым поколением моряков, а также всеми, кто
имеет отношение к морю.
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с
президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войны 1941--1945 гг. М, Политиздат, 1976, т. 1, с 228--229
Передаваемые временно Военно-Морскому Флоту СССР английский линкор
"Ройял Соверин" и американский крейсер "Милуоки" были кораблями старой
постройки. Советское правительство ожидало, что помимо них будут выделены
современные эскадренные миноносцы, необходимые для различных видов боевой
деятельности на море.
В послании У. Черчиллю и Ф. Рузвельту 26 февраля 1944 г. И. Сталин
писал:
"...Поскольку г-н Керр специально предупредил, что все эсминцы являются
старыми, у меня имеется некоторое опасение относительно боевых качеств этих
эсминцев.
Между тем мне кажется, что для английского и американского флотов не
может представлять затруднений выделить в числе восьми эсминцев хотя бы
половину эсминцев современных, а не старых. Я все же надеюсь, что Вы и
Президент найдете возможным, чтобы в числе передаваемых эсминцев было по
крайней мере четыре современных. В результате военных действий со стороны
Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому
для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь" '.
Но ожидания эти не оправдались, хотя благодаря блистательным победам
Советских Вооруженных Сил под Москвой и особенно под Сталинградом и Курском,
обстановка в Атлантике изменилась в пользу союзников. Англичане выделили нам
эсминцы, построенные еще в период первой мировой войны в Соединенных Штатах
Америки.
В ту пору я был главой Советской военной миссии в Англии и помню, как
решался вопрос с передачей кораблей.
Первоначально предполагалось прием всех кораблей произвести в северных
портах Советского Союза. Это условие выполнили только американцы, передав в
Мурманске 20 апреля 1944 года крейсер "Милуоки". Англичане же затягивали
переговоры и, наконец, предложили произвести передачу кораблей в своих
портах.
В конце концов с союзниками была достигнута договоренность об отправке
советских приемных команд в Англию на американских транспортах.
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с
президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войны 1941--1945 гг. М., Политиздат, 1976, т. 1, с. 246.
Пунктом сбора и посадки на транспорты экипажей линкора и подводных
лодок был Архангельск, а команды эсминцев должны были отправляться из
Мурманска. Выбор этих пунктов определялся наличием действующих морских путей
сообщения между СССР и Великобританией. Движение конвоев из Англии в
северные порты нашей страны позволяло использовать возвращающиеся
американские транспорты для переброски личного состава в Англию, где нашим
морякам предстояло в короткий срок принять выделенные корабли, освоить
технику и оружие, отработать задачи боевой подготовки и соверщить на них
переход на Родину.
Моряки, отправлявшиеся для приемки кораблей, прибыли на Север с разных
флотов. Многие из них раньше никогда не встречались, не знали друг друга.
Теперь этим людям предстояло сообща решать сложную задачу в короткий срок. А
каждый человек -- это характер. Особенно трудно было офицерам и старшинам,
которые не знали, кто из краснофлотцев на что способен. Положение
облегчалось хорошо продуманным подбором команд: моряки с линкоров выделялись
для приемки линкора, с эсминцев -- на эсминцы, подводники назначались
принимать лодки. Большое значение имело и то, что в экипажах кораблей
четвертую часть составляли коммунисты и половину -- комсомольцы.
Созданные за десять--двенадцать дней до отправки в Англию партийные и
комсомольские организации кораблей и подразделений оказали большую помощь
командованию в сплочении экипажей и мобилизации моряков на успешное решение
задач.
Принимаемые от англичан корабли были организационно сведены в Отряд
кораблей Военно-Морского Флота СССР. Это соединение состояло из линейного
корабля, отдельного дивизиона эсминцев и отдельного аи-визиона подводных
лодок. Командующим отрядом был назначен заместитель Народного комиссара ВМФ
СССР вице-адмирал Г. И. Левченко, начальником штаба капитан 1-го ранга В. А.
Фокин, начальником политотдела капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо.
Линкором "Архангельск" командовал контр-адмирал В. И. Иванов,
дивизионом эсминцев -- капитан 1-го ранга И. Е. Абрамов, дивизионом
подводных лодок -- Герой Советского Союза капитан 1-го ранга А. В.
Три-польский.
Советскому читателю известна двуликость правящих кругов США и Англии,
которые вопреки клятвенным заверениям всячески уклонялись от выполнения
союзнических обязательств, намеренно ограничивали и затягивали военные
поставки Советскому Союзу, саботировали открытие второго фронта в Европе.
Надо отметить, что цельного, детализированного рассказа о том, как, в
какой обстановке происходил прием кораблей в Англии, в литературе пока нет.
Предлагаемая читателю книга восполняет этот пробел. Она поможет через
частные события яснее увидеть существо наших противоречивых отношений с
западными союзниками в годы минувшей войны.
Оказавшись впервые в капиталистической стране, наши моряки столкнулись
с непривычной для них действительностью, с необычными проблемами. Высокая
идейность и отличная техническая подготовка позволили им успешно преодолеть
встретившиеся трудности и выполнить задание в кратчайший срок.
Вторая часть книги Полякова Г. Г. знакомит читателей с небольшим по
времени (около восьми месяцев) периодом боевой деятельности эсминцев эскадры
Северного флота. Это были очень напряженные, насыщенные интенсивной боевой
деятельностью месяцы. Особенно трудно было осенью и зимой 1944/45 г., когда
наступила полярная ночь с постоянными штормами, обледенениями, снежными
бурями.
К тому времени у немцев появились лодки новых типов с повышенной
скоростью. Они имели специальные устройства, позволявшие идти под дизелями в
подводном положении (на перископной глубине), поражали транспорты и корабли
противолодочной обороны само-наводящими акустическими торпедами. Претерпела
изменения и тактика врага -- лодки действовали "волчьими стаями".
Гросс-адмирал Дениц и сам Гитлер возлагали на них большие надежды, как на
средство, которое может изменить ход войны на море в пользу Германии.
На морских коммуникациях Северного флота сложилась очень напряженная
обстановка. Основная тяжесть борьбы с гитлеровскими подводными лодками в
осенне-зимних штормовых условиях легла на эсминцы. Корабли, принятые в
Англии, были, как говорится, далеко не первой молодости. Ржавые корпуса и
прогнившие
водонепроницаемые переборки, изношенные главные и вспомогательные
механизмы, старого образца артиллерийские установки и торпедные аппараты --
все это делало эсминцы мало пригодными к плаванию и боевой деятельности в
условиях Арктики. Но благодаря высокому мастерству, самоотверженности и
великому желанию громить гитлеровских захватчиков люди "выжимали" из старой
техники и оружия все возможное, а порой и невозможное, о чем убедительно
повествует Г. Г. Поляков.
Успехи Северного флота в защите морских коммуникаций вынужден был
признать даже бывший гитлеровский адмирал Руге. Характеризуя движение
конвоев между Англией и Советским Союзом, он пишет, что "в 1944--1945 гг. в
Мурманск снова стали ходить конвои полного состава из 30 и более торговых
судов. Несмотря на атаки подводных лодок, а иногда и самолетов, потерн
остались незначительными"'.
В книге названы десятки фамилий краснофлотцев, старшин и офицеров.
Автор, участник многих из описываемых событий, с большой теплотой
рассказывает о своих боевых товарищах, об их мужестве, самоотверженности,
преданности Родине и народу. Книга правильно освещает события тех далеких
лет, правдиво рисует специфику войны на море. В этом ее
историко-познавательная ценность.
Автору удалось показать многогранную работу корабельных партийных и
комсомольских организаций, их ведущую роль в решении задач, стоявших перед
личным составом и за границей во время приемки кораблей, и в период активных
военных действий.
Книга проникнута глубоким патриотизмом, любовью и беззаветной
преданностью социалистической Родине. Нет сомнений в том, что она будет с
интересом прочитана не только теми, кто прошел через горнило Великой
Отечественной войны, но и молодым поколением моряков, а также всеми, кто
имеет отношение к морю.
 1 Ф Руге. Война на море 1939--1945 гг. М., Воениздат, 1957,
с. 284.
Весной 1970 года приехал я по служебным делам в
Ленинград. В первый же вечер навестил фронтового друга Николая
Ивановича Никольского, профессора Военно-морской академии. Во время войны мы
служили с ним на эсминце "Живучий" эскадры Северного флота. Никольский в
звании старшего лейтенанта-инженера был тогда командиром электромеханической
боевой части (по-уставному -- БЧ-V), а я по боевому расписанию -- командиром
батареи ЗА.
После войны мы встречались редко. И вот сейчас вспоминали боевых друзей
с "Живучего", штормовые походы, "проклятое" Заполярье и гораздо более
проклятые фашистские подводные лодки.
Вдруг Николай Иванович спрашивает:
-- Ты давно был в Военно-морском музее?
Я немного растерялся... Вопрос как-то не вязался с предыдущим
разговором.
-- Видишь ли, -- объяснил Николай Иванович, --
годы летят, и прошлое уходит, а в народе между тем
говорится: "Никто не забыт и ничто не забыто". Вскоре
после войны я видел в музее картину, на которой изо
бражен "Живучий", таранящий немецкую подводную
лодку. А потом как-то пришел в музей -- нет карти
ны! И экскурсовод ни слова не сказал о наших эсмин
цах...
С горечью говорил это ветеран-североморец. И я задумался. Вспомнил себя
молодым лейтенантом, по тревогам стремительно взбегавшим на мостик, где было
мое место -- управляющего огнем зенитной артиллерии. Пе-
ред глазами встало то далекое прошлое, когда служил я на эсминце
североморской эскадры.
-- А почему бы не написать тебе о "Живучем"? --
спросил Николай Иванович. -- Ты у нас в запасе, вре
мя свободное, должно быть, есть. Да и на мостике ты
все время по тревогам торчал, вел журнал боевых дей
ствий. Тебе, значит, и карты в руки.
Разбередил он меня этим разговором. На следующий день отправился я в
Центральный Военно-морской музей. И выяснил, что картина "Эскадренный
миноносец таранит немецко-фашистскую лодку" (написал ее художник Г. В.
Горшков еще в 1945 году) некоторое время экспонировалась, но вскоре была
снята.
Ну, да что там, у музеев свои законы, хотя обидно, конечно: ведь
картина воспроизводит довольно редкий эпизод Великой Отечественной войны --
момент тарана подводной лодки "U-387" эсминцем "Живучий".
Не знаю почему, но об эсминцах типа "Жаркий" ("Живучий" относился к
этому типу) в нашей литературе пишут и мало и к тому же неточно. Может быть,
потому, что уж больно необычной была история их появления в нашем Северном
флоте.
Комплектовали команды, которым предстояло принимать эсминцы и воевать
на них, кадровыми офицерами, служившими прежде на кораблях этого класса. Да
и старшин и рядовых краснофлотцев отбирали тоже из экипажей отечественных
эсминцев. Многие из моряков, кроме того, прошли суровую школу войны. Так,
экипажи "Дерзкого" и "Деятельного" составили из североморцев, "Жгучего" и
"Жаркого" -- из балтийцев, "Доблестного" и "Достойного" -- из черноморцев.
Только тихоокеанцы, из которых сформировали экипажи "Живучего", "Жесткого",
еще не имели боевого опыта.
И вот 24 апреля 1944 года Народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г.
Кузнецов провел смотр команд, отправлявшихся через океан на приемку
кораблей, и остался доволен. Из его короткой напутственной речи мне особенно
запомнились слова о необходимости блюсти за границей честь и достоинство
советских моряков, граждан великой страны.
-- Помните, -- говорил нарком, -- корабли, которые
вы будете принимать в Англии, -- не подарок союзни
ков. Право на них завоевано кровью советских людей
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
У тром 28 апреля 1944 года на "Джоне Ленноне" и
других американских транспортах, стоявших на рейде в Кольском заливе,
прозвучали колокола громкого боя. Снимались с якоря.
Еще накануне рейдовые буксиры доставили наших моряков на транспорты.
Тогда же в залив вошла и архангельская группа судов с экипажами линкора и
подводных лодок.
Личный состав размещали на судах с учетом возможных боевых потерь. Так
на один транспорт приходилась четверть боевой смены линкора и боевая смена
подводной лодки, а также один-два офицера штаба и политотдела отряда.
Экипажи эсминцев не дробили: каждый занимал один из транспортов.
Командование отрядом размещалось на английском конвойном авианосце
"Фен-сер".
Международным морским правом установлено: корабль или шлюпка являются
частью территории государства, флаг которого на них поднят. И вот уже сутки
экипаж "Живучего" находится на американской территории -- на "Джоне
Ленноне".
Приняли хозяева нас сдержанно. Помощник капитана Мор, сухопарый
американец средних лет с маленькими черными усиками, весьма лаконично
передал через переводчика распоряжения капитана. Они касались, в основном,
свободы нашего передвижения по судну на всем пути следования в Англию. В
частности, рядовому составу запрещалось находиться на верхней палубе.
Краснофлотцев и старшин поселили в кормовом трюме, оборудованном
деревянными нарами и камельками для обогрева. В соседнем трюме находились
столовая и запасы продовольствия. Для приготовления пищи приспособлены были
армейские походные кухни. Вход в трюм -- через люк с верхней палубы.
Ощущение такое, будто находишься в консервной банке -- ни окон, ни дверей.
Волны бьются где-то над головой: трюм ниже ватер-линии на два метра.
Офицерам отвели несколько кают, в которых обычно размещались
кадеты1. Нам с Николаем Ивановичем Никольским досталась
двухместная каюта.
Пароходы типа "Либерти", на которых нас отправили в Англию, американцы
начали строить в сентябре 1941 года. Водоизмещение их -- 10,5 тысячи тонн,
скорость 11 узлов2. Однако прочность и живучесть "Либерти"
оказались не на высоте: корпуса разламывались на крутой волне. Очевидно,
этим и объяснялось обилие на них спасательных средств -- вельботов,
плотиков, надувных жилетов.
Как только машины дали ход, мы с Никольским вышли на палубу. Здесь уже
было несколько наших офицеров.
Подошел и старший боцман Алексей Повторак, главный старшина, призванный
из запаса. Он только что ходил на бак, где брашпилем матросы выбирали якорь.
Ну, боцман, что увидел хорошего у американ
цев? -- спросил старпом Алексей Прокопьевич Пронич-
кин.
Ничего нового, товарищ старший лейтенант. А вот
их боцман мне не понравился. Матрос один с бранд
спойтом замешкался, так он на глазах у всех как двинет
его кулаком! Жаль, нельзя было вмешаться...
Так начался переход. Многие из нас попали на Север впервые и стремились
получше рассмотреть окружающую местность. Мимо проплывали скалистые берега
залива. Чуть дальше с обеих сторон возвышались сопки. Округлые у подножья, с
тупыми вершинами, они были почти сплошь покрыты снегом, лишь местами
виднелись клочки растительности -- кусты да березки с кривыми
1 Ф Руге. Война на море 1939--1945 гг. М., Воениздат, 1957,
с. 284.
Весной 1970 года приехал я по служебным делам в
Ленинград. В первый же вечер навестил фронтового друга Николая
Ивановича Никольского, профессора Военно-морской академии. Во время войны мы
служили с ним на эсминце "Живучий" эскадры Северного флота. Никольский в
звании старшего лейтенанта-инженера был тогда командиром электромеханической
боевой части (по-уставному -- БЧ-V), а я по боевому расписанию -- командиром
батареи ЗА.
После войны мы встречались редко. И вот сейчас вспоминали боевых друзей
с "Живучего", штормовые походы, "проклятое" Заполярье и гораздо более
проклятые фашистские подводные лодки.
Вдруг Николай Иванович спрашивает:
-- Ты давно был в Военно-морском музее?
Я немного растерялся... Вопрос как-то не вязался с предыдущим
разговором.
-- Видишь ли, -- объяснил Николай Иванович, --
годы летят, и прошлое уходит, а в народе между тем
говорится: "Никто не забыт и ничто не забыто". Вскоре
после войны я видел в музее картину, на которой изо
бражен "Живучий", таранящий немецкую подводную
лодку. А потом как-то пришел в музей -- нет карти
ны! И экскурсовод ни слова не сказал о наших эсмин
цах...
С горечью говорил это ветеран-североморец. И я задумался. Вспомнил себя
молодым лейтенантом, по тревогам стремительно взбегавшим на мостик, где было
мое место -- управляющего огнем зенитной артиллерии. Пе-
ред глазами встало то далекое прошлое, когда служил я на эсминце
североморской эскадры.
-- А почему бы не написать тебе о "Живучем"? --
спросил Николай Иванович. -- Ты у нас в запасе, вре
мя свободное, должно быть, есть. Да и на мостике ты
все время по тревогам торчал, вел журнал боевых дей
ствий. Тебе, значит, и карты в руки.
Разбередил он меня этим разговором. На следующий день отправился я в
Центральный Военно-морской музей. И выяснил, что картина "Эскадренный
миноносец таранит немецко-фашистскую лодку" (написал ее художник Г. В.
Горшков еще в 1945 году) некоторое время экспонировалась, но вскоре была
снята.
Ну, да что там, у музеев свои законы, хотя обидно, конечно: ведь
картина воспроизводит довольно редкий эпизод Великой Отечественной войны --
момент тарана подводной лодки "U-387" эсминцем "Живучий".
Не знаю почему, но об эсминцах типа "Жаркий" ("Живучий" относился к
этому типу) в нашей литературе пишут и мало и к тому же неточно. Может быть,
потому, что уж больно необычной была история их появления в нашем Северном
флоте.
Комплектовали команды, которым предстояло принимать эсминцы и воевать
на них, кадровыми офицерами, служившими прежде на кораблях этого класса. Да
и старшин и рядовых краснофлотцев отбирали тоже из экипажей отечественных
эсминцев. Многие из моряков, кроме того, прошли суровую школу войны. Так,
экипажи "Дерзкого" и "Деятельного" составили из североморцев, "Жгучего" и
"Жаркого" -- из балтийцев, "Доблестного" и "Достойного" -- из черноморцев.
Только тихоокеанцы, из которых сформировали экипажи "Живучего", "Жесткого",
еще не имели боевого опыта.
И вот 24 апреля 1944 года Народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г.
Кузнецов провел смотр команд, отправлявшихся через океан на приемку
кораблей, и остался доволен. Из его короткой напутственной речи мне особенно
запомнились слова о необходимости блюсти за границей честь и достоинство
советских моряков, граждан великой страны.
-- Помните, -- говорил нарком, -- корабли, которые
вы будете принимать в Англии, -- не подарок союзни
ков. Право на них завоевано кровью советских людей
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
У тром 28 апреля 1944 года на "Джоне Ленноне" и
других американских транспортах, стоявших на рейде в Кольском заливе,
прозвучали колокола громкого боя. Снимались с якоря.
Еще накануне рейдовые буксиры доставили наших моряков на транспорты.
Тогда же в залив вошла и архангельская группа судов с экипажами линкора и
подводных лодок.
Личный состав размещали на судах с учетом возможных боевых потерь. Так
на один транспорт приходилась четверть боевой смены линкора и боевая смена
подводной лодки, а также один-два офицера штаба и политотдела отряда.
Экипажи эсминцев не дробили: каждый занимал один из транспортов.
Командование отрядом размещалось на английском конвойном авианосце
"Фен-сер".
Международным морским правом установлено: корабль или шлюпка являются
частью территории государства, флаг которого на них поднят. И вот уже сутки
экипаж "Живучего" находится на американской территории -- на "Джоне
Ленноне".
Приняли хозяева нас сдержанно. Помощник капитана Мор, сухопарый
американец средних лет с маленькими черными усиками, весьма лаконично
передал через переводчика распоряжения капитана. Они касались, в основном,
свободы нашего передвижения по судну на всем пути следования в Англию. В
частности, рядовому составу запрещалось находиться на верхней палубе.
Краснофлотцев и старшин поселили в кормовом трюме, оборудованном
деревянными нарами и камельками для обогрева. В соседнем трюме находились
столовая и запасы продовольствия. Для приготовления пищи приспособлены были
армейские походные кухни. Вход в трюм -- через люк с верхней палубы.
Ощущение такое, будто находишься в консервной банке -- ни окон, ни дверей.
Волны бьются где-то над головой: трюм ниже ватер-линии на два метра.
Офицерам отвели несколько кают, в которых обычно размещались
кадеты1. Нам с Николаем Ивановичем Никольским досталась
двухместная каюта.
Пароходы типа "Либерти", на которых нас отправили в Англию, американцы
начали строить в сентябре 1941 года. Водоизмещение их -- 10,5 тысячи тонн,
скорость 11 узлов2. Однако прочность и живучесть "Либерти"
оказались не на высоте: корпуса разламывались на крутой волне. Очевидно,
этим и объяснялось обилие на них спасательных средств -- вельботов,
плотиков, надувных жилетов.
Как только машины дали ход, мы с Никольским вышли на палубу. Здесь уже
было несколько наших офицеров.
Подошел и старший боцман Алексей Повторак, главный старшина, призванный
из запаса. Он только что ходил на бак, где брашпилем матросы выбирали якорь.
Ну, боцман, что увидел хорошего у американ
цев? -- спросил старпом Алексей Прокопьевич Пронич-
кин.
Ничего нового, товарищ старший лейтенант. А вот
их боцман мне не понравился. Матрос один с бранд
спойтом замешкался, так он на глазах у всех как двинет
его кулаком! Жаль, нельзя было вмешаться...
Так начался переход. Многие из нас попали на Север впервые и стремились
получше рассмотреть окружающую местность. Мимо проплывали скалистые берега
залива. Чуть дальше с обеих сторон возвышались сопки. Округлые у подножья, с
тупыми вершинами, они были почти сплошь покрыты снегом, лишь местами
виднелись клочки растительности -- кусты да березки с кривыми
 1 Кадеты -- здесь курсанты мореходного училища
2 С. Э. Морисон. Битва за Атлантику М, Воениздат, 1956,
с. 302.
крючковатыми ветвями. Берега слева и справа пустынны. Кое-где
попадались редкие домики, приютившиеся у самого уреза воды.
Скучноватый вид, прямо скажем, -- вслух выра
зил свои мысли Анатолий Лисовский, командир артил
лерийской боевой части.
На Тихом океане тоже скалы и сопки, но там хоть
настоящие деревья растут, -- пробурчал штурман Ни
колай Гончаров.
Ничего, братцы, зато здесь северное сияние уви
дим, -- успокоил всех Василий Лариошин. Командир
минно-торпедной боевой части всегда отличался опти
мизмом.
А правда, что здесь куры не живут? -- спросил
Повторак и, заметив наше недоумение, пояснил: --
В Заполярье полгода день, полгода ночь -- рассвета не
бывает. Слышал я, петухи отвыкают кукарекать и по
гибают. Ну, какие же могут быть куры без петухов?
А наш боцман философ, -- улыбаясь вставил зам
полит капитан-лейтенант Ефим Антонович Фомин. Все
дружно рассмеялись, а Повторак, смутившись, отошел
в сторону.
Впереди, справа по курсу, открылся скалистый, с обрывистыми берегами
остров. Это Кильдин.
Как только вышли из залива, суда построились в походный ордер. Наш
конвой, имевший условное наименование "RA-59", состоял из сорока четырех
транспортов -- по пять в колонне. Вместе с кораблями эскорта транспорты
растянулись на несколько миль по фронту.
Вначале конвой шел на северо-восток -- надо было подальше оторваться от
берега, чтобы гитлеровская авиация не смогла нанести удар по судам с финских
и норвежских аэродромов.
Наши истребители сопровождали конвой вплоть до 70-й параллели.
Защита полярных конвоев по договоренности с союзниками возлагалась на
британский флот. Корабли Северного флота эскортировали караваны только в
своей операционной зоне -- до меридиана 20°. Вот и теперь в составе эскорта
находились семь советских кораблей: эсминцы "Гремящий", "Разъяренный" и
"Куйбышев", два тральщика и два больших охотника за подводными лодками.
Первый день был на исходе. Ни вражеской авиации, ни подводных лодок не
было слышно. Но с наступлением сумерек гидроакустики стали нащупывать
притаившегося врага. Взрывы один за другим раздавались где-то позади. Это
наши тральщики сбрасывали глубинные бомбы. Ночью корабли эскорта
радиолокатором обнаружили вражеский самолет. Немного позже тральщик атаковал
глубинными бомбами подводную лодку. Значит, немцы обнаружили конвой. Как
стало известно впоследствии ', большая часть из двенадцати фашистских
подводных лодок, развернутых в Норвежском море, по приказу командования
спешила занять выгодные для атаки позиции.
Через сутки конвой повернул влево и лег на курс северо-запад. Вскоре
после этого вице-адмирал Г. И. Левченко передал с "Фенсера" на советские
корабли:
-- Возвращайтесь на базу. Благодарю за эскортирование.
На них взвился сигнал: "Желаю счастливого плавания!"
С грустью смотрели мы вслед уходящим кораблям под таким родным нам всем
Военно-морским флагом. Когда они шли с нами, а в небе кружили краснозвездные
истребители, на душе было как-то веселее, спокойнее. А теперь впереди и
сзади, слева и справа, куда ни посмотришь, везде над судами полоскался
звездно-полосатый американский флаг.
Слева от нас, выделяясь высоким бортом и длинной палубой, шел конвойный
авианосец "Фенсер" под британским флагом. Авианосец временами выходил из
общего строя для выпуска или приема самолетов. Интересно было наблюдать,
как, развив нужную скорость и повернув против ветра, авианосец ложился на
боевой курс и тотчас с его палубы взлетали один за другим самолеты. На
каждом таком авианосце их две эскадрильи -- одна истребительная, вторая --
противолодочная.
Второй день не переставая дул пятибалльный ветер, разгоняя высокую
волну. Частые снежные заряды внезапно окутывали конвой и закрывали суда
сплошной пеленой. С транспортов спустили на длинных тросах ту-
1 Кадеты -- здесь курсанты мореходного училища
2 С. Э. Морисон. Битва за Атлантику М, Воениздат, 1956,
с. 302.
крючковатыми ветвями. Берега слева и справа пустынны. Кое-где
попадались редкие домики, приютившиеся у самого уреза воды.
Скучноватый вид, прямо скажем, -- вслух выра
зил свои мысли Анатолий Лисовский, командир артил
лерийской боевой части.
На Тихом океане тоже скалы и сопки, но там хоть
настоящие деревья растут, -- пробурчал штурман Ни
колай Гончаров.
Ничего, братцы, зато здесь северное сияние уви
дим, -- успокоил всех Василий Лариошин. Командир
минно-торпедной боевой части всегда отличался опти
мизмом.
А правда, что здесь куры не живут? -- спросил
Повторак и, заметив наше недоумение, пояснил: --
В Заполярье полгода день, полгода ночь -- рассвета не
бывает. Слышал я, петухи отвыкают кукарекать и по
гибают. Ну, какие же могут быть куры без петухов?
А наш боцман философ, -- улыбаясь вставил зам
полит капитан-лейтенант Ефим Антонович Фомин. Все
дружно рассмеялись, а Повторак, смутившись, отошел
в сторону.
Впереди, справа по курсу, открылся скалистый, с обрывистыми берегами
остров. Это Кильдин.
Как только вышли из залива, суда построились в походный ордер. Наш
конвой, имевший условное наименование "RA-59", состоял из сорока четырех
транспортов -- по пять в колонне. Вместе с кораблями эскорта транспорты
растянулись на несколько миль по фронту.
Вначале конвой шел на северо-восток -- надо было подальше оторваться от
берега, чтобы гитлеровская авиация не смогла нанести удар по судам с финских
и норвежских аэродромов.
Наши истребители сопровождали конвой вплоть до 70-й параллели.
Защита полярных конвоев по договоренности с союзниками возлагалась на
британский флот. Корабли Северного флота эскортировали караваны только в
своей операционной зоне -- до меридиана 20°. Вот и теперь в составе эскорта
находились семь советских кораблей: эсминцы "Гремящий", "Разъяренный" и
"Куйбышев", два тральщика и два больших охотника за подводными лодками.
Первый день был на исходе. Ни вражеской авиации, ни подводных лодок не
было слышно. Но с наступлением сумерек гидроакустики стали нащупывать
притаившегося врага. Взрывы один за другим раздавались где-то позади. Это
наши тральщики сбрасывали глубинные бомбы. Ночью корабли эскорта
радиолокатором обнаружили вражеский самолет. Немного позже тральщик атаковал
глубинными бомбами подводную лодку. Значит, немцы обнаружили конвой. Как
стало известно впоследствии ', большая часть из двенадцати фашистских
подводных лодок, развернутых в Норвежском море, по приказу командования
спешила занять выгодные для атаки позиции.
Через сутки конвой повернул влево и лег на курс северо-запад. Вскоре
после этого вице-адмирал Г. И. Левченко передал с "Фенсера" на советские
корабли:
-- Возвращайтесь на базу. Благодарю за эскортирование.
На них взвился сигнал: "Желаю счастливого плавания!"
С грустью смотрели мы вслед уходящим кораблям под таким родным нам всем
Военно-морским флагом. Когда они шли с нами, а в небе кружили краснозвездные
истребители, на душе было как-то веселее, спокойнее. А теперь впереди и
сзади, слева и справа, куда ни посмотришь, везде над судами полоскался
звездно-полосатый американский флаг.
Слева от нас, выделяясь высоким бортом и длинной палубой, шел конвойный
авианосец "Фенсер" под британским флагом. Авианосец временами выходил из
общего строя для выпуска или приема самолетов. Интересно было наблюдать,
как, развив нужную скорость и повернув против ветра, авианосец ложился на
боевой курс и тотчас с его палубы взлетали один за другим самолеты. На
каждом таком авианосце их две эскадрильи -- одна истребительная, вторая --
противолодочная.
Второй день не переставая дул пятибалльный ветер, разгоняя высокую
волну. Частые снежные заряды внезапно окутывали конвой и закрывали суда
сплошной пеленой. С транспортов спустили на длинных тросах ту-
 1 Rohwer, lurgpn und Hummelchen Gerald Chronick des
Seek-neges 1939--1945 Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968.
манные буи. Рулевые ориентировались по ним, держа заданную дистанцию,
часто совсем не видя идущие впереди суда.
По-разному складывались взаимоотношения американцев с советскими
моряками.
Когда мы уже прибыли в Англию, офицеры, конечно же, обменивались между
собой впечатлениями о том, как советских моряков приняли на американских
судах. Сошлись на том, что в основном отношение было дружественным. Да и
сами американские моряки подтверждали это. Капитан транспорта, на котором
шел экипаж эсминца "Доблестный", например, говорил:
-- О пребывании русских моряков на судне мы сохраним на долгое время
самые лучшие воспоминания. Я убедился, что русские моряки являются самыми
культурными и тактичными людьми и американцам нужно многому учиться у
русских '.
Так же по-дружески отнеслись американцы к совет- ским морякам и на
пароходе "Энрик Корнели", где раз- мещался экипаж "Жесткого". Интересен
такой эпизод, происшедший на этом судне. Капитан спустился в трюм, чтобы
посмотреть, удобно ли разместились советские моряки. Командир экипажа
Щербаков предложил ему плату за уголь для камельков. Но американец отказался
от нее и сказал: "Союзники и так в долгу перед советскими
людьми"2.
1 мая в кают-компании "Энрика Корнели" был устроен торжественный обед с
участием советских офицеров.
На транспорте "Венджиамин Латробе" капитан Джейм Константиниус приказал
поднять 1 мая советский флаг и набор сигнальных флагов: "Да здравствует 1
Мая!"3.
В те дни на нескольких иностранных судах выступали наши моряки с
концертами художественной самодеятельности. Свободные от вахты американцы
восторженно принимали каждый номер.
Тепло встретили советских моряков и на английском авианосце "Фенсер".
Их провели по кораблю, показали
1 Rohwer, lurgpn und Hummelchen Gerald Chronick des
Seek-neges 1939--1945 Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968.
манные буи. Рулевые ориентировались по ним, держа заданную дистанцию,
часто совсем не видя идущие впереди суда.
По-разному складывались взаимоотношения американцев с советскими
моряками.
Когда мы уже прибыли в Англию, офицеры, конечно же, обменивались между
собой впечатлениями о том, как советских моряков приняли на американских
судах. Сошлись на том, что в основном отношение было дружественным. Да и
сами американские моряки подтверждали это. Капитан транспорта, на котором
шел экипаж эсминца "Доблестный", например, говорил:
-- О пребывании русских моряков на судне мы сохраним на долгое время
самые лучшие воспоминания. Я убедился, что русские моряки являются самыми
культурными и тактичными людьми и американцам нужно многому учиться у
русских '.
Так же по-дружески отнеслись американцы к совет- ским морякам и на
пароходе "Энрик Корнели", где раз- мещался экипаж "Жесткого". Интересен
такой эпизод, происшедший на этом судне. Капитан спустился в трюм, чтобы
посмотреть, удобно ли разместились советские моряки. Командир экипажа
Щербаков предложил ему плату за уголь для камельков. Но американец отказался
от нее и сказал: "Союзники и так в долгу перед советскими
людьми"2.
1 мая в кают-компании "Энрика Корнели" был устроен торжественный обед с
участием советских офицеров.
На транспорте "Венджиамин Латробе" капитан Джейм Константиниус приказал
поднять 1 мая советский флаг и набор сигнальных флагов: "Да здравствует 1
Мая!"3.
В те дни на нескольких иностранных судах выступали наши моряки с
концертами художественной самодеятельности. Свободные от вахты американцы
восторженно принимали каждый номер.
Тепло встретили советских моряков и на английском авианосце "Фенсер".
Их провели по кораблю, показали
 1 Отделение Центрального Военно-морского архива (ОЦВМА),.
ф. 254, д 23129, л. 9
2 Там же, л 9
3 Там же.
17
ангары, взлетную палубу. Выделили людей для обслуживания наших
офицеров.
-- Ранним утром в мою каюту неслышно вошел английский матрос, молча
взял китель, брюки, ботинки и так же молча вышел, -- рассказывал как-то в
кругу друзей военный кинокорреспондент лейтенант Н. И. Большаков. -- Я хотел
окликнуть его, но не знал английского. Лежу и думаю: "Куда это он понес мою
одежду?" Прошло полчаса. Матрос внес в каюту китель и брюки. Они были
тщательно отутюжены. Через пять минут поставил на пол вычищенные ботинки,
улыбнулся и сказал: "Куин Мэри!" Я вначале не понял, что он имел в виду, а
потом рассмеялся: матросу ботинки 47-го размера показались слишком большими
(как лайнер "Куин Мэри").
На многих "Либерти" нашему личному составу разрешалось вместе с
американцами вести наблюдение за морем и воздухом в выделенных секторах, а
комендоров закрепили за орудийными расчетами, чтобы они при необходимости
помогали союзникам.
Команды американских транспортных судов были укомплектованы не только
профессиональными моряками. В погоне за "длинным" долларом на эти суда
нанимались и всякого рода деклассированные личности из числа международных
головорезов и бродяг'. Поэтому не случайно на некоторых судах оказались
люди, настроенные к нам недоброжелательно и даже враждебно. Среди них были
профашистские элементы, выискивавшие любой даже малейший повод, чтобы
скомпрометировать наших моряков; иногда они шли на откровенные провокации.
Расскажу о случае, свидетелем которого был сам. Экипаж нашего эсминца
"Живучий" размещался на транспорте "Джон Леннон". Помню, на вторые сутки
плавания по судовой трансляции мы услышали передачу, которая велась на
русском языке: немцы хвастливо заявляли, что всех русских, совершающих
переход в составе конвоя, утопят: одних на пути в Англию, других -- при
возвращении в Мурманск.
Радиопередача вызвала у всех нас неприятный осадок.
1 Отделение Центрального Военно-морского архива (ОЦВМА),.
ф. 254, д 23129, л. 9
2 Там же, л 9
3 Там же.
17
ангары, взлетную палубу. Выделили людей для обслуживания наших
офицеров.
-- Ранним утром в мою каюту неслышно вошел английский матрос, молча
взял китель, брюки, ботинки и так же молча вышел, -- рассказывал как-то в
кругу друзей военный кинокорреспондент лейтенант Н. И. Большаков. -- Я хотел
окликнуть его, но не знал английского. Лежу и думаю: "Куда это он понес мою
одежду?" Прошло полчаса. Матрос внес в каюту китель и брюки. Они были
тщательно отутюжены. Через пять минут поставил на пол вычищенные ботинки,
улыбнулся и сказал: "Куин Мэри!" Я вначале не понял, что он имел в виду, а
потом рассмеялся: матросу ботинки 47-го размера показались слишком большими
(как лайнер "Куин Мэри").
На многих "Либерти" нашему личному составу разрешалось вместе с
американцами вести наблюдение за морем и воздухом в выделенных секторах, а
комендоров закрепили за орудийными расчетами, чтобы они при необходимости
помогали союзникам.
Команды американских транспортных судов были укомплектованы не только
профессиональными моряками. В погоне за "длинным" долларом на эти суда
нанимались и всякого рода деклассированные личности из числа международных
головорезов и бродяг'. Поэтому не случайно на некоторых судах оказались
люди, настроенные к нам недоброжелательно и даже враждебно. Среди них были
профашистские элементы, выискивавшие любой даже малейший повод, чтобы
скомпрометировать наших моряков; иногда они шли на откровенные провокации.
Расскажу о случае, свидетелем которого был сам. Экипаж нашего эсминца
"Живучий" размещался на транспорте "Джон Леннон". Помню, на вторые сутки
плавания по судовой трансляции мы услышали передачу, которая велась на
русском языке: немцы хвастливо заявляли, что всех русских, совершающих
переход в составе конвоя, утопят: одних на пути в Англию, других -- при
возвращении в Мурманск.
Радиопередача вызвала у всех нас неприятный осадок.
 1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". М, Воениздат,
1971, с. 59
Вот, гады, еще запугивают, -- первым высказал
ся командирский вестовой старший краснофлотец Иван
Клименко.
А это мы еще посмотрим, кто кого утопит. Как гово
рится, бабушка надвое сказала, -- со злостью произнес
Алексей Повторак.
Наглость гитлеровцев возмущала, да и хозяева были хороши! "Зачем
американцы пичкают нас фашистской стряпней?" -- раздавались голоса в трюме.
Действительно, зачем? Так настоящие союзники поступать не должны.
Теперь мы иначе стали смотреть на другие моменты, которым раньше не
придавали особого значения. Капитан судна, например, Луис Пастер, сразу
произвел на нас впечатление человека высокомерного, необщительного. Да и
команда отнеслась к нам в начале похода весьма сдержанно. А дело,
оказывается, было в том, что капитан запретил экипажу вступать в разговоры с
советскими моряками. Наш переводчик главный старшина Володя Журавлев прочел
распоряжение об этом на дверях кают-компании.
А на следующий день, это было в канун Первого мая, на кормовой
надстройке у трюма, где размещалась советская команда, появилось изображение
свастики.
-- Это не иначе, как дело рук боцмана Швайгера, --
высказал предположение Алексей Повторак.
Американские матросы не любили боцмана, поговаривали о его симпатиях к
фашистам. Эта молва дошла и до советских моряков.
Провокацию со свастикой решили оставить без внимания, протеста капитану
не заявлять.
В полдень, выйдя на палубу, я остановился пораженный: поверх фашистской
свастики кто-то нарисовал суриком большую пятиконечную звезду. Подошло
несколько наших офицеров.
А у нас тут, оказывается, и друзья есть,-- кивнув
в сторону кормовой надстройки, заметил парторг кораб
ля Филимон Лысый.
Получилось здорово, даже символично, -- доба
вил Алексей Проничкин.
Утром следующего дня мы обнаружили, что эту часть кормовой надстройки
тщательно подкрасили. Больше подобных "художеств" на "Джоне Ленноне" не
наблюдалось.
Непривычно чувствовали мы себя в роли пассажиров. Монотонность походной
обстановки разнообразили кто как мог. Одни читали запоем, другие часами
просиживали за шахматной доской, третьи сражались в домино. Домино у нас
было самодельное, массивное -- из текстолита. Стук его костяшек гулко
раздавался в просторном трюме. Но и он не мог заглушить подводных взрывов,
словно кувалдой бивших по корпусу. Это корабли охранения глубинными бомбами
отгоняли от конвоя вражеские подводные лодки.
Не обходилось, конечно, и без обычной морской "травли". Многие старшины
и краснофлотцы служили по пятому--седьмому году и, как говорят на флоте, уже
"не один вельбот каши съели". Особенно часто вспоминали о первых днях своей
службы. Минер, старшина 2-й статьи Иван Лукьянцев, например, не мог без
смеха рассказывать, как во время большой приборки подшутил над ним
старослужащий из боцманской команды: "Вот тебе мешок, сходи в котельное за
паром". И тот, не подозревая подвоха, побежал исполнять поручение.
-- А у нас на корабле новичков заставляли продувать пыль в макаронах,
точить напильником лапы якоря, посылали на клотик' чай пить, -- рассказывал
старшина 1-й статьи Виктор Рыбченко. -- Но за эти проделки шутникам здорово
влетало от старпома.
С удовольствием слушали флотскую байку наши краснофлотцы-первогодки
Александр Петров, Евгений Баринов и Георгий Алхимов. В экипаж они прибыли из
Москвы, только что окончив школу радиометристов. Это было их первое
плавание.
В кают-компании "Джона Леннона" после обеда собирались офицеры
"Живучего". Хозяева в это время сюда не заходили -- одни были на вахте,
другие отдыхали после смены в каютах. Мы рассаживались, кто за длинным
обеденным столом, кто за небольшим столиком для настольных игр, кто
устраивался поудобнее в кожаных креслах.
Много лет прошло, а помнится все отчетливо. Вот в левом углу в кресле
сидит щеголеватый брюнет. У него тонкие усики, густая копна вьющихся волос,
слегка
1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". М, Воениздат,
1971, с. 59
Вот, гады, еще запугивают, -- первым высказал
ся командирский вестовой старший краснофлотец Иван
Клименко.
А это мы еще посмотрим, кто кого утопит. Как гово
рится, бабушка надвое сказала, -- со злостью произнес
Алексей Повторак.
Наглость гитлеровцев возмущала, да и хозяева были хороши! "Зачем
американцы пичкают нас фашистской стряпней?" -- раздавались голоса в трюме.
Действительно, зачем? Так настоящие союзники поступать не должны.
Теперь мы иначе стали смотреть на другие моменты, которым раньше не
придавали особого значения. Капитан судна, например, Луис Пастер, сразу
произвел на нас впечатление человека высокомерного, необщительного. Да и
команда отнеслась к нам в начале похода весьма сдержанно. А дело,
оказывается, было в том, что капитан запретил экипажу вступать в разговоры с
советскими моряками. Наш переводчик главный старшина Володя Журавлев прочел
распоряжение об этом на дверях кают-компании.
А на следующий день, это было в канун Первого мая, на кормовой
надстройке у трюма, где размещалась советская команда, появилось изображение
свастики.
-- Это не иначе, как дело рук боцмана Швайгера, --
высказал предположение Алексей Повторак.
Американские матросы не любили боцмана, поговаривали о его симпатиях к
фашистам. Эта молва дошла и до советских моряков.
Провокацию со свастикой решили оставить без внимания, протеста капитану
не заявлять.
В полдень, выйдя на палубу, я остановился пораженный: поверх фашистской
свастики кто-то нарисовал суриком большую пятиконечную звезду. Подошло
несколько наших офицеров.
А у нас тут, оказывается, и друзья есть,-- кивнув
в сторону кормовой надстройки, заметил парторг кораб
ля Филимон Лысый.
Получилось здорово, даже символично, -- доба
вил Алексей Проничкин.
Утром следующего дня мы обнаружили, что эту часть кормовой надстройки
тщательно подкрасили. Больше подобных "художеств" на "Джоне Ленноне" не
наблюдалось.
Непривычно чувствовали мы себя в роли пассажиров. Монотонность походной
обстановки разнообразили кто как мог. Одни читали запоем, другие часами
просиживали за шахматной доской, третьи сражались в домино. Домино у нас
было самодельное, массивное -- из текстолита. Стук его костяшек гулко
раздавался в просторном трюме. Но и он не мог заглушить подводных взрывов,
словно кувалдой бивших по корпусу. Это корабли охранения глубинными бомбами
отгоняли от конвоя вражеские подводные лодки.
Не обходилось, конечно, и без обычной морской "травли". Многие старшины
и краснофлотцы служили по пятому--седьмому году и, как говорят на флоте, уже
"не один вельбот каши съели". Особенно часто вспоминали о первых днях своей
службы. Минер, старшина 2-й статьи Иван Лукьянцев, например, не мог без
смеха рассказывать, как во время большой приборки подшутил над ним
старослужащий из боцманской команды: "Вот тебе мешок, сходи в котельное за
паром". И тот, не подозревая подвоха, побежал исполнять поручение.
-- А у нас на корабле новичков заставляли продувать пыль в макаронах,
точить напильником лапы якоря, посылали на клотик' чай пить, -- рассказывал
старшина 1-й статьи Виктор Рыбченко. -- Но за эти проделки шутникам здорово
влетало от старпома.
С удовольствием слушали флотскую байку наши краснофлотцы-первогодки
Александр Петров, Евгений Баринов и Георгий Алхимов. В экипаж они прибыли из
Москвы, только что окончив школу радиометристов. Это было их первое
плавание.
В кают-компании "Джона Леннона" после обеда собирались офицеры
"Живучего". Хозяева в это время сюда не заходили -- одни были на вахте,
другие отдыхали после смены в каютах. Мы рассаживались, кто за длинным
обеденным столом, кто за небольшим столиком для настольных игр, кто
устраивался поудобнее в кожаных креслах.
Много лет прошло, а помнится все отчетливо. Вот в левом углу в кресле
сидит щеголеватый брюнет. У него тонкие усики, густая копна вьющихся волос,
слегка
 1 Клотик -- точеный, обычно деревянный, кружок с
выступающими закругленными краями, надеваемый на флагшток или топ-мачту.
скуластое лицо и чуть раскосые глаза. Это командир минно-торпедной
боевой части лейтенант Василий Ла-риошин. В руках он держит
русско-английский словарь -- времени зря не теряет. В Мурманске у лейтенанта
осталась знакомая девушка Дуся. При расставании по старинному русскому
обычаю она разбила "на счастье" две тарелки. Василий сам рассказал нам об
этом, и мы не раз потом подтрунивали над минером.
За большим обеденным столом идет игра в домино. Старший лейтенант
Лисовский -- в паре с командиром боевой части наблюдения и связи лейтенантом
Улановым, штурман Николай Гончаров -- с командиром мин-но-котельной группы
капитан-лейтенантом-инженером Борисом Дубововым. Вот в правом углу
кают-компании сидят за шахматами замполит Ефим Фомин и врач Владимир
Морозенко. Рядом болельщик -- капитан-лейтенант Саша Петров, заядлый
курильщик. Доктора раздражает соседство, он хмурит брови и демонстративно
разгоняет рукой дым. Шахматные фигуры то и дело скатываются со
столика---усиливается бортовая качка.
В ожидании своей очереди в домино, мы с лейтенантом Лысым донимаем
Володю Журавлева вопросами -- как по-английски звучит та или иная фраза (оба
учили раньше немецкий).
А лаг судна продолжает отсчитывать пройденные мили: до Англии еще
больше половины пути. Скорость конвоя -- девять узлов.
30 апреля днем был обнаружен немецкий разведчик "Хе-111". Истребители с
английских авианосцев атаковали и подбили вражеский самолет. Но немецкий
летчик все же успел сообщить своим о том, что обнаружил большой конвой. Это
случилось на подходе к острову Медвежий, который оставался справа от нас. По
данным английской воздушной разведки, немцы развернули в ночь на 29 апреля 9
подводных лодок на пути движения конвоя "RA-59" к югу и юго-западу от этого
острова. Обойти их позиции было невозможно.
По легкому вздрагиванию корпуса судна и шуршанию за бортом
чувствовалось, что корабли вошли в район паковых льдов. Гидроакустикам
подобные шорохи мешают прослушивать шумы подводных лодок.
Около восьми часов вечера 30 апреля британский эскортный корабль
обнаружил вражескую подводную лодку и загнал ее на глубину. А чуть позже,
когда
конвой находился в 25 милях к юго-западу от Медвежьего, один за другим
прозвучали два сильных взрыва.
На судне объявили боевую тревогу. Застучали каблуки по палубе.
Выскочили из трюма и наши матросы, опустела кают-компания.
По левому борту, в хвосте второй колонны, окутанный клубами дыма и
пара, тонул "Либерти".
На ботдеке у шлюпок одетые в спасательные жилеты строились матросы
"Джона Леннона", расписанные здесь по тревоге. Однако транспорт продолжал
идти прежним курсом, не снижая хода. Спасение тонущих -- задача специально
выделенных для этого кораблей.
На судах открыли беспорядочную стрельбу из зенитных пушек и пулеметов,
принимая мелкие льдины, гребни волн и туманные буи впереди идущих за
перископы подводных лодок.
Стали раздаваться выстрелы и с военных кораблей, в том числе и с
авианосца "Фенсер". Куда и в кого стреляют, было невозможно разобрать.
Палят в божий свет, как в копеечку, -- проком
ментировал происходящее Алексей Проничкин. Когда
грассирующий снаряд пролетел над кормовой надстрой
кой "Джона Леннона", Лисовский, отличавшийся за
видным спокойствием, начал чертыхаться:
Вот, идиоты, самоубийством занимаются, а фаши
стов прозевают!
На мостике чувствовалась нервозность. Уже дважды капитан "Джона
Леннона" передавал через переводчика распоряжение советским морякам
спуститься в трюм. Он, видимо, опасался, что с подводных лодок увидят
русских и судно торпедируют. Наш командир вынужден был отдать приказание
личному составу покинуть палу-бу. Наверху осталось лишь несколько офицеров.
Мы думали об одном: есть ли на гибнущем судне советские моряки и каковы
жертвы? Кто нам это скажет?
Наконец мы увидели сутуловатую фигуру командира экипажа капитана 3-го
ранга Николая Дмитриевича Рябченко, поднимавшегося на ходовой мостик. Следом
шел Володя Журавлев. Лицо Рябченко было спокойным. Когда они поднялись на
мостик, капитан американского судна сделал вид, что не замечает советских
моряков.
-- Володя, спроси капитана, были ли русские на тор-
педированном транспорте? -- обратился к Журавлеву
Рябченко.
Журавлев повторил вопрос по-английски.
Пастер, немного помедлив, процедил сквозь зубы:
-- Мне это неизвестно, -- и отвернулся, давая по
пять, что разговор окончен.
Командир и переводчик покинули мостик.
-- Пойдемте в трюм к личному составу, -- предло
жил офицерам Рябченко.
Взглянув еще раз в сторону тонущего судна, мы увидели, что к нему
направляются два британских эсминца. На душе стало легче. Значит, помощь
будет оказана.
Спустились в трюм. Рябченко подсел к теплому камельку, пригласил
присутствующих придвинуться поближе. Затем не спеша обвел всех прищуренным
взглядом и спросил с улыбкой:
-- Каково быть пассажирами? Наверно, лучше сто
ять вахту на холоде, чем прислушиваться к взрывам, си
дя в теплом трюме?
Вопрос поняли не сразу, заговорили после небольшой паузы.
-- Почему не разрешают по тревогам выходить на верхнюю палубу? Трюм
ниже ватер-линии, и в случае чего выбраться из него... -- радист Тишкин
запнулся: понял, что разговор не ко времени.
-- Вы слышали поговорку: "Со своим уставом в чу
жой монастырь не ходят"? В трюме более ста человек.
Представьте себя на месте капитана. -- Командир эки
пажа посмотрел на обступивших его моряков. Лица их
были сосредоточенны. После небольшой паузы Рябчен
ко продолжал: -- А как же наши подводники воюют?
Много они бывают наверху? А глубинные бомбы на
них не сыплются?
Командир вынул из кармана пачку "Беломора", предложил рядом сидящим.
Краснофлотцы вежливо отказались и стали доставать кисеты с махоркой.
Закурили. Сделав две-три затяжки, Рябченко сказал:
-- Вот примем корабль, тогда фрицам всыплем пер
цу за все.
Присутствие в трюме командира, его уверенный тон и спокойствие
разрядили обстановку. Нервное напряжение спало, на лицах моряков засветились
улыбки.
Рябченко понимал настроение матросов, знал, что хотя они и опытные
специалисты, хорошие моряки, однако по-настоящему "войны не нюхали", не
слышали взрывов бомб, не видели гибели людей. Помнится, когда
к нашему эшелону в районе Кандалакши прицепляли платформы с зенитками,
у многих тогда появилась настороженность: а вдруг налетит вражеская авиация?
Здесь же еще хуже. Посадили всех в большую железную коробку, вместо оружия
выдали надувные спасательные жилеты и запретили выходить на палубу. За
бортом взрывы, звучат сигналы тревоги, грохочут пушки, а что происходит
наверху -- никто не знает. Это действует всегда удручающе.
Рябченко старался перевести разговор на отвлеченную тему, однако взрывы
за бортом не утихали, и мысли моряков возвращались к гибели судна.
А были на "Либерти" наши моряки? -- немного
"окая", спросил радиометрист Коля Коньков.
Сведений об этом еще нет, -- ответил капитан-
лейтенант Фомин.
А экипаж... спасали? -- с запинкой произнес
старший краснофлотец Рудь.
Да, два эсминца и транспорт находятся там, ---
ответил Рябченко.
В ледяной воде долго не продержаться. Обычно
через 15--20 минут наступает переохлаждение организ
ма, сердце останавливается, -- проговорил старший
лейтенант медслужбы Морозенко.
Ну, а если больше двигаться? -- испытующе
посмотрел на врача Алексей Головин, командир отделе
ния сигнальщиков.
Ты еще про горчичники спроси, -- улыбнулся
Повторак.
По трапу застучали каблуки. В трюм спускался Володя Журавлев. Губы его
были скорбно поджаты. Разговоры сразу смолкли. Журавлев принес печальную
весть: на торпедированном "Уильяме С. Тайере" размещался экипаж
"Достойного". Погибло больше двадцати человек. Команда была укомплектована
черноморцами. Там же находилось и девятнадцать подводников.
Никто из нас не знал черноморских моряков, однако искренне переживал
эту беду каждый.
Позже стали известны подробности случившегося.
...Время приближалось к 9 вечера, когда по распорядку дня команде
положено пить чай. В кают-компании собрались почти все офицеры. Командир
БЧ-П капитан-лейтенант Чулков, командир БЧ-V капитан-лейтенант-инженер
Дорофеев и командир БЧ-III старший лейте-
нант Молотов задержались. В ожидании чая шел разговор о предстоящем
праздновании Первого мая.
В верхнем кормовом трюме в это время проходило построение личного
состава для перехода в столовую, находившуюся в носовом трюме. Выравняв
шеренги, дежурный старшина 2-й статьи Вовк подал команду: "На -- ле-во!" --
и тут раздался огромной силы взрыв, через несколько секунд за ним последовал
второй. Настил вздыбился и обрушился. Вместе с обломками в воду попадали
люди.
Торпеды угодили в носовой трюм и машинное отделение. Корабль разломился
на три части. Носовая и средняя части судна через пять минут затонули, но
корма еще держалась на плаву. Случайно оказавшиеся в кормовой части офицеры
"Достойного" Л. Д. Чулков и И. Д. Дорофеев немедленно бросились в трюм к
личному составу. Они прежде служили на эсминце "Железняков" и боевого опыта
им было не занимать.
Осмотревшись, Чулков понял, что конвой продолжает следовать тем же
курсом, а помощи не видно. На всякий случай приказал комендорам стать к
кормовому орудию и подготовить боезапас к стрельбе -- ведь неизвестно, что
ожидает впереди. Затем Чулков взял на себя руководство спасением команды.
Веревками и подручными средствами стали извлекать из нижнего трюма
пострадавших. Дорофеев вместе с трюмными быстро осмотрел отсек и,
убедившись, что вода не поступает, организовал изготовление плота из крышки
люка. Оставшимся на корме Чулков объяснил обстановку, приказал ждать --
должна же подойти помощь. Тем, кто оказался в воде, были сброшены
спасательные средства.
Помощь подошла через полчаса, показавшиеся всем вечностью. Американский
транспорт "Роберт Идеи", шедший концевым в колонне, спустил шлюпки и в них
стали подбирать людей, плававших в воде. Британский эсминец "Вольтер" также
спустил шлюпку, а затем подошел к правому борту аварийного судна. Была
большая зыбь и пришвартоваться к транспорту удалось с трудом. Тем не менее
на эсминец сняли 70 человек. Другой эсминец -- "Олень" с подходом задержался
-- он описывал круги, сбрасывая глубинные бомбы на обнаруженную лодку.
Из воды в полубессознательном состоянии подняли штурмана "Достойного"
капитан-лейтенанта Льва Лез-
гина, командира зенитной батареи лейтенанта Виктора Бабия и несколько
старшин и краснофлотцев. Старпом "Достойного" капитан-лейтенант Владимир
Беспалов был без сознания. В течение двадцати минут ему делали искусственное
дыхание, растирали, и он очнулся.
Большую часть советских моряков удалось спасти. Погибло восемь
офицеров, четырнадцать старшин и краснофлотцев. Восемнадцать человек
получили ранения и контузии. Были жертвы и у американцев'.
Всех спасенных разместили на английском эсминце "Вольтер". Моряки
английского корабля радушно встретили пострадавших, поделились с ними
одеждой, накормили и обогрели. По прибытии конвоя в Англию (порт Гринок)
больных и раненых направили в госпиталь.
В тот предпраздничный вечер никому не хотелось спать. Погибли люди,
наши советские люди, и это не могло не взволновать моряков. Глубокая скорбь
в душе каждого соседствовала с жаждой мести фашистским пиратам за их
злодеяния. .Да и молодость брала свое. На нарах и импровизированных
"стульях" из ящиков и чемоданов офицеры сидели со старшинами и
краснофлотцами, беседовали о разных разностях.
Это удивило американского матроса, спустившегося в трюм. Широко
раскрытыми глазами он смотрел на командира, сидящего среди матросов, и так
растерялся, что забыл, зачем пришел. И как тут не растеряться, если в
"демократической" Америке не принято, чтобы офицеры находились в матросском
кубрике.
Что вы хотите? -- обратился к матросу главный
старшина Журавлев.
Командера2 просят в штурманскую рубку, -- до
ложил матрос.
Рябченко и переводчик вышли наверх. В рубке у радиоприемника сидел
второй помощник капитана. Из динамика, прерываемая писком "морзянки",
доносилась хрипловатая речь.
-- Немцы передают сводку военного командова
ния, -- сказал американец и жестом призвал к внима
нию.
Через несколько минут весь экипаж уже знал содержание сводки
гитлеровцев. Они сообщали, что, атакуя
1 Клотик -- точеный, обычно деревянный, кружок с
выступающими закругленными краями, надеваемый на флагшток или топ-мачту.
скуластое лицо и чуть раскосые глаза. Это командир минно-торпедной
боевой части лейтенант Василий Ла-риошин. В руках он держит
русско-английский словарь -- времени зря не теряет. В Мурманске у лейтенанта
осталась знакомая девушка Дуся. При расставании по старинному русскому
обычаю она разбила "на счастье" две тарелки. Василий сам рассказал нам об
этом, и мы не раз потом подтрунивали над минером.
За большим обеденным столом идет игра в домино. Старший лейтенант
Лисовский -- в паре с командиром боевой части наблюдения и связи лейтенантом
Улановым, штурман Николай Гончаров -- с командиром мин-но-котельной группы
капитан-лейтенантом-инженером Борисом Дубововым. Вот в правом углу
кают-компании сидят за шахматами замполит Ефим Фомин и врач Владимир
Морозенко. Рядом болельщик -- капитан-лейтенант Саша Петров, заядлый
курильщик. Доктора раздражает соседство, он хмурит брови и демонстративно
разгоняет рукой дым. Шахматные фигуры то и дело скатываются со
столика---усиливается бортовая качка.
В ожидании своей очереди в домино, мы с лейтенантом Лысым донимаем
Володю Журавлева вопросами -- как по-английски звучит та или иная фраза (оба
учили раньше немецкий).
А лаг судна продолжает отсчитывать пройденные мили: до Англии еще
больше половины пути. Скорость конвоя -- девять узлов.
30 апреля днем был обнаружен немецкий разведчик "Хе-111". Истребители с
английских авианосцев атаковали и подбили вражеский самолет. Но немецкий
летчик все же успел сообщить своим о том, что обнаружил большой конвой. Это
случилось на подходе к острову Медвежий, который оставался справа от нас. По
данным английской воздушной разведки, немцы развернули в ночь на 29 апреля 9
подводных лодок на пути движения конвоя "RA-59" к югу и юго-западу от этого
острова. Обойти их позиции было невозможно.
По легкому вздрагиванию корпуса судна и шуршанию за бортом
чувствовалось, что корабли вошли в район паковых льдов. Гидроакустикам
подобные шорохи мешают прослушивать шумы подводных лодок.
Около восьми часов вечера 30 апреля британский эскортный корабль
обнаружил вражескую подводную лодку и загнал ее на глубину. А чуть позже,
когда
конвой находился в 25 милях к юго-западу от Медвежьего, один за другим
прозвучали два сильных взрыва.
На судне объявили боевую тревогу. Застучали каблуки по палубе.
Выскочили из трюма и наши матросы, опустела кают-компания.
По левому борту, в хвосте второй колонны, окутанный клубами дыма и
пара, тонул "Либерти".
На ботдеке у шлюпок одетые в спасательные жилеты строились матросы
"Джона Леннона", расписанные здесь по тревоге. Однако транспорт продолжал
идти прежним курсом, не снижая хода. Спасение тонущих -- задача специально
выделенных для этого кораблей.
На судах открыли беспорядочную стрельбу из зенитных пушек и пулеметов,
принимая мелкие льдины, гребни волн и туманные буи впереди идущих за
перископы подводных лодок.
Стали раздаваться выстрелы и с военных кораблей, в том числе и с
авианосца "Фенсер". Куда и в кого стреляют, было невозможно разобрать.
Палят в божий свет, как в копеечку, -- проком
ментировал происходящее Алексей Проничкин. Когда
грассирующий снаряд пролетел над кормовой надстрой
кой "Джона Леннона", Лисовский, отличавшийся за
видным спокойствием, начал чертыхаться:
Вот, идиоты, самоубийством занимаются, а фаши
стов прозевают!
На мостике чувствовалась нервозность. Уже дважды капитан "Джона
Леннона" передавал через переводчика распоряжение советским морякам
спуститься в трюм. Он, видимо, опасался, что с подводных лодок увидят
русских и судно торпедируют. Наш командир вынужден был отдать приказание
личному составу покинуть палу-бу. Наверху осталось лишь несколько офицеров.
Мы думали об одном: есть ли на гибнущем судне советские моряки и каковы
жертвы? Кто нам это скажет?
Наконец мы увидели сутуловатую фигуру командира экипажа капитана 3-го
ранга Николая Дмитриевича Рябченко, поднимавшегося на ходовой мостик. Следом
шел Володя Журавлев. Лицо Рябченко было спокойным. Когда они поднялись на
мостик, капитан американского судна сделал вид, что не замечает советских
моряков.
-- Володя, спроси капитана, были ли русские на тор-
педированном транспорте? -- обратился к Журавлеву
Рябченко.
Журавлев повторил вопрос по-английски.
Пастер, немного помедлив, процедил сквозь зубы:
-- Мне это неизвестно, -- и отвернулся, давая по
пять, что разговор окончен.
Командир и переводчик покинули мостик.
-- Пойдемте в трюм к личному составу, -- предло
жил офицерам Рябченко.
Взглянув еще раз в сторону тонущего судна, мы увидели, что к нему
направляются два британских эсминца. На душе стало легче. Значит, помощь
будет оказана.
Спустились в трюм. Рябченко подсел к теплому камельку, пригласил
присутствующих придвинуться поближе. Затем не спеша обвел всех прищуренным
взглядом и спросил с улыбкой:
-- Каково быть пассажирами? Наверно, лучше сто
ять вахту на холоде, чем прислушиваться к взрывам, си
дя в теплом трюме?
Вопрос поняли не сразу, заговорили после небольшой паузы.
-- Почему не разрешают по тревогам выходить на верхнюю палубу? Трюм
ниже ватер-линии, и в случае чего выбраться из него... -- радист Тишкин
запнулся: понял, что разговор не ко времени.
-- Вы слышали поговорку: "Со своим уставом в чу
жой монастырь не ходят"? В трюме более ста человек.
Представьте себя на месте капитана. -- Командир эки
пажа посмотрел на обступивших его моряков. Лица их
были сосредоточенны. После небольшой паузы Рябчен
ко продолжал: -- А как же наши подводники воюют?
Много они бывают наверху? А глубинные бомбы на
них не сыплются?
Командир вынул из кармана пачку "Беломора", предложил рядом сидящим.
Краснофлотцы вежливо отказались и стали доставать кисеты с махоркой.
Закурили. Сделав две-три затяжки, Рябченко сказал:
-- Вот примем корабль, тогда фрицам всыплем пер
цу за все.
Присутствие в трюме командира, его уверенный тон и спокойствие
разрядили обстановку. Нервное напряжение спало, на лицах моряков засветились
улыбки.
Рябченко понимал настроение матросов, знал, что хотя они и опытные
специалисты, хорошие моряки, однако по-настоящему "войны не нюхали", не
слышали взрывов бомб, не видели гибели людей. Помнится, когда
к нашему эшелону в районе Кандалакши прицепляли платформы с зенитками,
у многих тогда появилась настороженность: а вдруг налетит вражеская авиация?
Здесь же еще хуже. Посадили всех в большую железную коробку, вместо оружия
выдали надувные спасательные жилеты и запретили выходить на палубу. За
бортом взрывы, звучат сигналы тревоги, грохочут пушки, а что происходит
наверху -- никто не знает. Это действует всегда удручающе.
Рябченко старался перевести разговор на отвлеченную тему, однако взрывы
за бортом не утихали, и мысли моряков возвращались к гибели судна.
А были на "Либерти" наши моряки? -- немного
"окая", спросил радиометрист Коля Коньков.
Сведений об этом еще нет, -- ответил капитан-
лейтенант Фомин.
А экипаж... спасали? -- с запинкой произнес
старший краснофлотец Рудь.
Да, два эсминца и транспорт находятся там, ---
ответил Рябченко.
В ледяной воде долго не продержаться. Обычно
через 15--20 минут наступает переохлаждение организ
ма, сердце останавливается, -- проговорил старший
лейтенант медслужбы Морозенко.
Ну, а если больше двигаться? -- испытующе
посмотрел на врача Алексей Головин, командир отделе
ния сигнальщиков.
Ты еще про горчичники спроси, -- улыбнулся
Повторак.
По трапу застучали каблуки. В трюм спускался Володя Журавлев. Губы его
были скорбно поджаты. Разговоры сразу смолкли. Журавлев принес печальную
весть: на торпедированном "Уильяме С. Тайере" размещался экипаж
"Достойного". Погибло больше двадцати человек. Команда была укомплектована
черноморцами. Там же находилось и девятнадцать подводников.
Никто из нас не знал черноморских моряков, однако искренне переживал
эту беду каждый.
Позже стали известны подробности случившегося.
...Время приближалось к 9 вечера, когда по распорядку дня команде
положено пить чай. В кают-компании собрались почти все офицеры. Командир
БЧ-П капитан-лейтенант Чулков, командир БЧ-V капитан-лейтенант-инженер
Дорофеев и командир БЧ-III старший лейте-
нант Молотов задержались. В ожидании чая шел разговор о предстоящем
праздновании Первого мая.
В верхнем кормовом трюме в это время проходило построение личного
состава для перехода в столовую, находившуюся в носовом трюме. Выравняв
шеренги, дежурный старшина 2-й статьи Вовк подал команду: "На -- ле-во!" --
и тут раздался огромной силы взрыв, через несколько секунд за ним последовал
второй. Настил вздыбился и обрушился. Вместе с обломками в воду попадали
люди.
Торпеды угодили в носовой трюм и машинное отделение. Корабль разломился
на три части. Носовая и средняя части судна через пять минут затонули, но
корма еще держалась на плаву. Случайно оказавшиеся в кормовой части офицеры
"Достойного" Л. Д. Чулков и И. Д. Дорофеев немедленно бросились в трюм к
личному составу. Они прежде служили на эсминце "Железняков" и боевого опыта
им было не занимать.
Осмотревшись, Чулков понял, что конвой продолжает следовать тем же
курсом, а помощи не видно. На всякий случай приказал комендорам стать к
кормовому орудию и подготовить боезапас к стрельбе -- ведь неизвестно, что
ожидает впереди. Затем Чулков взял на себя руководство спасением команды.
Веревками и подручными средствами стали извлекать из нижнего трюма
пострадавших. Дорофеев вместе с трюмными быстро осмотрел отсек и,
убедившись, что вода не поступает, организовал изготовление плота из крышки
люка. Оставшимся на корме Чулков объяснил обстановку, приказал ждать --
должна же подойти помощь. Тем, кто оказался в воде, были сброшены
спасательные средства.
Помощь подошла через полчаса, показавшиеся всем вечностью. Американский
транспорт "Роберт Идеи", шедший концевым в колонне, спустил шлюпки и в них
стали подбирать людей, плававших в воде. Британский эсминец "Вольтер" также
спустил шлюпку, а затем подошел к правому борту аварийного судна. Была
большая зыбь и пришвартоваться к транспорту удалось с трудом. Тем не менее
на эсминец сняли 70 человек. Другой эсминец -- "Олень" с подходом задержался
-- он описывал круги, сбрасывая глубинные бомбы на обнаруженную лодку.
Из воды в полубессознательном состоянии подняли штурмана "Достойного"
капитан-лейтенанта Льва Лез-
гина, командира зенитной батареи лейтенанта Виктора Бабия и несколько
старшин и краснофлотцев. Старпом "Достойного" капитан-лейтенант Владимир
Беспалов был без сознания. В течение двадцати минут ему делали искусственное
дыхание, растирали, и он очнулся.
Большую часть советских моряков удалось спасти. Погибло восемь
офицеров, четырнадцать старшин и краснофлотцев. Восемнадцать человек
получили ранения и контузии. Были жертвы и у американцев'.
Всех спасенных разместили на английском эсминце "Вольтер". Моряки
английского корабля радушно встретили пострадавших, поделились с ними
одеждой, накормили и обогрели. По прибытии конвоя в Англию (порт Гринок)
больных и раненых направили в госпиталь.
В тот предпраздничный вечер никому не хотелось спать. Погибли люди,
наши советские люди, и это не могло не взволновать моряков. Глубокая скорбь
в душе каждого соседствовала с жаждой мести фашистским пиратам за их
злодеяния. .Да и молодость брала свое. На нарах и импровизированных
"стульях" из ящиков и чемоданов офицеры сидели со старшинами и
краснофлотцами, беседовали о разных разностях.
Это удивило американского матроса, спустившегося в трюм. Широко
раскрытыми глазами он смотрел на командира, сидящего среди матросов, и так
растерялся, что забыл, зачем пришел. И как тут не растеряться, если в
"демократической" Америке не принято, чтобы офицеры находились в матросском
кубрике.
Что вы хотите? -- обратился к матросу главный
старшина Журавлев.
Командера2 просят в штурманскую рубку, -- до
ложил матрос.
Рябченко и переводчик вышли наверх. В рубке у радиоприемника сидел
второй помощник капитана. Из динамика, прерываемая писком "морзянки",
доносилась хрипловатая речь.
-- Немцы передают сводку военного командова
ния, -- сказал американец и жестом призвал к внима
нию.
Через несколько минут весь экипаж уже знал содержание сводки
гитлеровцев. Они сообщали, что, атакуя
 1 ЦВМА, ф. 1401, оп. 19560, д. 3, л. 1.
2 Командер (англ.) -- капитан 3-го ранга.
26
наш конвои, потопили восемь транспортов и пять эскортных кораблей'.
Туго приходится фашистам, если так гарно бре
шут, -- прокомментировал краснофлотец Рудь.
Собака лает, а караван идет, -- добавил Головин,
командир отделения сигнальщиков.
До позднего вечера в трюме не прекращались разговоры.
Забравшись на верхнюю койку и пожелав своему другу "спокойной ночи", я
пытался уснуть. Но сон почему-то не приходил. Внизу ворочался на койке
Никольский.
Морская трагедия не выходила из головы. Многие из погибших пережили
суровые годы войны и не раз смотрели смерти в глаза. А тут эти торпеды...
Утром мы узнали, что враг не оставил надежду атаковать транспорты.
Ночью немецкая подводная лодка выпустила в эскортный корабль .акустическую
торпеду. Корабль имел на буксире акустический охранитель, и это спасло его
-- торпеда взорвалась за кормой.
Фашистские подводные лодки вели себя нагло и даже с рассветом не
погружались. В утренних сумерках самолеты с английского авианосца "Фенсер"
неоднократно атаковывали их.
Между тем волнение моря усилилось. За завтраком разговаривали мало. А
хотелось отвлечься от грустных мыслей -- ведь день-то какой -- Первое мая.
Каждый хорошо помнил, как праздновали его в предвоенные годы.
Это был уже третий военный Первомай. Его отметили праздничным обедом.
Каждому члену экипажа были выданы и "сто граммов". Старший кок Василий
Феофанов, большой мастер своего дела, на этот раз постарался особенно.
После обеда все перешли в соседний трюм, где обычно коротали время. Из
динамика доносились звуки легкой музыки. Вдруг мелодия прервалась,
послышался хрипловатый свист в эфире, а затем раздался четкий и хорошо
знакомый всем голос Левитана, читавшего Первомайский приказ Верховного
Главнокомандующего. Он словно вернул нас на Родину, приблизил к Москве, от
которой мы находились за тысячи ки-
1 ЦВМА, ф. 1401, оп. 19560, д. 3, л. 1.
2 Командер (англ.) -- капитан 3-го ранга.
26
наш конвои, потопили восемь транспортов и пять эскортных кораблей'.
Туго приходится фашистам, если так гарно бре
шут, -- прокомментировал краснофлотец Рудь.
Собака лает, а караван идет, -- добавил Головин,
командир отделения сигнальщиков.
До позднего вечера в трюме не прекращались разговоры.
Забравшись на верхнюю койку и пожелав своему другу "спокойной ночи", я
пытался уснуть. Но сон почему-то не приходил. Внизу ворочался на койке
Никольский.
Морская трагедия не выходила из головы. Многие из погибших пережили
суровые годы войны и не раз смотрели смерти в глаза. А тут эти торпеды...
Утром мы узнали, что враг не оставил надежду атаковать транспорты.
Ночью немецкая подводная лодка выпустила в эскортный корабль .акустическую
торпеду. Корабль имел на буксире акустический охранитель, и это спасло его
-- торпеда взорвалась за кормой.
Фашистские подводные лодки вели себя нагло и даже с рассветом не
погружались. В утренних сумерках самолеты с английского авианосца "Фенсер"
неоднократно атаковывали их.
Между тем волнение моря усилилось. За завтраком разговаривали мало. А
хотелось отвлечься от грустных мыслей -- ведь день-то какой -- Первое мая.
Каждый хорошо помнил, как праздновали его в предвоенные годы.
Это был уже третий военный Первомай. Его отметили праздничным обедом.
Каждому члену экипажа были выданы и "сто граммов". Старший кок Василий
Феофанов, большой мастер своего дела, на этот раз постарался особенно.
После обеда все перешли в соседний трюм, где обычно коротали время. Из
динамика доносились звуки легкой музыки. Вдруг мелодия прервалась,
послышался хрипловатый свист в эфире, а затем раздался четкий и хорошо
знакомый всем голос Левитана, читавшего Первомайский приказ Верховного
Главнокомандующего. Он словно вернул нас на Родину, приблизил к Москве, от
которой мы находились за тысячи ки-
 1 "Морской сборник", 1945, No 4, с. 32.
27
лометров. Слова из приказа: "...Дело состоит теперь в том, чтобы
очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить
государственные границы Советского Союза по всей линии, от Черного до
Баренцева моря"!, произнесенные диктором с особым подъемом и
пафосом, глубоко запали в душу. Каждый из нас был готов сразиться с
ненавистным врагом, осквернившим родную землю. Поэтому еще сильнее стало
желание в кратчайший срок выполнить задание, вернуться с кораблями на
Родину, чтобы бить фашистскую нечисть. Об этом говорили моряки на митинге,
стихийно возникшем в трюме "Джона Леннона".
...Половина пути осталась позади. Мы все больше спускались к югу.
Заметно потеплело, чаще выглядывало солнце. Противолодочные самолеты
авианосца непрерывно летали вокруг конвоя. Однако гитлеровские лодки не
оставили попыток проникнуть через линию охранения.
Жизнь на судне без определенных занятий и обязанностей всем порядком
наскучила: тяжело военному человеку в боевой обстановке быть без дела,
особенно в таких условиях, в каких находились мы. Говорят, со стороны
опасность воспринимается острее. Это верно.
После Первого мая на "Джоне Ленноне" установили порядок: раз в сутки
транслировались последние известия из Москвы. Мы снова обрели связь с
Родиной. И в обращении хозяева стали приветливее, чаще вступали в разговоры,
угощали сигаретами. Просили монету или звездочку на память. Американские
моряки проявляли искренний интерес к Советской стране, к нашей жизни,
рассказывали о своей нелегкой службе.
Видя спокойные лица русских, порядок и дисциплину в советской команде,
американцы недоумевали:
Страх -- естественное чувство. Разве вы не испы
тываете его?
Испытываем, -- отвечали мы. -- Но страх мо
жет подавить и сломить только слабого человека.
А в чем ваша сила? -- допытывались хозяева.
В сознании долга перед своей Родиной, в готов
ности защищать ее не щадя жизни.
Постоянно поддерживали в нас боевой настрой, высокий моральный дух
заместитель командира по полит-
1 "Морской сборник", 1945, No 4, с. 32.
27
лометров. Слова из приказа: "...Дело состоит теперь в том, чтобы
очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить
государственные границы Советского Союза по всей линии, от Черного до
Баренцева моря"!, произнесенные диктором с особым подъемом и
пафосом, глубоко запали в душу. Каждый из нас был готов сразиться с
ненавистным врагом, осквернившим родную землю. Поэтому еще сильнее стало
желание в кратчайший срок выполнить задание, вернуться с кораблями на
Родину, чтобы бить фашистскую нечисть. Об этом говорили моряки на митинге,
стихийно возникшем в трюме "Джона Леннона".
...Половина пути осталась позади. Мы все больше спускались к югу.
Заметно потеплело, чаще выглядывало солнце. Противолодочные самолеты
авианосца непрерывно летали вокруг конвоя. Однако гитлеровские лодки не
оставили попыток проникнуть через линию охранения.
Жизнь на судне без определенных занятий и обязанностей всем порядком
наскучила: тяжело военному человеку в боевой обстановке быть без дела,
особенно в таких условиях, в каких находились мы. Говорят, со стороны
опасность воспринимается острее. Это верно.
После Первого мая на "Джоне Ленноне" установили порядок: раз в сутки
транслировались последние известия из Москвы. Мы снова обрели связь с
Родиной. И в обращении хозяева стали приветливее, чаще вступали в разговоры,
угощали сигаретами. Просили монету или звездочку на память. Американские
моряки проявляли искренний интерес к Советской стране, к нашей жизни,
рассказывали о своей нелегкой службе.
Видя спокойные лица русских, порядок и дисциплину в советской команде,
американцы недоумевали:
Страх -- естественное чувство. Разве вы не испы
тываете его?
Испытываем, -- отвечали мы. -- Но страх мо
жет подавить и сломить только слабого человека.
А в чем ваша сила? -- допытывались хозяева.
В сознании долга перед своей Родиной, в готов
ности защищать ее не щадя жизни.
Постоянно поддерживали в нас боевой настрой, высокий моральный дух
заместитель командира по полит-
 1 "Правда", 1944, 1 мая.
части Фомин и парторг Лысый. Лейтенант Лысый -- старый партийный
работник и опытный пропагандист, перед самым выходом в море раздобыл где-то
карту Европы, укрепил ее на деревянном щите в трюме. Красными флажками на
карте обозначил линию фронта. Она проходила уже через Прибалтику,
Белоруссию, Западную Украину и Румынию. Завершалось освобождение Крыма. За
дни похода флажки заметно переместились на запад, и это очень радовало.
Взглянуть на карту приходили и американские моряки. Успехи Красной Армии они
оценивали одним словом: "О'кэй!".
Беседы, митинги, коллективное прослушивание сводок с фронтов, игры,
концерты самодеятельности -- все это проходило в трюме. Такое тесное общение
членов экипажа, не знавших прежде друг друга, оказалось весьма полезным.
Мысли, настроение и поступки моряков были у всех на виду. Прошла всего
неделя, а многие успели подружиться, сблизиться. Экипаж становился здоровым
сплоченным коллективом.
На восьмые сутки пути слева по курсу открылась земля -- Оркнейские
острова, где расположена хорошо известная морякам всего мира английская
военно-морская база Скапа-Флоу. Через пролив Норт Минч, огибая островки и
мысы, вошли в пролив Ферт-оф-Клайд. 7 мая в час ночи транспорты стали на
якорь близ порта Гринок'.
Весть о прибытии советских военных моряков быстро облетела город. Как
только выгрузились, нас обступила возбужденная толпа местных жителей. Они
приветствовали нас, энергично выбрасывая вверх два пальца правой руки,
раздвинутых латинской буквой "V". Многие скандировали: "Секанд франт! Секанд
франт!" ("Второй фронт! Второй фронт!"). Как позднее выяснилось, англичане
были уверены, что советские военные моряки прибыли в Англию для участия б
высадке десанта на французское побережье. Забегая несколько вперед, замечу,
что через месяц после нашего прибытия в Гринок, 6 июня 1944 года, союзники
действительно высадились на северо-западе Франции. Мы, хотя и находились в
этот период в Англии, в этой операции участия не принимали. Перед нами
стояла другая задача.
1 "Правда", 1944, 1 мая.
части Фомин и парторг Лысый. Лейтенант Лысый -- старый партийный
работник и опытный пропагандист, перед самым выходом в море раздобыл где-то
карту Европы, укрепил ее на деревянном щите в трюме. Красными флажками на
карте обозначил линию фронта. Она проходила уже через Прибалтику,
Белоруссию, Западную Украину и Румынию. Завершалось освобождение Крыма. За
дни похода флажки заметно переместились на запад, и это очень радовало.
Взглянуть на карту приходили и американские моряки. Успехи Красной Армии они
оценивали одним словом: "О'кэй!".
Беседы, митинги, коллективное прослушивание сводок с фронтов, игры,
концерты самодеятельности -- все это проходило в трюме. Такое тесное общение
членов экипажа, не знавших прежде друг друга, оказалось весьма полезным.
Мысли, настроение и поступки моряков были у всех на виду. Прошла всего
неделя, а многие успели подружиться, сблизиться. Экипаж становился здоровым
сплоченным коллективом.
На восьмые сутки пути слева по курсу открылась земля -- Оркнейские
острова, где расположена хорошо известная морякам всего мира английская
военно-морская база Скапа-Флоу. Через пролив Норт Минч, огибая островки и
мысы, вошли в пролив Ферт-оф-Клайд. 7 мая в час ночи транспорты стали на
якорь близ порта Гринок'.
Весть о прибытии советских военных моряков быстро облетела город. Как
только выгрузились, нас обступила возбужденная толпа местных жителей. Они
приветствовали нас, энергично выбрасывая вверх два пальца правой руки,
раздвинутых латинской буквой "V". Многие скандировали: "Секанд франт! Секанд
франт!" ("Второй фронт! Второй фронт!"). Как позднее выяснилось, англичане
были уверены, что советские военные моряки прибыли в Англию для участия б
высадке десанта на французское побережье. Забегая несколько вперед, замечу,
что через месяц после нашего прибытия в Гринок, 6 июня 1944 года, союзники
действительно высадились на северо-западе Франции. Мы, хотя и находились в
этот период в Англии, в этой операции участия не принимали. Перед нами
стояла другая задача.
 1 Гринок -- небольшой город-порт с развитой судостроительной
промышленностью, расположен в 35 километрах западнее Глазго.
1 Гринок -- небольшой город-порт с развитой судостроительной
промышленностью, расположен в 35 километрах западнее Глазго.
ИНЖЕНЕРЫ, ПЕРЕОДЕТЫЕ В МАТРОССКУЮ ФОРМУ
Прибывших в Гринок советских моряков двумя
группами отправили в военно-морскую базу Розайт. Перед посадкой в
вагоны представители английского Красного Креста каждому из нас вручили по
сандвичу.
В вагоне напротив меня сидел старший краснофлотец Иван Клименко. Он
молча жевал бутерброд и смотрел в окно.
О чем задумались? -- поинтересовался я.
А знаете, товарищ лейтенант, этот бутерброд в
общем-то пустяк, а приятно: все-таки внимание.
Я согласился с ним.
Вагончики с мягкими сиденьями были маленькие, но уютные.
Железнодорожная колея значительно уже нашей, и вагоны под стать колее.
Паровоз с крошечным тендером со стороны казался игрушечным, но вез довольно
быстро. Через полчаса поезд сделал остановку в Глазго -- третьем по
численности населения городе Англии и крупнейшем судостроительном центре.
Бросалось в глаза обилие рекламных щитов с названиями фирм и
судостроительных компаний: "Джон Браун", "Литгоу", "Харленд энд Вулф". Около
тридцати компаний заняли своими предприятиями прибрежную полосу на
протяжении 20 миль.
После короткой стоянки поезд помчался дальше. Верфи, роскошные жилые
дома и жалкие трущобы Гор-балз на южном берегу Клайда -- все это осталось
позади. Пригороды выглядели непривычно для нашего гла-
за: серые стандартные дома с многочисленными трубами на железных и
черепичных крышах; у домов -- карликовые палисаднички с яркой ухоженной
зеленью и узенькими асфальтированными дорожками.
Через два часа экспресс доставил нас в военно-морскую базу Розайт,
расположенную по соседству с красивым городом Эдинбургом -- столицей
Шотландии. Этот старинный город, родина знаменитого Вальтера Скотта,
раскинулся на холмах вдоль южного берега залива Ферт-оф-Форт. В
военно-морской базе Розайт нам предстояло принять линейный корабль "Ройял
Со-верин" ' и четыре подводные лодки.
Подводников поселили на стоявшем в ремонте авианосце "Чейсер", часть
линкоровцев -- на "Ройял Сове-рине". Команды эсминцев и остальную часть
экипажа линкора временно разместили на огромном пассажирском пароходе --
бывшем русском лайнере "Императрица России". На этом судне в 1920 году
бежали из Крыма остатки врангелевских войск. Англичане, верные своему
консерватизму, сохранили не только название парохода, но и русские надписи
на служебных помещениях и каютах.
В день нашего прибытия в базу произошел курьезный случай. Когда буксир
с экипажем "Живучего" швартовался к борту лайнера, наше внимание привлекла
группа матросов, стоявших у фальшборта этой громадины. Они выкрикивали
что-то в наш адрес на чистейшем русском языке.
-- Смотри, сколько русских эмигрантов, -- удивился
капитан-лейтенант Фомин.
-- И откуда они знают нас? -- недоумевали многие.
Поднявшись на борт "Императрицы", мы поняли
все. Матросы, которых мы приняли за англичан, оказались членами экипажа
эсминца "Достойный", которых 30 апреля подобрали английские корабли эскорта,
после того как немецкая подводная лодка торпедировала американский
транспорт. В тот трагический день многие моряки "Достойного" лишились
форменной одежды. Согласно правилам морского гостеприимства, англичане
 1 Линкор "Ройял Соверин" вступил в строй в 1916 году.
Водоизмещение 33 500 тонн. Вооружение: 8 орудий калибра 381 мм, 12--152 мм,
4--102 мм и зенитные автоматы. Мощность машин 40 000 л с. Максимальный ход
22 узла, экипаж 1140 человек. (�. Е. Шведе. Военные флоты в 1937 г. М.,
Воениздат, 1938, с 14).
31
накормили спасенных, обогрели и снабдили своим обмундированием.
На "Императрице" рядовой состав "Живучего" разместился в носовых
кубриках, офицерам были предоставлены двух- и трехместные каюты, отделанные
красным деревом. Теперь все здесь лишь напоминало о былом великолепии --
убранство кают потускнело, а изрядно потертая кожа диванов и облупившаяся
краска на подволоке говорили о том, что судно "доживает" свой век.
Не очень уютно почувствовали мы себя в кают-компании во время еды.
Одновременно с нами за большим столом на восемь мест обедали офицеры
английских ВМС. Рядом за таким же столом сидели мы. Перед каждым в каком-то
непонятном нам порядке были разложены ножи, вилки, ложки разной формы и
размеров. Пожилой официант на большом подносе принес много мелких тарелочек
с острой и сладкой закуской. Посреди стола стояли небольшие сосуды и
бутылочки с соусами и приправами, а также два сосуда большого размера с
розоватой жидкостью -- как оказалось, для ополаскивания рук. В двух
тарелочках -- хлеб, очень мягкий и белый, нарезанный мелкими ломтиками.
Английская кухня не привела нас в восторг. От непривычного русскому
желудку чередования соленых и сладких блюд у многих заболели животы. В
следующий раз, чтобы избежать этой неприятности, командир артиллерийской
боевой части Лисовский решил схитрить: поданные официантом сладкие блюда он
отодвинул в сторону, оставляя их на "третье". Официант же, очевидно, решив,
что русскому они не по вкусу, убрал их вместе с грязными тарелками, оставив
Лисовского без "сладкого".
Эту оплошность не раз потом вспоминали на корабле и подшучивали над
Анатолием.
Но недолго нам пришлось пользоваться английской кухней. Через три дня
экипажи эсминцев покинули Ро-зайт. Специальный пассажирский поезд повез нас
к месту стоянки эскадренных миноносцев -- в Норт-Шилдс.
Слева из окон вагона видны были стапели многочисленных верфей, корпуса
судоремонтных заводов, портовые сооружения, доки со стоявшими в них судами.
Справа тянулись многочисленные заводские и фабричные корпуса, перемежавшиеся
жилыми строениями
больших и мелких "таунов"' и "вилиджей"2. Среди этого
нагромождения железа и камня островками казались редкие карликовые поля с
ранними всходами. То и дело мимо окон мелькали встречные составы. На бортах
товарных вагонов белой краской были выведены цифры, обозначавшие
грузоподъемность, -- 5 тонн. Это напоминало нам детскую железную дорогу.
Как-то не укладывалось в сознании: индустриальная мощь и "игрушечный"
железнодорожный транспорт.
На одной из остановок у паровоза собрались вышедшие размяться моряки.
Рослый, широкоплечий старший краснофлотец Рудь из артиллерийской боевой
части попытался рукой дотянуться до трубы паровоза. А Лисовский, любитель
пошутить, спросил его с серьезной миной на лице:
Рудь, как думаете, могли бы мы вдвоем пере
вернуть этот паровоз?
Разрешите попробовать, товарищ старший лейте
нант? Я и один справлюсь! -- поддержал шутку ко
мендор.
Приятно было видеть теплое отношение к советским морякам жителей
окрестных мест. Они приходили на станции, приветствовали нас из окон домов,
фабричных корпусов.
Поездка заняла около четырех часов. Норт-Шилдс, где нам предстояло
теперь жить и работать, это маленький городок на северном берегу реки Тайн,
предместье Ньюкасла. На противоположном берегу Тайна расположен Саут-Шилдс,
более крупный город со 100 тысячами жителей. В нем сосредоточены основные
судоверфи северо-восточного района Англии.
Эсминцы, выделенные для приемки, стояли "на приколе" в "Альберт-доке" и
"Тайн-доке". Нашему экипажу достался эсминец "Ричмонд"3, которому
в недалеком будущем предстояло стать "Живучим". Еще со стенки мы обратили
внимание на его, мягко говоря, необычный внешний вид. В архитектуре носовой
части
1 Линкор "Ройял Соверин" вступил в строй в 1916 году.
Водоизмещение 33 500 тонн. Вооружение: 8 орудий калибра 381 мм, 12--152 мм,
4--102 мм и зенитные автоматы. Мощность машин 40 000 л с. Максимальный ход
22 узла, экипаж 1140 человек. (�. Е. Шведе. Военные флоты в 1937 г. М.,
Воениздат, 1938, с 14).
31
накормили спасенных, обогрели и снабдили своим обмундированием.
На "Императрице" рядовой состав "Живучего" разместился в носовых
кубриках, офицерам были предоставлены двух- и трехместные каюты, отделанные
красным деревом. Теперь все здесь лишь напоминало о былом великолепии --
убранство кают потускнело, а изрядно потертая кожа диванов и облупившаяся
краска на подволоке говорили о том, что судно "доживает" свой век.
Не очень уютно почувствовали мы себя в кают-компании во время еды.
Одновременно с нами за большим столом на восемь мест обедали офицеры
английских ВМС. Рядом за таким же столом сидели мы. Перед каждым в каком-то
непонятном нам порядке были разложены ножи, вилки, ложки разной формы и
размеров. Пожилой официант на большом подносе принес много мелких тарелочек
с острой и сладкой закуской. Посреди стола стояли небольшие сосуды и
бутылочки с соусами и приправами, а также два сосуда большого размера с
розоватой жидкостью -- как оказалось, для ополаскивания рук. В двух
тарелочках -- хлеб, очень мягкий и белый, нарезанный мелкими ломтиками.
Английская кухня не привела нас в восторг. От непривычного русскому
желудку чередования соленых и сладких блюд у многих заболели животы. В
следующий раз, чтобы избежать этой неприятности, командир артиллерийской
боевой части Лисовский решил схитрить: поданные официантом сладкие блюда он
отодвинул в сторону, оставляя их на "третье". Официант же, очевидно, решив,
что русскому они не по вкусу, убрал их вместе с грязными тарелками, оставив
Лисовского без "сладкого".
Эту оплошность не раз потом вспоминали на корабле и подшучивали над
Анатолием.
Но недолго нам пришлось пользоваться английской кухней. Через три дня
экипажи эсминцев покинули Ро-зайт. Специальный пассажирский поезд повез нас
к месту стоянки эскадренных миноносцев -- в Норт-Шилдс.
Слева из окон вагона видны были стапели многочисленных верфей, корпуса
судоремонтных заводов, портовые сооружения, доки со стоявшими в них судами.
Справа тянулись многочисленные заводские и фабричные корпуса, перемежавшиеся
жилыми строениями
больших и мелких "таунов"' и "вилиджей"2. Среди этого
нагромождения железа и камня островками казались редкие карликовые поля с
ранними всходами. То и дело мимо окон мелькали встречные составы. На бортах
товарных вагонов белой краской были выведены цифры, обозначавшие
грузоподъемность, -- 5 тонн. Это напоминало нам детскую железную дорогу.
Как-то не укладывалось в сознании: индустриальная мощь и "игрушечный"
железнодорожный транспорт.
На одной из остановок у паровоза собрались вышедшие размяться моряки.
Рослый, широкоплечий старший краснофлотец Рудь из артиллерийской боевой
части попытался рукой дотянуться до трубы паровоза. А Лисовский, любитель
пошутить, спросил его с серьезной миной на лице:
Рудь, как думаете, могли бы мы вдвоем пере
вернуть этот паровоз?
Разрешите попробовать, товарищ старший лейте
нант? Я и один справлюсь! -- поддержал шутку ко
мендор.
Приятно было видеть теплое отношение к советским морякам жителей
окрестных мест. Они приходили на станции, приветствовали нас из окон домов,
фабричных корпусов.
Поездка заняла около четырех часов. Норт-Шилдс, где нам предстояло
теперь жить и работать, это маленький городок на северном берегу реки Тайн,
предместье Ньюкасла. На противоположном берегу Тайна расположен Саут-Шилдс,
более крупный город со 100 тысячами жителей. В нем сосредоточены основные
судоверфи северо-восточного района Англии.
Эсминцы, выделенные для приемки, стояли "на приколе" в "Альберт-доке" и
"Тайн-доке". Нашему экипажу достался эсминец "Ричмонд"3, которому
в недалеком будущем предстояло стать "Живучим". Еще со стенки мы обратили
внимание на его, мягко говоря, необычный внешний вид. В архитектуре носовой
части
 1 Таун (англ ) -- город.
2 Вилидж (англ ) -- деревня.
3 Корабль был заложен 10 июня .1917 г. в морском доке Кали
форнии (США) под названием "Файрфакс". Был спущен на воду
15 декабря того же года и 6 апреля 1918 года вступил в строй.
В 1940 году эсминец в числе 50 таких же кораблей был передан
Англии, где прошел модернизацию.
2 Г. Г Поляков 33
1 Таун (англ ) -- город.
2 Вилидж (англ ) -- деревня.
3 Корабль был заложен 10 июня .1917 г. в морском доке Кали
форнии (США) под названием "Файрфакс". Был спущен на воду
15 декабря того же года и 6 апреля 1918 года вступил в строй.
В 1940 году эсминец в числе 50 таких же кораблей был передан
Англии, где прошел модернизацию.
2 Г. Г Поляков 33
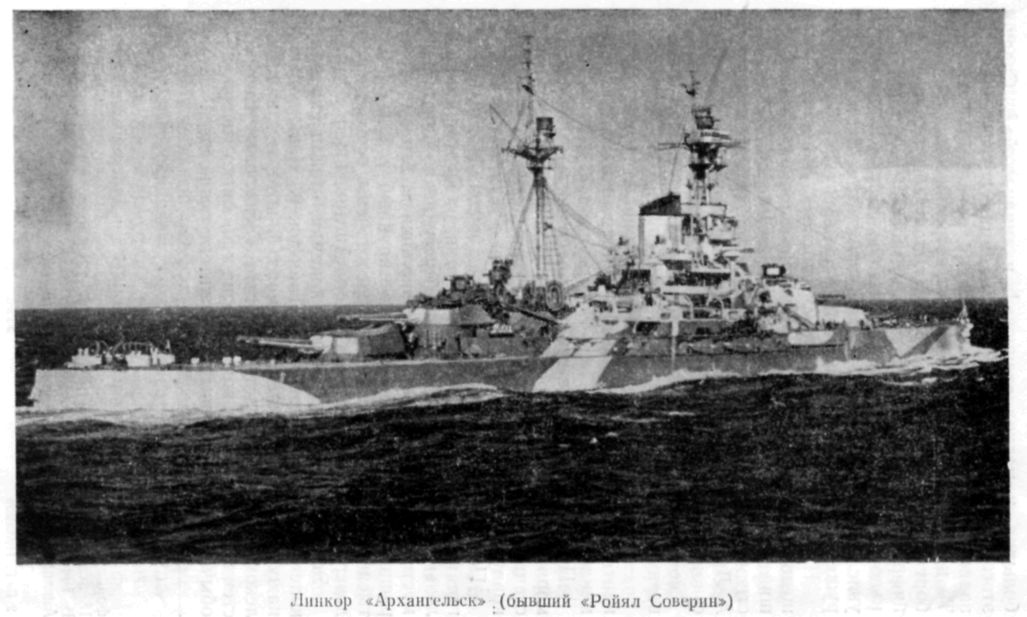 и мостика не было той стремительности, которая присуща кораблям
атакующего класса. Не впечатляло и артиллерийское вооружение: две пушки --
102-миллиметровая в носу и 76-миллиметровая в корме, четыре 20-миллиметровых
автомата "эрликон" и один (а не два, как обычно на эсминцах) трехтрубный
торпедный аппарат в средней части корабля. На баке был установлен
двадцатичетырехствольный противолодочный реактивный бомбомет "Хеджехог"
("Еж"), на корме -- два бортовых бомбомета и бомбосбрасыватели. Эсминец имел
две турбины "Парсонс" и четыре паровых котла "Торникрофт", обеспечивавшие
мощность 24 200 лошадиных сил и максимальный ход 26 узлов. Из новой техники
на нем были радар и гидроакустическая станция "Асдик". Самую же главную
"достопримечательность" корабля составляли четыре высокие цилиндрические
дымовые трубы.
Корпус эсминца при сравнительно большой длине (95 м) имел малую ширину
-- всего 9,3 м. Водоизмещение -- 1090 тонн1. Верхняя палуба была
в крайне запущенном состоянии, борта и надстройки во многих местах покрылись
ржавчиной.
Устроившись на новом "месте жительства", моряки разбрелись по кораблю
-- каждому хотелось получше рассмотреть свое "хозяйство". На ознакомление с
эсминцем много времени не потребовалось. Уже через полтора-два часа па
палубе и в кубриках шел оживленный обмен мнениями. Мы с Анатолием Лисовским
направились к группе краснофлотцев, расположившихся на юте. Еще издали
услышали голос старшего боц-,мана:
-- Это не боевой корабль, а "Севрюга" из кино
фильма "Волга-Волга".
Моряки дружно засмеялись. Потом кто-то запел:
-- А-ме-ри-ка Ра-ссии па-да-ри-ла па-ра-ход...
Снова взрыв смеха, ядовитые реплики...
Да, эсминец многим, как говорится, не приглянулся. Узнав о настроении
команды, Рябченко собрал офицеров:
-- Идите в кубрики и разъясните личному составу,
что корабль теперь будет наш. Все мы должны сами
привести в образцовое состояние, изучить механизмы
и мостика не было той стремительности, которая присуща кораблям
атакующего класса. Не впечатляло и артиллерийское вооружение: две пушки --
102-миллиметровая в носу и 76-миллиметровая в корме, четыре 20-миллиметровых
автомата "эрликон" и один (а не два, как обычно на эсминцах) трехтрубный
торпедный аппарат в средней части корабля. На баке был установлен
двадцатичетырехствольный противолодочный реактивный бомбомет "Хеджехог"
("Еж"), на корме -- два бортовых бомбомета и бомбосбрасыватели. Эсминец имел
две турбины "Парсонс" и четыре паровых котла "Торникрофт", обеспечивавшие
мощность 24 200 лошадиных сил и максимальный ход 26 узлов. Из новой техники
на нем были радар и гидроакустическая станция "Асдик". Самую же главную
"достопримечательность" корабля составляли четыре высокие цилиндрические
дымовые трубы.
Корпус эсминца при сравнительно большой длине (95 м) имел малую ширину
-- всего 9,3 м. Водоизмещение -- 1090 тонн1. Верхняя палуба была
в крайне запущенном состоянии, борта и надстройки во многих местах покрылись
ржавчиной.
Устроившись на новом "месте жительства", моряки разбрелись по кораблю
-- каждому хотелось получше рассмотреть свое "хозяйство". На ознакомление с
эсминцем много времени не потребовалось. Уже через полтора-два часа па
палубе и в кубриках шел оживленный обмен мнениями. Мы с Анатолием Лисовским
направились к группе краснофлотцев, расположившихся на юте. Еще издали
услышали голос старшего боц-,мана:
-- Это не боевой корабль, а "Севрюга" из кино
фильма "Волга-Волга".
Моряки дружно засмеялись. Потом кто-то запел:
-- А-ме-ри-ка Ра-ссии па-да-ри-ла па-ра-ход...
Снова взрыв смеха, ядовитые реплики...
Да, эсминец многим, как говорится, не приглянулся. Узнав о настроении
команды, Рябченко собрал офицеров:
-- Идите в кубрики и разъясните личному составу,
что корабль теперь будет наш. Все мы должны сами
привести в образцовое состояние, изучить механизмы
 1 Tanes Figlur.'j Ships w. 1944--1945. p 68.
35
1 Tanes Figlur.'j Ships w. 1944--1945. p 68.
35
 и оружие, чтобы умело использовать их в бою. Враг силен, и в борьбе с
ним пригодится старая техника, если она будет в умелых руках.
После небольшой паузы командир улыбнулся и не то в шутку, не то всерьез
сказал:
-- А вы знаете, что на эсминцах кованые кили? А это тоже что-то значит.
Тогда эти слова не произвели на нас впечатления, но впоследствии мы не
раз вспоминали их. Но об этом позже.
Разъяснения командира экипаж понял правильно. О "Севрюге" я ни разу с
тех пор не слышал на корабле. Но вот термин "шип"' прочно закрепился за
эсминцами.
У правого борта "Ричмонда" стоял "Челси", на котором разместился экипаж
"Жесткого", тоже укомплектованный тихоокеанцами.
У англичан уже был разработан план приема кораблей. Но нас он не
устраивал: слишком много времени требовалось для его осуществления.
Вице-адмирал Левченко предложил наш план, обеспечивавший более быструю и
продуктивную работу.
Чтобы как можно скорее освоить корабли, привести их в надлежащее
состояние, нашим экипажам нужно было прежде всего вселиться на них.
Настойчивые просьбы командования Отряда о немедленном размещении всех
советских экипажей на принимаемых кораблях шли вразрез с планами англичан, и
они пытались создавать разные помехи в этом. Дело дошло до открытых выпадов.
Начальник штаба военно-морской базы Розайт предложил командующему Отрядом и
его штабу переселиться с линкора "Ройял Соверин" на "Императрицу России",
мотивируя это жалобой командира линкора Пейджа на то, что ему "мешают
работать". Требование англичан было оставлено без внимания.
Все восемь эсминцев находились в вооруженном резерве. В том виде, в
котором корабли предъявлялись к передаче, принимать их было нельзя -- ни
один эсминец выйти в море не мог. Вооружение было крайне запущено. Торпедные
аппараты проржавели и не разворачивались. Не в лучшем виде оказались и
бомбовые
и оружие, чтобы умело использовать их в бою. Враг силен, и в борьбе с
ним пригодится старая техника, если она будет в умелых руках.
После небольшой паузы командир улыбнулся и не то в шутку, не то всерьез
сказал:
-- А вы знаете, что на эсминцах кованые кили? А это тоже что-то значит.
Тогда эти слова не произвели на нас впечатления, но впоследствии мы не
раз вспоминали их. Но об этом позже.
Разъяснения командира экипаж понял правильно. О "Севрюге" я ни разу с
тех пор не слышал на корабле. Но вот термин "шип"' прочно закрепился за
эсминцами.
У правого борта "Ричмонда" стоял "Челси", на котором разместился экипаж
"Жесткого", тоже укомплектованный тихоокеанцами.
У англичан уже был разработан план приема кораблей. Но нас он не
устраивал: слишком много времени требовалось для его осуществления.
Вице-адмирал Левченко предложил наш план, обеспечивавший более быструю и
продуктивную работу.
Чтобы как можно скорее освоить корабли, привести их в надлежащее
состояние, нашим экипажам нужно было прежде всего вселиться на них.
Настойчивые просьбы командования Отряда о немедленном размещении всех
советских экипажей на принимаемых кораблях шли вразрез с планами англичан, и
они пытались создавать разные помехи в этом. Дело дошло до открытых выпадов.
Начальник штаба военно-морской базы Розайт предложил командующему Отрядом и
его штабу переселиться с линкора "Ройял Соверин" на "Императрицу России",
мотивируя это жалобой командира линкора Пейджа на то, что ему "мешают
работать". Требование англичан было оставлено без внимания.
Все восемь эсминцев находились в вооруженном резерве. В том виде, в
котором корабли предъявлялись к передаче, принимать их было нельзя -- ни
один эсминец выйти в море не мог. Вооружение было крайне запущено. Торпедные
аппараты проржавели и не разворачивались. Не в лучшем виде оказались и
бомбовые
 1 Шип (англ ) -- корабль, судно.
36
устройства. Стволы орудий имели большой расстрел. Без предварительного
освобождения от грязи и ржавчины главных и вспомогательных механизмов трудно
было оценить их техническое состояние. Котлы на четырех эсминцах требовали
смены водогрейных трубок, а главные машины нуждались в переборке и
перезаливке подшипников. Даже валы турбин заржавели. Водонепроницаемые
переборки были проницаемы не только для воды, но и для крыс и тараканов,
которые расплодились в трубопроводах и арматуре.
Из личных наблюдений и бесед с английскими моряками мы вынесли
впечатление, что в британском королевском флоте не принято следить за
содержанием техники и вооружения, что корабли здесь работают на износ.
Никому не было дела и до того, как расходуются топливо и материалы. Как-то я
попросил Честера, мин-но-артиллерийского офицера, заменить рваный
парусиновый мешок для отбора стреляных гильз у "эрлико-нов". Английский
офицер удивился:
-- А зачем вам собирать гильзы? Пусть падают прямо за борт.
Пока шла приемка эсминцев, мы невольно сравнивали все с тем, как это
делается на наших кораблях, с порядками на нашем флоте. И конечно же,
сравнение было не в пользу союзников.
На "Ричмонде", как и на других принимаемых кораблях, оставалась
небольшая сдаточная команда. Это привело к некоторому "перенаселению"
корабля. Нужно сказать, что хозяева, как истые джентльмены, предоставили нам
необходимые жилые помещения -- кубрики и каюты. Правда, те же "джентльмены"
назначили к нам офицером связи белоэмигранта лейтенанта Грима (в прошлом
Громова). Когда-то родители Громова имели рудники на Украине.
На "Жестком" офицером связи был лейтенант Кот-тон (он же Котов) -- тоже
белоэмигрант. Под стать им были "связисты" и на других кораблях.
Кроме сдаточной военной команды на эсминцах находились и рабочие доков,
устранявшие различные дефекты. Наши старшины и краснофлотцы работали рядом с
ними.
Несмотря на то что шла война, англичане жили по мирному регламенту.
Рабочий день у них начинался в девять и заканчивался в шестнадцать. Кроме
того, они
устраивали двухчасовой перерыв на обед. Работы продолжались всего
несколько часов, но главное было в том, что все остальное время внутренние
помещения корабля были заперты. Нам с трудом удавалось уговорить английского
старшину или матроса, чтобы тот открыл нужное помещение. Мы не могли
работать такими темпами. Изменить распорядок хозяева не соглашались.
Видя все это, мы возмущались. И вовсе не потому, что сами работали по
двенадцать часов в сутки и даже больше. Было обидно за свою страну, за свой
народ, который терпел неимоверные лишения во имя победы, а здесь наши
союзники по войне не только не стремились помочь нам быстрее ввести боевые
корабли в строй, но и всяческими проволочками и искусственными задержками
тормозили ход работ.
Наиболее трудными оказались первые недели, когда мы занимались тем, что
удаляли из трюмов грязь, мусор, очищали ржавчину. Работу обычно начинали
рано утром, в половине седьмого, с приходом англичан работали наравне с
ними, а когда они уходили, мы снова наводили на корабле порядок, а потом еще
учения и тренировки на боевых постах.
Длинный и насыщенный рабочий день требовал четкого планирования,
буквально по часам и минутам. Ежедневно в конце рабочего дня старпом на
совещании командиров подразделений подводил итоги работы за день, уточнял
задания на следующие сутки. Еженедельно проводил совещания командир корабля.
С первых же дней возникли трудности в общении с английскими
специалистами. Английские офицеры-переводчики отказывались работать со
старшинами и рядовыми матросами -- это было ниже их достоинства. Поэтому мы
вынуждены были обходиться своими силами. Частенько можно было встретить
краснофлотца с бумажкой в руке, разыскивающего кого-нибудь из команды, кто
знает английский язык: на бумажке у него было переписано какое-нибудь
наставление или элемент схемы. К сожалению, и технической документации на
кораблях было мало.
Выручала русская смекалка. Парторг пятой боевой части Семен
Циолковский, например, после отбоя несколько дней подряд спускался в
машинное отделение и до поздней ночи копался там в трубопроводах и на-
сосах. Таким образом он в совершенстве изучил масляную систему и
вычертил ее на бумаге.
Примеру парторга последовали коммунисты Барма-шов, Бухарин, Абрамов и
другие. Вскоре появились схемы электрооборудования, паропроводов и питания
котлов, схема водонепроницаемых переборок. Инженеры-механики Борис Дубовов и
Николай Никольский проверяли эти чертежи, сводили их в общую схему. Так
создавались общекорабельные документы.
В конце мая вице-адмирал Г. И. Левченко, придирчиво осмотрев "Живучий",
подвел итог:
-- На эсминце начинает чувствоваться дух советского моряка.
Эта оценка скупого на похвалу адмирала ободрила нас.
По мере знакомства с техникой росли наши претензии к англичанам. Это не
нравилось сдаточной команде. Случалось, впику нам или по оплошности
"хозяева" преподносили какую-нибудь "пилюлю". Одна из них досталась мне во
время моего дежурства по кораблю: ночью после стирки белья английские
матросы слили мыльную воду в трюм, который только накануне был выкрашен
краснофлотцами. Досталось тогда мне от старпома. Трюм пришлось осушать и
красить заново.
О медленных темпах ремонта Рябченко поставил в известность командующего
округом Ньюкасл контрадмирала Максвелла, когда тот посетил корабль.
Англичанин выслушал нашего командира с недовольной миной, однако вынужден
был признать справедливость замечаний, тем более что и на других эсминцах
дивизиона положение было не лучше.
Хорошо, хоть на линейном корабле "Ройял Сове-рин" и подводных лодках
механизмы и вооружение не требовали таких больших затрат труда. Приемка этих
кораблей шла быстрее.
Тем временем, пока шла приемка, пока члены команды осваивали новую
технику и вооружение -- каждый по своему заведованию, двое краснофлотцев --
радиометристы Александр Петров и Евгений Ба-ринов, командированные в Глазго,
изучали там в интернациональной школе Радара радиолокационное оборудование.
С других кораблей тоже были направлены в эту школу члены экипажа. Советские
моряки, прилежные и всегда подтянутые, пользовались особым
уважением к\рсантов, среди которых были представители разных стран --
греки, французы, поляки, канадцы, а также симпатиями местного населения.
Вспоминая учебу в Глазго, Александр Петрович Петров рассказывал о таком
эпизоде. Однажды он с товарищами смотрел в местном кинотеатре фильм "Сестра
его дворецкого". Когда Дина Дурбин запела по-русски: "Эх, раз, еще раз...",
краснофлотцы, услышав родную речь, дружно зааплодировали. Тут же фильм был
остановлен, в зале зажгли свет. Кто-то из англичан громко объявил: "Здесь
присутствуют русские моряки!" Многие зрители встали со своих мест и устроили
бурную овацию краснофлотцам. А когда фильм закончился, киномеханик
спроецировал на белый экран самый кончик ленты, на котором было нацарапано
по-русски: "Привет русским морякам!".
Многим жителям Глазго не доводилось прежде встречаться с советскими
людьми, и представление о нашей стране у них складывалось в основном по
дореволюционной литературе. В этом краснофлотцы не раз убеждались, знакомясь
с простыми англичанами. На одной из улиц Глазго наши моряки обратили
внимание на чучело медведя, установленное у книжного магазина. К лапе
медведя была прикреплена большая железная кружка для пожертвований.
Оказалось, что пожертвования предназначаются для нашей страны и что каждому
англичанину это понятно, ведь медведь в их представлении -- символ России.
Линкор и подводные лодки были приняты в срок. 30 мая на них был поднят
Военно-морской флаг СССР. Линейный корабль получил новое наименование --
"Архангельск". Подводные лодки стали называться "В-1", "В-2", "В-3" и "В-4".
Экипажи этих кораблей приступили к отработке задач боевой подготовки.
Приемка эсминцев из-за плохого технического состояния кораблей сильно
затянулась. Тем не менее уже через 8--10 дней после заселения экипажей
эсминцы начали выходить на ходовые испытания, которые выявили ряд новых
дефектов. На "Живучем", например, обнаружилась вибрация двух
турбовентиляторов и непригодность к эксплуатации парокомпрессоров. Много
дефектов было и на других эсминцах. Все это увеличивало объем ремонтных
работ.
1 Шип (англ ) -- корабль, судно.
36
устройства. Стволы орудий имели большой расстрел. Без предварительного
освобождения от грязи и ржавчины главных и вспомогательных механизмов трудно
было оценить их техническое состояние. Котлы на четырех эсминцах требовали
смены водогрейных трубок, а главные машины нуждались в переборке и
перезаливке подшипников. Даже валы турбин заржавели. Водонепроницаемые
переборки были проницаемы не только для воды, но и для крыс и тараканов,
которые расплодились в трубопроводах и арматуре.
Из личных наблюдений и бесед с английскими моряками мы вынесли
впечатление, что в британском королевском флоте не принято следить за
содержанием техники и вооружения, что корабли здесь работают на износ.
Никому не было дела и до того, как расходуются топливо и материалы. Как-то я
попросил Честера, мин-но-артиллерийского офицера, заменить рваный
парусиновый мешок для отбора стреляных гильз у "эрлико-нов". Английский
офицер удивился:
-- А зачем вам собирать гильзы? Пусть падают прямо за борт.
Пока шла приемка эсминцев, мы невольно сравнивали все с тем, как это
делается на наших кораблях, с порядками на нашем флоте. И конечно же,
сравнение было не в пользу союзников.
На "Ричмонде", как и на других принимаемых кораблях, оставалась
небольшая сдаточная команда. Это привело к некоторому "перенаселению"
корабля. Нужно сказать, что хозяева, как истые джентльмены, предоставили нам
необходимые жилые помещения -- кубрики и каюты. Правда, те же "джентльмены"
назначили к нам офицером связи белоэмигранта лейтенанта Грима (в прошлом
Громова). Когда-то родители Громова имели рудники на Украине.
На "Жестком" офицером связи был лейтенант Кот-тон (он же Котов) -- тоже
белоэмигрант. Под стать им были "связисты" и на других кораблях.
Кроме сдаточной военной команды на эсминцах находились и рабочие доков,
устранявшие различные дефекты. Наши старшины и краснофлотцы работали рядом с
ними.
Несмотря на то что шла война, англичане жили по мирному регламенту.
Рабочий день у них начинался в девять и заканчивался в шестнадцать. Кроме
того, они
устраивали двухчасовой перерыв на обед. Работы продолжались всего
несколько часов, но главное было в том, что все остальное время внутренние
помещения корабля были заперты. Нам с трудом удавалось уговорить английского
старшину или матроса, чтобы тот открыл нужное помещение. Мы не могли
работать такими темпами. Изменить распорядок хозяева не соглашались.
Видя все это, мы возмущались. И вовсе не потому, что сами работали по
двенадцать часов в сутки и даже больше. Было обидно за свою страну, за свой
народ, который терпел неимоверные лишения во имя победы, а здесь наши
союзники по войне не только не стремились помочь нам быстрее ввести боевые
корабли в строй, но и всяческими проволочками и искусственными задержками
тормозили ход работ.
Наиболее трудными оказались первые недели, когда мы занимались тем, что
удаляли из трюмов грязь, мусор, очищали ржавчину. Работу обычно начинали
рано утром, в половине седьмого, с приходом англичан работали наравне с
ними, а когда они уходили, мы снова наводили на корабле порядок, а потом еще
учения и тренировки на боевых постах.
Длинный и насыщенный рабочий день требовал четкого планирования,
буквально по часам и минутам. Ежедневно в конце рабочего дня старпом на
совещании командиров подразделений подводил итоги работы за день, уточнял
задания на следующие сутки. Еженедельно проводил совещания командир корабля.
С первых же дней возникли трудности в общении с английскими
специалистами. Английские офицеры-переводчики отказывались работать со
старшинами и рядовыми матросами -- это было ниже их достоинства. Поэтому мы
вынуждены были обходиться своими силами. Частенько можно было встретить
краснофлотца с бумажкой в руке, разыскивающего кого-нибудь из команды, кто
знает английский язык: на бумажке у него было переписано какое-нибудь
наставление или элемент схемы. К сожалению, и технической документации на
кораблях было мало.
Выручала русская смекалка. Парторг пятой боевой части Семен
Циолковский, например, после отбоя несколько дней подряд спускался в
машинное отделение и до поздней ночи копался там в трубопроводах и на-
сосах. Таким образом он в совершенстве изучил масляную систему и
вычертил ее на бумаге.
Примеру парторга последовали коммунисты Барма-шов, Бухарин, Абрамов и
другие. Вскоре появились схемы электрооборудования, паропроводов и питания
котлов, схема водонепроницаемых переборок. Инженеры-механики Борис Дубовов и
Николай Никольский проверяли эти чертежи, сводили их в общую схему. Так
создавались общекорабельные документы.
В конце мая вице-адмирал Г. И. Левченко, придирчиво осмотрев "Живучий",
подвел итог:
-- На эсминце начинает чувствоваться дух советского моряка.
Эта оценка скупого на похвалу адмирала ободрила нас.
По мере знакомства с техникой росли наши претензии к англичанам. Это не
нравилось сдаточной команде. Случалось, впику нам или по оплошности
"хозяева" преподносили какую-нибудь "пилюлю". Одна из них досталась мне во
время моего дежурства по кораблю: ночью после стирки белья английские
матросы слили мыльную воду в трюм, который только накануне был выкрашен
краснофлотцами. Досталось тогда мне от старпома. Трюм пришлось осушать и
красить заново.
О медленных темпах ремонта Рябченко поставил в известность командующего
округом Ньюкасл контрадмирала Максвелла, когда тот посетил корабль.
Англичанин выслушал нашего командира с недовольной миной, однако вынужден
был признать справедливость замечаний, тем более что и на других эсминцах
дивизиона положение было не лучше.
Хорошо, хоть на линейном корабле "Ройял Сове-рин" и подводных лодках
механизмы и вооружение не требовали таких больших затрат труда. Приемка этих
кораблей шла быстрее.
Тем временем, пока шла приемка, пока члены команды осваивали новую
технику и вооружение -- каждый по своему заведованию, двое краснофлотцев --
радиометристы Александр Петров и Евгений Ба-ринов, командированные в Глазго,
изучали там в интернациональной школе Радара радиолокационное оборудование.
С других кораблей тоже были направлены в эту школу члены экипажа. Советские
моряки, прилежные и всегда подтянутые, пользовались особым
уважением к\рсантов, среди которых были представители разных стран --
греки, французы, поляки, канадцы, а также симпатиями местного населения.
Вспоминая учебу в Глазго, Александр Петрович Петров рассказывал о таком
эпизоде. Однажды он с товарищами смотрел в местном кинотеатре фильм "Сестра
его дворецкого". Когда Дина Дурбин запела по-русски: "Эх, раз, еще раз...",
краснофлотцы, услышав родную речь, дружно зааплодировали. Тут же фильм был
остановлен, в зале зажгли свет. Кто-то из англичан громко объявил: "Здесь
присутствуют русские моряки!" Многие зрители встали со своих мест и устроили
бурную овацию краснофлотцам. А когда фильм закончился, киномеханик
спроецировал на белый экран самый кончик ленты, на котором было нацарапано
по-русски: "Привет русским морякам!".
Многим жителям Глазго не доводилось прежде встречаться с советскими
людьми, и представление о нашей стране у них складывалось в основном по
дореволюционной литературе. В этом краснофлотцы не раз убеждались, знакомясь
с простыми англичанами. На одной из улиц Глазго наши моряки обратили
внимание на чучело медведя, установленное у книжного магазина. К лапе
медведя была прикреплена большая железная кружка для пожертвований.
Оказалось, что пожертвования предназначаются для нашей страны и что каждому
англичанину это понятно, ведь медведь в их представлении -- символ России.
Линкор и подводные лодки были приняты в срок. 30 мая на них был поднят
Военно-морской флаг СССР. Линейный корабль получил новое наименование --
"Архангельск". Подводные лодки стали называться "В-1", "В-2", "В-3" и "В-4".
Экипажи этих кораблей приступили к отработке задач боевой подготовки.
Приемка эсминцев из-за плохого технического состояния кораблей сильно
затянулась. Тем не менее уже через 8--10 дней после заселения экипажей
эсминцы начали выходить на ходовые испытания, которые выявили ряд новых
дефектов. На "Живучем", например, обнаружилась вибрация двух
турбовентиляторов и непригодность к эксплуатации парокомпрессоров. Много
дефектов было и на других эсминцах. Все это увеличивало объем ремонтных
работ.
 Наши краснофлотцы и старшины, работая бок о бок с английскими рабочими,
постоянно устанавливали с ними дружеские контакты, помогали им продуктами,
делились табаком. Я не раз замечал, как рабочие, примостившись где-нибудь в
сторонке, ложкой, а то и пустой консервной банкой, черпали из бачка
принесенную краснофлотцами еду.
Не могли не вызвать улыбки неумелые попытки англичан свернуть цигарку
из махорки. Кое-как справившись с этим делом, они после первой же затяжки
начинали громко кашлять и чихать -- сказывалась многолетняя привычка к
слабым табакам. "Вери стронг!" '-- восклицали они.
Несмотря на языковой барьер, советские моряки и английские рабочие
хорошо понимали друг друга, а некоторые и подружились. Английским офицерам
это не правилось, так как многие из них были из привилегированных классов.
Один из командиров эсминцев владел большим парфюмерным магазином в Лондоне,
другой -- крупной скотоводческой фермой и Австралии.
Мы и раньше слышали, что в английском флоте существует кастовость, а
теперь имели возможность убедиться в этом сами. Командные должности занимают
там офицеры, относящиеся к так называемой белой кости"; все они, как
правило, выходцы из богатых семей. Те же. кто происходит из менее
обеспеченных слоев общества, -- "черная кость" -- довольствуются
Наши краснофлотцы и старшины, работая бок о бок с английскими рабочими,
постоянно устанавливали с ними дружеские контакты, помогали им продуктами,
делились табаком. Я не раз замечал, как рабочие, примостившись где-нибудь в
сторонке, ложкой, а то и пустой консервной банкой, черпали из бачка
принесенную краснофлотцами еду.
Не могли не вызвать улыбки неумелые попытки англичан свернуть цигарку
из махорки. Кое-как справившись с этим делом, они после первой же затяжки
начинали громко кашлять и чихать -- сказывалась многолетняя привычка к
слабым табакам. "Вери стронг!" '-- восклицали они.
Несмотря на языковой барьер, советские моряки и английские рабочие
хорошо понимали друг друга, а некоторые и подружились. Английским офицерам
это не правилось, так как многие из них были из привилегированных классов.
Один из командиров эсминцев владел большим парфюмерным магазином в Лондоне,
другой -- крупной скотоводческой фермой и Австралии.
Мы и раньше слышали, что в английском флоте существует кастовость, а
теперь имели возможность убедиться в этом сами. Командные должности занимают
там офицеры, относящиеся к так называемой белой кости"; все они, как
правило, выходцы из богатых семей. Те же. кто происходит из менее
обеспеченных слоев общества, -- "черная кость" -- довольствуются
 1 Вери стронг (англ.) -- очень крепкий.
41
невысокими воинскими званиями, подолгу служат в одной должности без
перспектив на повышение.
Первую категорию на "Ричмонде" представлял помощник командира корабля
лейтенант Райт. Ему было около двадцати пяти лет. Родители его владели
крупными фабриками, имели родовое поместье где-то в Шотландии. Подчиненные
Райта -- чиф-инженер младший лейтенант Лидикольт и минно-артиллерийский
офицер младший лейтенант Честер, представлявшие на корабле "черную кость",
принадлежали к простым людям и привилегиями не пользовались, хотя и
прослужили на флоте более 20 лет. Перспектив на продвижение у них не было,
и, если бы не война, они давно бы уже находились в отставке.
Постоянно общаясь с нашими старшинами и краснофлотцами, английские
рабочие стремились побольше узнать о Советской стране, задавали самые
разнообразные вопросы. Им, конечно, охотно отвечали. И это тоже не всем
английским офицерам было по душе. А один из них однажды даже попытался в
связи с этим шантажировать нас.
В тот день дежурил по кораблю я. Подбегает ко мне офицер связи мистер
Грим, очень чем-то взволнованный.
-- Мистер Поляков, ваши матросы собрали рабочих на юте и подбивают их
на забастовку, -- выпалил он. -- Я должен немедленно сообщить в Лондон о
подстрекательстве и нарушении английских законов иностранцами, размещенными
на военном корабле.
Я счел это заявление вздорным. Однако на сигнал надо было как-то
реагировать. Предлагаю мистеру Гриму пройти в кают-компанию, а помощнику
дежурного главстаршине Гребенцу поручаю тем временем выяснить, что произошло
на самом деле.
Как только мы с офицером связи расположились для беседы за столом,
перед нами появилась легкая сервировка -- вестовой Иван Клименко хорошо знал
привычки и вкусы мистера Грима. Когда в кают-компанию вошел Гребенец с
докладом, английский офицер уже успел дважды осушить бокал с ромом.
Главстар-шина сообщил, что сведения мистера Грима не подтвердились. Просто
двое или трое английских рабочих остановили старшего боцмана и
поинтересовались условиями труда на советских судоверфях. Повторак, зная
всего десяток английских слов, с помощью жестов, пытался ответить на
вопросы.
Англичанин, как ни в чем не бывало, выслушал доклад, сделал удивленную
мину: дескать, не понимает, почему русские обеспокоены таким пустяком. Когда
Грим заговорил, язык его уже заплетался. Мы с помощником дежурного
поблагодарили господина лейтенанта за "любезный" визит и проводили его до
трапа. Позднее все убедились, что он просто жалкий вымогатель: за стакан
рома он мог, как говорится, "продать душу черту". Не скрою, иногда мы
пользовались этой его слабостью -- поручали выяснить на базе причины
задержки с запчастями или боеприпасами, переводить краснофлотцам описания
корабельных устройств.
Наибольшая нагрузка, связанная с освоением и приемкой техники, легла на
личный состав электромеханической боевой части и ее командира старшего
лейтенанта-инженера Никольского. Николай Иванович после окончания Высшего
военно-морского училища имени Дзержинского получил назначение на должность
командира машинно-котельной группы эсминца "Сталин" Тихоокеанского флота и
за год вырос до командира боевой части. Общительный, доброжелательный
человек, он располагал к себе каждого, кто имел с ним дело. Большая
эрудиция, добрая душа и высокая требовательность к себе и подчиненным
помогли ему быстро завоевать авторитет в новом коллективе. Эти качества
помогли ему расположить к себе и английского коллегу, чиф-инженера младшего
лейтенанта Лидикольта, что имело немаловажное значение в той сложной
обстановке, в которой проходили прием-передача корабельного оборудования.
Англичанин Лидикольт, хорошо знавший и по-настоящему любивший свою
специальность, искренне радовался, видя, как быстро идет ввод в строй
материальной части, и старался помогать нам чем только мог. Особое удивление
вызвала у него высокая профессиональная подготовка наших матросов и старшин.
-- Вы, Николас, привезли в Англию не матросов, а инженеров, -- не раз
высказывал он свое восхищение Никольскому.
Лидикольт, конечно, шутил, но среди англичан находились и такие, кто
"на полном серьезе" говорил о русских инженерах, переодетых в матросскую
форму.
Шло время. Общение членов команды с англичанами уже не требовало
переводчиков. Среди моряков обнаружились люди, способные к языкам, которых в
шутку на корабле называли "интэприте"1. К ним причисляли и тех из
англичан, кто хоть кое-как владел русским языком (если он по крайней мере
мог включиться в диалог и если его при этом мало-мальски понимали
собеседники). У англичан таким "интэприте" был петти-офицер2
Дуглас, у нас -- старший лейтенант Лисовский.
Как-то на полубаке у носового орудия Лисовский шутливым тоном что-то
говорил своему английскому коллеге. Я на мостике проверял сигнальную вахту и
невольно прислушался:
-- ...снарядейшен фор пушкейшен...
В ответ англичанин кивал ему головой: дескать, понял, снаряды для пушки
привезем.
В кают-компанию на обед иногда приходил помощник командира "Ричмонда"
лейтенант Райт. Рябченко пользовался этой встречей для решения различных
проблем, возникавших в ходе приема-передачи. Делал это он в полуофициальной,
нередко шутливой форме, памятуя о правиле -- служебные разговоры за едой не
вести.
Наш командир заранее продумывал вопросы для англичанина, называя их в
шутку "кляузными".
-- Володя, передай мистеру Райту, что у меня есть
к нему несколько кляузных вопросов, -- обратился
как-то командир к переводчику. Журавлев с недоуме
нием посмотрел на Рябченко и задумался: как переве
сти слово "кляузный"? Не найдя равнозначного англий
ского слова, переводчик "окольным" путем объяснил
Райту смысл сказанных командиром слов. Англичанин
расхохотался. Сомнений не было, -- значение слова
"кляузный" он понял правильно.
В дальнейшем, когда Рябченко, обращаясь к переводчику, говорил:
"Володя, задай англичанину два "кляузешенс квестшенс3", -- все
улыбались, в том числе и английский лейтенант.
1 Вери стронг (англ.) -- очень крепкий.
41
невысокими воинскими званиями, подолгу служат в одной должности без
перспектив на повышение.
Первую категорию на "Ричмонде" представлял помощник командира корабля
лейтенант Райт. Ему было около двадцати пяти лет. Родители его владели
крупными фабриками, имели родовое поместье где-то в Шотландии. Подчиненные
Райта -- чиф-инженер младший лейтенант Лидикольт и минно-артиллерийский
офицер младший лейтенант Честер, представлявшие на корабле "черную кость",
принадлежали к простым людям и привилегиями не пользовались, хотя и
прослужили на флоте более 20 лет. Перспектив на продвижение у них не было,
и, если бы не война, они давно бы уже находились в отставке.
Постоянно общаясь с нашими старшинами и краснофлотцами, английские
рабочие стремились побольше узнать о Советской стране, задавали самые
разнообразные вопросы. Им, конечно, охотно отвечали. И это тоже не всем
английским офицерам было по душе. А один из них однажды даже попытался в
связи с этим шантажировать нас.
В тот день дежурил по кораблю я. Подбегает ко мне офицер связи мистер
Грим, очень чем-то взволнованный.
-- Мистер Поляков, ваши матросы собрали рабочих на юте и подбивают их
на забастовку, -- выпалил он. -- Я должен немедленно сообщить в Лондон о
подстрекательстве и нарушении английских законов иностранцами, размещенными
на военном корабле.
Я счел это заявление вздорным. Однако на сигнал надо было как-то
реагировать. Предлагаю мистеру Гриму пройти в кают-компанию, а помощнику
дежурного главстаршине Гребенцу поручаю тем временем выяснить, что произошло
на самом деле.
Как только мы с офицером связи расположились для беседы за столом,
перед нами появилась легкая сервировка -- вестовой Иван Клименко хорошо знал
привычки и вкусы мистера Грима. Когда в кают-компанию вошел Гребенец с
докладом, английский офицер уже успел дважды осушить бокал с ромом.
Главстар-шина сообщил, что сведения мистера Грима не подтвердились. Просто
двое или трое английских рабочих остановили старшего боцмана и
поинтересовались условиями труда на советских судоверфях. Повторак, зная
всего десяток английских слов, с помощью жестов, пытался ответить на
вопросы.
Англичанин, как ни в чем не бывало, выслушал доклад, сделал удивленную
мину: дескать, не понимает, почему русские обеспокоены таким пустяком. Когда
Грим заговорил, язык его уже заплетался. Мы с помощником дежурного
поблагодарили господина лейтенанта за "любезный" визит и проводили его до
трапа. Позднее все убедились, что он просто жалкий вымогатель: за стакан
рома он мог, как говорится, "продать душу черту". Не скрою, иногда мы
пользовались этой его слабостью -- поручали выяснить на базе причины
задержки с запчастями или боеприпасами, переводить краснофлотцам описания
корабельных устройств.
Наибольшая нагрузка, связанная с освоением и приемкой техники, легла на
личный состав электромеханической боевой части и ее командира старшего
лейтенанта-инженера Никольского. Николай Иванович после окончания Высшего
военно-морского училища имени Дзержинского получил назначение на должность
командира машинно-котельной группы эсминца "Сталин" Тихоокеанского флота и
за год вырос до командира боевой части. Общительный, доброжелательный
человек, он располагал к себе каждого, кто имел с ним дело. Большая
эрудиция, добрая душа и высокая требовательность к себе и подчиненным
помогли ему быстро завоевать авторитет в новом коллективе. Эти качества
помогли ему расположить к себе и английского коллегу, чиф-инженера младшего
лейтенанта Лидикольта, что имело немаловажное значение в той сложной
обстановке, в которой проходили прием-передача корабельного оборудования.
Англичанин Лидикольт, хорошо знавший и по-настоящему любивший свою
специальность, искренне радовался, видя, как быстро идет ввод в строй
материальной части, и старался помогать нам чем только мог. Особое удивление
вызвала у него высокая профессиональная подготовка наших матросов и старшин.
-- Вы, Николас, привезли в Англию не матросов, а инженеров, -- не раз
высказывал он свое восхищение Никольскому.
Лидикольт, конечно, шутил, но среди англичан находились и такие, кто
"на полном серьезе" говорил о русских инженерах, переодетых в матросскую
форму.
Шло время. Общение членов команды с англичанами уже не требовало
переводчиков. Среди моряков обнаружились люди, способные к языкам, которых в
шутку на корабле называли "интэприте"1. К ним причисляли и тех из
англичан, кто хоть кое-как владел русским языком (если он по крайней мере
мог включиться в диалог и если его при этом мало-мальски понимали
собеседники). У англичан таким "интэприте" был петти-офицер2
Дуглас, у нас -- старший лейтенант Лисовский.
Как-то на полубаке у носового орудия Лисовский шутливым тоном что-то
говорил своему английскому коллеге. Я на мостике проверял сигнальную вахту и
невольно прислушался:
-- ...снарядейшен фор пушкейшен...
В ответ англичанин кивал ему головой: дескать, понял, снаряды для пушки
привезем.
В кают-компанию на обед иногда приходил помощник командира "Ричмонда"
лейтенант Райт. Рябченко пользовался этой встречей для решения различных
проблем, возникавших в ходе приема-передачи. Делал это он в полуофициальной,
нередко шутливой форме, памятуя о правиле -- служебные разговоры за едой не
вести.
Наш командир заранее продумывал вопросы для англичанина, называя их в
шутку "кляузными".
-- Володя, передай мистеру Райту, что у меня есть
к нему несколько кляузных вопросов, -- обратился
как-то командир к переводчику. Журавлев с недоуме
нием посмотрел на Рябченко и задумался: как переве
сти слово "кляузный"? Не найдя равнозначного англий
ского слова, переводчик "окольным" путем объяснил
Райту смысл сказанных командиром слов. Англичанин
расхохотался. Сомнений не было, -- значение слова
"кляузный" он понял правильно.
В дальнейшем, когда Рябченко, обращаясь к переводчику, говорил:
"Володя, задай англичанину два "кляузешенс квестшенс3", -- все
улыбались, в том числе и английский лейтенант.
 1 Интэприте (англ.) -- переводчик (устный).
2 Петти-офицер (англ.) -- старшинский чин в английском
флоте
3 Квестшен (англ.) -- вопрос.
Такой настрой, умело создаваемый командиром в кают-компании, помогал
решении деловых вопросов, а слово "кляузешен" на все время нашего пребывания
под британским флагом стало "ходовым".
Иногда происходили и курьезы, связанные с языковыми и национальными
различиями. Обычно продукты на корабль привозила симпатичная
девушка-экспедитор в форме английских ВМС. Однажды мы с Лариошиным попросили
ее привезти немного черного хлеба. Экспедитор долго не понимала, что такое
"черный хлеб". (В Англии выпекают только белый). Наконец, кажется, поняла и,
воскликнув "Ол-райт!", села за руль и укатила. На следующий день знакомый
автомобиль с уже знакомым нам экспедитором доставил на корабль два ящика
темно-коричневого... кекса.
Советских моряков можно было встретить на улицах английских городов.
Небольшими группами мы сходили с корабля прогуляться, посмотреть фильм,
побывать в музее, в магазинах. Очень удивились мы, когда, впервые получив
английские деньги, ничего не смогли купить на них. Оказалось, что в Англии
действует карточная система, именуемая "выдачей по купонам". Пришлось ждать,
пока и нам выдадут такие купоны.
После того как на линкоре и подводных лодках был поднят Военно-морской
флаг СССР, командование Отрядом переселилось в Ньюкасл: с приемкой эсминцев
не все ладилось, и вице-адмиралу Левченко и капитанам 1-го ранга Фокину и
Зарембо приходилось часто бывать на кораблях, стоявших в "Альберт-доке" и
"Тайн-доке".
Гордей Иванович Левченко обычно, приняв рапорт дежурного по кораблю,
бросал отрывисто:
-- Комбинезон.
Зная "слабость" адмирала к электромеханической боевой части, Рябченко
приказал постоянно держать в дежурной рубке спецовку для командующего.
Облачившись в комбинезон, адмирал спускался в машинные и котельные
отделения, придирчиво осматривал их, задавал вопросы Никольскому, старшинам
отделений. Такое пристальное внимание командующего к корабельной технике
было не случайным: все понимали -- успех предстоящего перехода на Родину во
многом будет зависеть от безаварийной работы механизмов корабля.
Одновременно с ремонтом и приемом эсминца шло составление и отработка
многочисленных корабельных расписаний, определяющих действия каждого
краснофлотца, старшины и офицера в различных условиях боевой и повседневной
обстановки. Без этого нельзя было выходить на ходовые испытания, а тем более
сдавать огневые задачи.
Подходил к концу первый месяц пребывания в Англии -- месяц упорной
учебы и труда. Он казался вечностью. Мы начали скучать по всему нашему,
русскому, советскому.
Любая восточка, полученная с Родины, тут же становилась достоянием
всего экипажа. Праздниками были дни, когда в Норт-Шилдс приезжали из Лондона
сотрудники советской военной миссии. Вместе с последними военными новостями
они иногда привозили нам н письма.
Не все они, к сожалению, были радостными. В некоторых сообщалось о
гибели родных и близких моряков. Такие сообщения ложились в основу
специального выпуска корабельной радиогазеты, выходившей под рубрикой: "О
зверствах фашистских бандитов над родными и близкими членов экипажа".
1 Интэприте (англ.) -- переводчик (устный).
2 Петти-офицер (англ.) -- старшинский чин в английском
флоте
3 Квестшен (англ.) -- вопрос.
Такой настрой, умело создаваемый командиром в кают-компании, помогал
решении деловых вопросов, а слово "кляузешен" на все время нашего пребывания
под британским флагом стало "ходовым".
Иногда происходили и курьезы, связанные с языковыми и национальными
различиями. Обычно продукты на корабль привозила симпатичная
девушка-экспедитор в форме английских ВМС. Однажды мы с Лариошиным попросили
ее привезти немного черного хлеба. Экспедитор долго не понимала, что такое
"черный хлеб". (В Англии выпекают только белый). Наконец, кажется, поняла и,
воскликнув "Ол-райт!", села за руль и укатила. На следующий день знакомый
автомобиль с уже знакомым нам экспедитором доставил на корабль два ящика
темно-коричневого... кекса.
Советских моряков можно было встретить на улицах английских городов.
Небольшими группами мы сходили с корабля прогуляться, посмотреть фильм,
побывать в музее, в магазинах. Очень удивились мы, когда, впервые получив
английские деньги, ничего не смогли купить на них. Оказалось, что в Англии
действует карточная система, именуемая "выдачей по купонам". Пришлось ждать,
пока и нам выдадут такие купоны.
После того как на линкоре и подводных лодках был поднят Военно-морской
флаг СССР, командование Отрядом переселилось в Ньюкасл: с приемкой эсминцев
не все ладилось, и вице-адмиралу Левченко и капитанам 1-го ранга Фокину и
Зарембо приходилось часто бывать на кораблях, стоявших в "Альберт-доке" и
"Тайн-доке".
Гордей Иванович Левченко обычно, приняв рапорт дежурного по кораблю,
бросал отрывисто:
-- Комбинезон.
Зная "слабость" адмирала к электромеханической боевой части, Рябченко
приказал постоянно держать в дежурной рубке спецовку для командующего.
Облачившись в комбинезон, адмирал спускался в машинные и котельные
отделения, придирчиво осматривал их, задавал вопросы Никольскому, старшинам
отделений. Такое пристальное внимание командующего к корабельной технике
было не случайным: все понимали -- успех предстоящего перехода на Родину во
многом будет зависеть от безаварийной работы механизмов корабля.
Одновременно с ремонтом и приемом эсминца шло составление и отработка
многочисленных корабельных расписаний, определяющих действия каждого
краснофлотца, старшины и офицера в различных условиях боевой и повседневной
обстановки. Без этого нельзя было выходить на ходовые испытания, а тем более
сдавать огневые задачи.
Подходил к концу первый месяц пребывания в Англии -- месяц упорной
учебы и труда. Он казался вечностью. Мы начали скучать по всему нашему,
русскому, советскому.
Любая восточка, полученная с Родины, тут же становилась достоянием
всего экипажа. Праздниками были дни, когда в Норт-Шилдс приезжали из Лондона
сотрудники советской военной миссии. Вместе с последними военными новостями
они иногда привозили нам н письма.
Не все они, к сожалению, были радостными. В некоторых сообщалось о
гибели родных и близких моряков. Такие сообщения ложились в основу
специального выпуска корабельной радиогазеты, выходившей под рубрикой: "О
зверствах фашистских бандитов над родными и близкими членов экипажа".
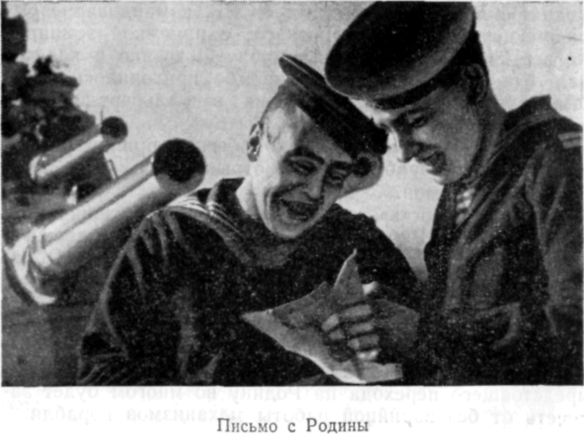
 Запомнился приезд контр-адмирала Харламова в Норт-Шилдс в начале июня.
В те дни вся Англия буквально бурлила -- высадился англоамериканский десант
на северо-западе Франции. Вокруг только и говорили, что об открытии второго
фронта. Нас, военных моряков, конечно, интересовали подробности этой
стратегической операции. Поэтому мы с особым вниманием слушали, так сказать,
из первых уст, сообщения контр-адмирала Харламова.
Николай Михайлович, участник крупнейшего в мировой истории десанта,
наблюдал за событиями с борта английского крейсера "Мавришес". Некоторые
цифры, характеризующие масштаб высадки, я тогда записал: в десантной
операции участвовало 6483 корабля и судна, а также 9600 самолетов.
Операция "Оверлорд" (кодовое название высадки десанта союзных войск во
Франции) долго и тщательно готовилась. Она началась, когда Красная Армия
вступила в Румынию и Венгрию, то есть тогда, когда поражение гитлеровской
Германии было уже предрешено.
О втором фронте после окончания войны написано много книг и монографий.
Иностранные авторы нередко преувеличивают значение высадки союзников во
Франции, пытаются убедить читателя в том, что без второго фронта победы над
Гитлером могло и не быть. Несомненно, операция союзников имела важное
значение, но советские люди хорошо знают, что прежде всего она преследовала
политические и военные цели, которые не имели ничего общего с задачами
оказания
Советскому Союзу помощи в его единоборстве с германским фашизмом.
Многие англичане искренне радовались открытию второго фронта и
рассматривали его как выполнение, хотя и запоздалое, союзнического долга
"перед Россией".
Приветствовали это событие не только англичане. Однажды в Саут-Шилдс к
стоявшим у причала эсминцам с шумом и гамом подошла группа возбужденных
французских моряков. Два матроса держали в руках мешки. В одном из них
оказались бананы, в другом -- обезьянка. Французский офицер взял в руки
обезьянку и, показывая на бананы, начал быстро и с жаром что-то говорить,
обращаясь к морякам "Достойного". Те не могли понять, чего хочет француз.
Подошел кинооператор Николай Большаков, знавший французский язык. Он
объяснил нам, что обезьянка -- это подарок в знак дружбы, а бананы -- еда
для нее.
Подарок приняли, французских моряков пригласили на корабль. В
кают-компании и в кубриках слышались оживленные голоса, смех, дружеские
рукопожатия.
А обезьянку позднее приучили есть свежую капусту, так как бананов
хватило ненадолго.
В те дни на улицах английских городов советские военные моряки
встречали особое дружелюбие и приветливость со стороны местного населения.
Много писем было получено от простых людей Англии. В них содержались
приветствия советским морякам, приглашения в гости. В Эдинбурге к
краснофлотцу Карна-уху подошел англичанин и сказал: "Вы спасли Англию от
гибели". Мы понимали, что симпатии и доброе отношение к нам свидетельствуют
о признании авторитета и могущества нашей социалистической Родины, ее
замечательных побед над немецко-фашистскими захватчиками. Все это обязывало
нас с еще большей ответственностью относиться к выполнению задания.
Партийно-политическая работа на корабле проводилась индивидуально, с
учетом обстановки: во время приема пищи, перекуров, непосредственно на
рабочих местах, у механизмов и орудий. Попытки собрать личный состав в
кубрик для беседы вызывали протест со стороны английского командования. Но
хоть мы и находились под английским флагом, наши экипажи жили по советским
нормам.
Несмотря на ограниченное время, командование Отрядом старалось по
возможности знакомить нас с культурными и историческими
достопримечательностями Англии. Несколько офицеров побывали в лондонском
музее восковых фигур (музей мадам Тюссо). Им тогда удалось уговорить
англичан -- организаторов поездки в Лондон, заехать и на Хайгетское кладбище
-- на могилу Карла Маркса.
Проводились экскурсии и в окрестности Ньюкасла. Мне запомнилась поездка
в замок Дором. Едва разместились а автобусе, как сотрудник военной миссии
Иевлев вынул из футляра аккордеон и полилась знакомая и такая родная
мелодия. Весь автобус дружно подхватил нашу любимую песню "Широка страна моя
родная". Потом пели "Катюшу", "Огонек".
В замке Дором видели гробницу какого-то "святого", место вокруг которой
пользуется неприкосновенностью. Любой преступник, как пояснил гид, может
укрыться там от полиции, и никто не посмеет его тронуть. Странным показалось
это мне. Кстати, в "старой доброй Англии" нам не раз приходилось
сталкиваться с подобными странностями.
Англичане, как приветливые хозяева, частенько предлагали всевозможные
поездки, экскурсии, но для этого времени у нас было в обрез. Иногда, правда,
эти хозяева предпринимали (отнюдь не с добрым умыслом) попытки отвлечь наших
моряков на всевозможные увеселительные прогулки, кутежи, т. е. на праздное
времяпрепровождение. Все эти предложения вежливо отклонялись.
Прошло два месяца напряженной работы. Личный состав не только освоил и
принял английские корабли, но и подготовил технику и оружие эскадренных
миноносцев к боевому использованию. Преобразился внешний вид кораблей, борта
и надстройки засверкали свежей краской. А далось нам это тоже нелегко. Как
оказалось, прежние хозяева кораблей перед покраской никогда не снимали
старый слой. Поэтому нам пришлось счищать сразу по 8--10 слоев. Очистив до
металла корпус корабля, сначала покрыли его как полагается железным суриком.
Этот необычный для английских кораблей цвет (красный), англичане истолковали
по своему: русские большевики -- "красные", вот и корабли выкрасили в
красный цвет. И лишь после того,
как покрасочные работы были завершены, они поняли нелепость своих
предположений.
В машинных и котельных помещениях, в кубриках тоже навели чистоту и
порядок. Помнится, как однажды английский инженер-механик дивизиона привел
на корабль своих чиф-инженеров. После осмотра машинных отделений англичанин
обвел укоризненным взглядом подчиненных и негромко произнес: "Такой порядок
должен быть и у нас".
По мере сдачи техники и вооружения, английские специалисты уходили с
эсминцев. Советские моряки все больше становились фактическими хозяевами
принимаемых кораблей.
Но на флагштоках по-прежнему развевался королевский флаг, еще
оставались на кораблях несколько английских моряков, "закруглявших"
передачу. И тут неожиданно возник небольшой конфликт.
Английский старпом, покидая эсминец с группой моряков, предупредил, что
для оставшихся па корабле четырех матросов отдельно готовить пищу не будут,
и попросил кормить их из общего котла.
Запомнился приезд контр-адмирала Харламова в Норт-Шилдс в начале июня.
В те дни вся Англия буквально бурлила -- высадился англоамериканский десант
на северо-западе Франции. Вокруг только и говорили, что об открытии второго
фронта. Нас, военных моряков, конечно, интересовали подробности этой
стратегической операции. Поэтому мы с особым вниманием слушали, так сказать,
из первых уст, сообщения контр-адмирала Харламова.
Николай Михайлович, участник крупнейшего в мировой истории десанта,
наблюдал за событиями с борта английского крейсера "Мавришес". Некоторые
цифры, характеризующие масштаб высадки, я тогда записал: в десантной
операции участвовало 6483 корабля и судна, а также 9600 самолетов.
Операция "Оверлорд" (кодовое название высадки десанта союзных войск во
Франции) долго и тщательно готовилась. Она началась, когда Красная Армия
вступила в Румынию и Венгрию, то есть тогда, когда поражение гитлеровской
Германии было уже предрешено.
О втором фронте после окончания войны написано много книг и монографий.
Иностранные авторы нередко преувеличивают значение высадки союзников во
Франции, пытаются убедить читателя в том, что без второго фронта победы над
Гитлером могло и не быть. Несомненно, операция союзников имела важное
значение, но советские люди хорошо знают, что прежде всего она преследовала
политические и военные цели, которые не имели ничего общего с задачами
оказания
Советскому Союзу помощи в его единоборстве с германским фашизмом.
Многие англичане искренне радовались открытию второго фронта и
рассматривали его как выполнение, хотя и запоздалое, союзнического долга
"перед Россией".
Приветствовали это событие не только англичане. Однажды в Саут-Шилдс к
стоявшим у причала эсминцам с шумом и гамом подошла группа возбужденных
французских моряков. Два матроса держали в руках мешки. В одном из них
оказались бананы, в другом -- обезьянка. Французский офицер взял в руки
обезьянку и, показывая на бананы, начал быстро и с жаром что-то говорить,
обращаясь к морякам "Достойного". Те не могли понять, чего хочет француз.
Подошел кинооператор Николай Большаков, знавший французский язык. Он
объяснил нам, что обезьянка -- это подарок в знак дружбы, а бананы -- еда
для нее.
Подарок приняли, французских моряков пригласили на корабль. В
кают-компании и в кубриках слышались оживленные голоса, смех, дружеские
рукопожатия.
А обезьянку позднее приучили есть свежую капусту, так как бананов
хватило ненадолго.
В те дни на улицах английских городов советские военные моряки
встречали особое дружелюбие и приветливость со стороны местного населения.
Много писем было получено от простых людей Англии. В них содержались
приветствия советским морякам, приглашения в гости. В Эдинбурге к
краснофлотцу Карна-уху подошел англичанин и сказал: "Вы спасли Англию от
гибели". Мы понимали, что симпатии и доброе отношение к нам свидетельствуют
о признании авторитета и могущества нашей социалистической Родины, ее
замечательных побед над немецко-фашистскими захватчиками. Все это обязывало
нас с еще большей ответственностью относиться к выполнению задания.
Партийно-политическая работа на корабле проводилась индивидуально, с
учетом обстановки: во время приема пищи, перекуров, непосредственно на
рабочих местах, у механизмов и орудий. Попытки собрать личный состав в
кубрик для беседы вызывали протест со стороны английского командования. Но
хоть мы и находились под английским флагом, наши экипажи жили по советским
нормам.
Несмотря на ограниченное время, командование Отрядом старалось по
возможности знакомить нас с культурными и историческими
достопримечательностями Англии. Несколько офицеров побывали в лондонском
музее восковых фигур (музей мадам Тюссо). Им тогда удалось уговорить
англичан -- организаторов поездки в Лондон, заехать и на Хайгетское кладбище
-- на могилу Карла Маркса.
Проводились экскурсии и в окрестности Ньюкасла. Мне запомнилась поездка
в замок Дором. Едва разместились а автобусе, как сотрудник военной миссии
Иевлев вынул из футляра аккордеон и полилась знакомая и такая родная
мелодия. Весь автобус дружно подхватил нашу любимую песню "Широка страна моя
родная". Потом пели "Катюшу", "Огонек".
В замке Дором видели гробницу какого-то "святого", место вокруг которой
пользуется неприкосновенностью. Любой преступник, как пояснил гид, может
укрыться там от полиции, и никто не посмеет его тронуть. Странным показалось
это мне. Кстати, в "старой доброй Англии" нам не раз приходилось
сталкиваться с подобными странностями.
Англичане, как приветливые хозяева, частенько предлагали всевозможные
поездки, экскурсии, но для этого времени у нас было в обрез. Иногда, правда,
эти хозяева предпринимали (отнюдь не с добрым умыслом) попытки отвлечь наших
моряков на всевозможные увеселительные прогулки, кутежи, т. е. на праздное
времяпрепровождение. Все эти предложения вежливо отклонялись.
Прошло два месяца напряженной работы. Личный состав не только освоил и
принял английские корабли, но и подготовил технику и оружие эскадренных
миноносцев к боевому использованию. Преобразился внешний вид кораблей, борта
и надстройки засверкали свежей краской. А далось нам это тоже нелегко. Как
оказалось, прежние хозяева кораблей перед покраской никогда не снимали
старый слой. Поэтому нам пришлось счищать сразу по 8--10 слоев. Очистив до
металла корпус корабля, сначала покрыли его как полагается железным суриком.
Этот необычный для английских кораблей цвет (красный), англичане истолковали
по своему: русские большевики -- "красные", вот и корабли выкрасили в
красный цвет. И лишь после того,
как покрасочные работы были завершены, они поняли нелепость своих
предположений.
В машинных и котельных помещениях, в кубриках тоже навели чистоту и
порядок. Помнится, как однажды английский инженер-механик дивизиона привел
на корабль своих чиф-инженеров. После осмотра машинных отделений англичанин
обвел укоризненным взглядом подчиненных и негромко произнес: "Такой порядок
должен быть и у нас".
По мере сдачи техники и вооружения, английские специалисты уходили с
эсминцев. Советские моряки все больше становились фактическими хозяевами
принимаемых кораблей.
Но на флагштоках по-прежнему развевался королевский флаг, еще
оставались на кораблях несколько английских моряков, "закруглявших"
передачу. И тут неожиданно возник небольшой конфликт.
Английский старпом, покидая эсминец с группой моряков, предупредил, что
для оставшихся па корабле четырех матросов отдельно готовить пищу не будут,
и попросил кормить их из общего котла.
 Наступило время обеда. Бачковые' выстроились у камбуза. Подошел и
английский матрос. Кок Василий Феофанов, приняв бачок от англичанина,
доверху наполнил его наваристыми щами. Увидев в бачке русскую еду,
англичанин недовольно поморщился и возвратился в кубрик, оставив бачок на
камбузе.
Отказ от приема пищи -- чрезвычайное происшествие. Старший лейтенант
Проничкин поручил переводчику уладить это недоразумение. Прибыв в кубрик,
Володя Журавлев объяснил матросам, что по решению английского старпома они
должны оставшиеся дни питаться вместе с советскими моряками. В ответ на его
слова один из матросов молча схватил свой бачок, побежал на камбуз, а
вернувшись, демонстративно выплеснул содержимое бачка в иллюминатор: дескать
есть не ел и приказание старпома выполнил.
Пошли брать обед трое остальных. Голод, как говорится, -- не тетка.
Распробовав русские щи, матросы охотно стали питаться из общего котла и
нередко просили добавки.
Помню, приходилось иногда встречаться с русскими эмигрантами, жившими в
Англии. Многие из них открыто выражали свою грусть, тоску по Родине,
интересовались, можно ли вернуться обратно и как это сделать. Встречи с ними
вызывали двоякое чувство: мы понимали, что в Англии им туго приходится, и
жалели их, но в то же время и осуждали за то, что когда-то они отреклись от
Родины.
Наш рабочий день был плотно забит. И все равно время тянулось медленно
и однообразно. Особенно грустно бывало по вечерам. В такие минуты чаще
вспоминались родные, близкие. Возникало желание расслабиться, тянуло
поговорить с друзьями "по душам". Частенько мы с Алексеем Прокопьевичем
Проничкнным заходили "на огонек" к Никольскому. В его просторной каюте за
чаем с английским джемом или ромом просиживали перед сном час-другой,
предаваясь воспоминаниям.
Наступило время обеда. Бачковые' выстроились у камбуза. Подошел и
английский матрос. Кок Василий Феофанов, приняв бачок от англичанина,
доверху наполнил его наваристыми щами. Увидев в бачке русскую еду,
англичанин недовольно поморщился и возвратился в кубрик, оставив бачок на
камбузе.
Отказ от приема пищи -- чрезвычайное происшествие. Старший лейтенант
Проничкин поручил переводчику уладить это недоразумение. Прибыв в кубрик,
Володя Журавлев объяснил матросам, что по решению английского старпома они
должны оставшиеся дни питаться вместе с советскими моряками. В ответ на его
слова один из матросов молча схватил свой бачок, побежал на камбуз, а
вернувшись, демонстративно выплеснул содержимое бачка в иллюминатор: дескать
есть не ел и приказание старпома выполнил.
Пошли брать обед трое остальных. Голод, как говорится, -- не тетка.
Распробовав русские щи, матросы охотно стали питаться из общего котла и
нередко просили добавки.
Помню, приходилось иногда встречаться с русскими эмигрантами, жившими в
Англии. Многие из них открыто выражали свою грусть, тоску по Родине,
интересовались, можно ли вернуться обратно и как это сделать. Встречи с ними
вызывали двоякое чувство: мы понимали, что в Англии им туго приходится, и
жалели их, но в то же время и осуждали за то, что когда-то они отреклись от
Родины.
Наш рабочий день был плотно забит. И все равно время тянулось медленно
и однообразно. Особенно грустно бывало по вечерам. В такие минуты чаще
вспоминались родные, близкие. Возникало желание расслабиться, тянуло
поговорить с друзьями "по душам". Частенько мы с Алексеем Прокопьевичем
Проничкнным заходили "на огонек" к Никольскому. В его просторной каюте за
чаем с английским джемом или ромом просиживали перед сном час-другой,
предаваясь воспоминаниям.
 1 Бочковой -- краснофлотец или старшина (кроме старшины 1-й
статьи и выше), назначенный получать пишу с камбуза, убирать посулу н столы
после еды.
С Олей я познакомился в Ленинграде за год до
выпуска из училища -- в 1938 году. А произошло это...--
Алексей Прокопьевич, мечтательно улыбаясь, расска
зывал, как, получив увольнительную, поехал с одно
курсниками на Кировские острова, где был карнавал по
случаю встречи белых ночей.
И как ты заметил такую маленькую хрупкую де
вушку в огромном парке? -- улыбаясь, спрашивал Ни
кольский. Он хорошо знал жену Проничкина по Вла
дивостоку.
А я со своей Полиной познакомился на танцах
в училище. Она тогда была студенткой-первокурсницей.
Два года встречались, а потом поженились...
Когда Николай Иванович это говорил, его бархатные глаза немного
увлажнились, а голос стал мягче. Я сидел и молча слушал. Мне еще нечего было
рассказывать.
От таких бесед становилось легче на душе. Умиротворенные, мы
отправлялись спать, чтобы ранним утром снова приняться за дела.
По состоянию механизмов наш "Ричмонд" был лучше остальных "шипов". Это
позволило нам раньше других экипажей завершить приемку эсминца от англичан.
В конце июня все командиры боевых частей и начальники служб доложили
командиру корабля о выполнении плана-графика приема по своим подразделениям.
Заключительным этапом многодневной работы экипажа стал контрольный
выход в море. К нему моряки готовились с большой ответственностью. Накануне
выхода состоялись совещание партийного актива и собрание личного состава
корабля. По всему было видно, что каждый член экипажа готов выполнить
поставленную перед ним задачу.
У тром 29 июня на "Ричмонд" прибыл вице-адмирал Левченко. Вскоре
зазвучала команда:
-- По местам стоять, со швартовов сниматься!
Этот хорошо знакомый и в общем-то привычный сигнал тогда прозвучал
по-особенному. А может быть, мне так показалось: мы долго готовились к
выходу в море и с волнением ждали этого момента.
На контрольном выходе предстояло проверить работу всех механизмов и
устройств, а также умение личного состава обслуживать корабельную технику.
Мое место по тревоге и "авралу" -- на ходовом мостике. В бою мне
предстоит управлять огнем зенитной артиллерии, при съемке с якоря и
швартовов -- быть на связи с кормовым мостиком и ютом '.
Ходовой мостик во время боевой тревоги становится главным командным
пунктом корабля. Сюда стекается вся информация с боевых постов и командных
пунктов подразделений. Здесь информация оценивается и возвращается обратно в
виде команд и приказаний командира. От четкости работы расписанных на
мостике людей зависит успех боя.
Занимаю свое место. Здесь уже находятся командир корабля Рябченко,
старпом Проничкин и вахтенный офицер Лисовский. На крыльях мостика стоят
сигнальщики Головин и Иншин. Ниже, в рулевой рубке, ожидает команды командир
отделения рулевых Папушин.
1 Бочковой -- краснофлотец или старшина (кроме старшины 1-й
статьи и выше), назначенный получать пишу с камбуза, убирать посулу н столы
после еды.
С Олей я познакомился в Ленинграде за год до
выпуска из училища -- в 1938 году. А произошло это...--
Алексей Прокопьевич, мечтательно улыбаясь, расска
зывал, как, получив увольнительную, поехал с одно
курсниками на Кировские острова, где был карнавал по
случаю встречи белых ночей.
И как ты заметил такую маленькую хрупкую де
вушку в огромном парке? -- улыбаясь, спрашивал Ни
кольский. Он хорошо знал жену Проничкина по Вла
дивостоку.
А я со своей Полиной познакомился на танцах
в училище. Она тогда была студенткой-первокурсницей.
Два года встречались, а потом поженились...
Когда Николай Иванович это говорил, его бархатные глаза немного
увлажнились, а голос стал мягче. Я сидел и молча слушал. Мне еще нечего было
рассказывать.
От таких бесед становилось легче на душе. Умиротворенные, мы
отправлялись спать, чтобы ранним утром снова приняться за дела.
По состоянию механизмов наш "Ричмонд" был лучше остальных "шипов". Это
позволило нам раньше других экипажей завершить приемку эсминца от англичан.
В конце июня все командиры боевых частей и начальники служб доложили
командиру корабля о выполнении плана-графика приема по своим подразделениям.
Заключительным этапом многодневной работы экипажа стал контрольный
выход в море. К нему моряки готовились с большой ответственностью. Накануне
выхода состоялись совещание партийного актива и собрание личного состава
корабля. По всему было видно, что каждый член экипажа готов выполнить
поставленную перед ним задачу.
У тром 29 июня на "Ричмонд" прибыл вице-адмирал Левченко. Вскоре
зазвучала команда:
-- По местам стоять, со швартовов сниматься!
Этот хорошо знакомый и в общем-то привычный сигнал тогда прозвучал
по-особенному. А может быть, мне так показалось: мы долго готовились к
выходу в море и с волнением ждали этого момента.
На контрольном выходе предстояло проверить работу всех механизмов и
устройств, а также умение личного состава обслуживать корабельную технику.
Мое место по тревоге и "авралу" -- на ходовом мостике. В бою мне
предстоит управлять огнем зенитной артиллерии, при съемке с якоря и
швартовов -- быть на связи с кормовым мостиком и ютом '.
Ходовой мостик во время боевой тревоги становится главным командным
пунктом корабля. Сюда стекается вся информация с боевых постов и командных
пунктов подразделений. Здесь информация оценивается и возвращается обратно в
виде команд и приказаний командира. От четкости работы расписанных на
мостике людей зависит успех боя.
Занимаю свое место. Здесь уже находятся командир корабля Рябченко,
старпом Проничкин и вахтенный офицер Лисовский. На крыльях мостика стоят
сигнальщики Головин и Иншин. Ниже, в рулевой рубке, ожидает команды командир
отделения рулевых Папушин.
 1 Ют -- кормовая часть палубы корабля.
53
Звонит телефон. Снимаю трубку:
Докладывает лейтенант Лариошин. Ютовая
команда выстроена по "авралу"!
Есть! -- отвечаю я и записываю время в блокнот.
Потом на разборе эти записи понадобятся.
На мостик поднимается вице-адмирал Левченко. Гордею Ивановичу уже сорок
восьмой. Сын крестьянина, он прошел долгий и трудный путь от юнги до
адмирала. В свое время был старшим артиллеристом на линкоре, командиром
эсминца, командовал легендарной "Авророй", соединениями кораблей, военной
флотилией и флотом. Теперь он заместитель народного комиссара
Военно-Морского Флота.
Однако вернемся на мостик "Живучего". Здесь тем временем появился
английский офицер. Это командир "Ричмонда" капитан-лейтенант Стакпул.
Поздоровавшись с адмиралом, Стакпул жестом приглашает Рябченко занять
место на командном пункте: дескать, давайте командуйте, а я посмотрю, как
это у вас получится.
Николай Дмитриевич кивает в знак согласия. Он, как обычно, спокоен,
уверен в себе.
В носовой части по обоим бортам выстроились краснофлотцы -- швартовая
команда. Перед строем --• старший боцман Алексей Повторак. Он
посматривает на мостик: ждет приказаний.
-- Машины готовы к даче хода, -- доложили с по
ста энергетики. Доклады о готовности поступили и
с других боевых постов.
-- Разрешите отходить, товарищ адмирал? -- обратился Рябченко к
командующему Отрядом.
-- Добро, -- сухо произнес Левченко. -- Считайте,
что меня здесь нет, действуйте самостоятельно.
-- Есть! -- прозвучало в ответ. -- Отдать носовой!
Старпом тут же отрепетовал это приказание на бак.
Стройные шеренги распались. Краснофлотцы в брезентовых рукавицах начали
выбирать носовой швартовый трос и аккуратно, виток за витком, укладывать его
на вьюшку. Вот уже отданы и оба кормовых. Рябченко скомандовал на телеграф:
"Левой -- самый малый вперед, правой -- самый малый назад!" -- и посмотрел
за корму. Там бурлила вода -- гребные винты работали "враздрай". Нос корабля
стал медленно отваливать от стенки.
Когда вышли на середину реки Тайн, дали средний ход.
Как в машинах? -- запросил командир пост
энергетики.
Все в норме, -- доложил Никольский. Рядом с
ним в машинном отделении находился и английский
чиф-инженер Лидикольт. Перед выходом в море англи
чанин предлагал командиру пятой боевой части поста
вить к механизмам своих специалистов. Но Николь
ский заявил, что советские моряки будут самостоятель
но обслуживать энергетические установки, согласив
шись, чтобы для подстраховки на всякий случай в ма
шинных и котельных помещениях присутствовало толь
ко по одному английскому моряку. При этом он поста
вил условие: англичане не должны вмешиваться в дей
ствия нашего личного состава, в случае необходимости
они могут давать лишь рекомендации.
В устье Тайна объявили боевую тревогу. Предстоял отстрел реактивной
установки "Хеджехог" и "эрлико-нов".
Вахтенный офицер! Радиометристам и сигналь
щикам усилить наблюдение на острых курсовых уг
лах, -- приказал Рябченко и перевел машинный теле
граф на -<Полный вперед". Корабль вздрогнул и чуть
осел на корму.
Товарищ командир! В носовом секторе целей нет.
Можно начинать стрельбы, -- доложил Лисовский.
Добро. Передайте Лариошину: правый борт 15,
дистанция 3 кабельтова, залп!
Как только приказание было отрепетовано, в носовой части послышались
звонкие хлопки и шипение. Хвостатые реактивные мины, как рой больших черных
мух, взметнулись над баком. Через несколько секунд я увидел в бинокль справа
по носу эллипс, образованный всплесками упавших в воду мин.
Хорошее накрытие площади -- окажись в этом
эллипсе вражеская лодка, и песенка ее была бы спе
та, -- довольно проговорил Рябченко.
Все 24 мины сошли с направляющих! -- посту
пил доклад с бака. Предстояла проверка и "эрлико-
нов". Я посмотрел на ростры: стволы автоматов направ
лены в зенит, расчеты готовы, ждут команд.
Каждой установке выпустить полный магазин.
Командуйте! -- приказал мне Рябченко.
Та-та-та! -- разнеслось по кораблю. Огненные трассы прочертили небо. И
снова тишина. Зазвонил телефон:
-- Все четыре "эрликона" задачу выполнили. Заеда
ний не было! -- прозвучал в трубке голос старшины
2-й статьи Сегиня.
Весь день эсминец "утюжил" полигон, меняя ход, режим работы главных
машин. Экипаж действовал четко и уверенно. Помнится, обнаружилось, что стал
греться подшипник циркуляционного насоса. Командир второй машины старшина
2-й статьи Виктор Рыбченко быстро принял нужное решение: остановил насос,
заменил подшипник, и насос вновь оказался в строю. Нужды во вмешательстве
английских специалистов не возникло ни разу.
А однажды даже произошел курьез.
В третьем котле лопнуло водомерное стекло, помещение стало быстро
заполняться паром. Английский "опекун" вместо того, чтобы предложить помощь,
в испуге метнулся по трапу к люку, ведущему на верхнюю палубу. Стоявший на
вахте у котла старший краснофлотец Дмитрий Хвостиков не растерялся,
отсоединил водомерную колонку от парового коллектора. Поступление пара в
котельное прекратилось.
В этом контрольном выходе была проверена исправность всех механизмов,
систем и части огневых средств. Пушки же и кормовые бомбометы в реке
испытывать было нельзя.
Командующий Отрядом остался доволен действиями экипажа. Но опытный глаз
моряка заметил и неполадки в организации службы, в работе некоторых
устройств. Ряд недочетов обнаружили старшины и офицеры.
Покидая корабль, вице-адмирал Левченко сказал:
-- Даю вам, Рябченко, две недели на устранение
всех недостатков.
Тренировки, частные учения и тревоги заполняли теперь все дни целиком,
и время пошло быстрее. Все же мысли о заветном дне, когда на гафеле будет
под-пят родной бело-голубой краснозвездный флаг, нас не покидали. Наконец,
он наступил, этот день.
Накануне его в журнале эсминца "Живучий" появилась запись: "16 июля
1944 года в порядке подготовки к подъему флага проведены беседы с
агитаторами, партийным активом и личным составом о Военно-мор-
ском флаге Советского Союза". Тот воскресный день запомнился хорошо.
Подъем флага проводился сразу на шести эсминцах. "Живучий" стоял третьим в
"Альберт-доке". Справа по борту -- "Жгучий", слева -- "Дерзкий" и
"Достойный". Два других эсминца -- "Жаркий" и "Деятельный" -- у нас по
корме. На "Жестком" и "Доблестном" еще продолжался ремонт, подъем флага на
них планировался на 1 августа.
На правом шкафуте1, баке и юте выстроились советские
экипажи. На левом шкафуте -- английские моряки в "гофрированных"2
брюках.
На торжественную церемонию -- подъем советского Военно-морского флага
-- прибыли посол Советского Союза в Англии Гусев, глава военной миссии
вице-адмирал3 Харламов, вице-адмирал Левченко, английский
контр-адмирал Максвелл, мэр Ньюкасла, члены и сотрудники военной миссии,
английские офицеры.
Первым выступил командующий военно-морским округом Максвелл. Он сказал:
"По поручению Британского адмиралтейства с большим удовлетворением передаю
корабли доблестному и смелому русскому флоту. Мы желаем удачи всем, кто
будет плавать на них". В ответном слове посол Гусев отметил, что эсминцы
помогут нашей стране и ее союзникам быстрее разгромить фашизм.
Ровно в 12 дня под звуки британского гимна был спущен королевский флаг,
а еще через минуту оркестр исполнил гимн Советского Союза. Едва умолкли
звуки гимна, по радиотрансляции раздался голос начальника штаба отдельного
дивизиона эсминцев капитана 3-го ранга Гордеева:
-- Военно-морской флаг Союза ССР и гюйс поднять!
На "Живучем" Военно-морской флаг поднимал старпом Проничкин, гюйс --
командир артиллерийской боевой части Лисовский.
Радостью сияли лица наших моряков, когда на гафеле все выше и выше
поднимался Военно-морской
1 Ют -- кормовая часть палубы корабля.
53
Звонит телефон. Снимаю трубку:
Докладывает лейтенант Лариошин. Ютовая
команда выстроена по "авралу"!
Есть! -- отвечаю я и записываю время в блокнот.
Потом на разборе эти записи понадобятся.
На мостик поднимается вице-адмирал Левченко. Гордею Ивановичу уже сорок
восьмой. Сын крестьянина, он прошел долгий и трудный путь от юнги до
адмирала. В свое время был старшим артиллеристом на линкоре, командиром
эсминца, командовал легендарной "Авророй", соединениями кораблей, военной
флотилией и флотом. Теперь он заместитель народного комиссара
Военно-Морского Флота.
Однако вернемся на мостик "Живучего". Здесь тем временем появился
английский офицер. Это командир "Ричмонда" капитан-лейтенант Стакпул.
Поздоровавшись с адмиралом, Стакпул жестом приглашает Рябченко занять
место на командном пункте: дескать, давайте командуйте, а я посмотрю, как
это у вас получится.
Николай Дмитриевич кивает в знак согласия. Он, как обычно, спокоен,
уверен в себе.
В носовой части по обоим бортам выстроились краснофлотцы -- швартовая
команда. Перед строем --• старший боцман Алексей Повторак. Он
посматривает на мостик: ждет приказаний.
-- Машины готовы к даче хода, -- доложили с по
ста энергетики. Доклады о готовности поступили и
с других боевых постов.
-- Разрешите отходить, товарищ адмирал? -- обратился Рябченко к
командующему Отрядом.
-- Добро, -- сухо произнес Левченко. -- Считайте,
что меня здесь нет, действуйте самостоятельно.
-- Есть! -- прозвучало в ответ. -- Отдать носовой!
Старпом тут же отрепетовал это приказание на бак.
Стройные шеренги распались. Краснофлотцы в брезентовых рукавицах начали
выбирать носовой швартовый трос и аккуратно, виток за витком, укладывать его
на вьюшку. Вот уже отданы и оба кормовых. Рябченко скомандовал на телеграф:
"Левой -- самый малый вперед, правой -- самый малый назад!" -- и посмотрел
за корму. Там бурлила вода -- гребные винты работали "враздрай". Нос корабля
стал медленно отваливать от стенки.
Когда вышли на середину реки Тайн, дали средний ход.
Как в машинах? -- запросил командир пост
энергетики.
Все в норме, -- доложил Никольский. Рядом с
ним в машинном отделении находился и английский
чиф-инженер Лидикольт. Перед выходом в море англи
чанин предлагал командиру пятой боевой части поста
вить к механизмам своих специалистов. Но Николь
ский заявил, что советские моряки будут самостоятель
но обслуживать энергетические установки, согласив
шись, чтобы для подстраховки на всякий случай в ма
шинных и котельных помещениях присутствовало толь
ко по одному английскому моряку. При этом он поста
вил условие: англичане не должны вмешиваться в дей
ствия нашего личного состава, в случае необходимости
они могут давать лишь рекомендации.
В устье Тайна объявили боевую тревогу. Предстоял отстрел реактивной
установки "Хеджехог" и "эрлико-нов".
Вахтенный офицер! Радиометристам и сигналь
щикам усилить наблюдение на острых курсовых уг
лах, -- приказал Рябченко и перевел машинный теле
граф на -<Полный вперед". Корабль вздрогнул и чуть
осел на корму.
Товарищ командир! В носовом секторе целей нет.
Можно начинать стрельбы, -- доложил Лисовский.
Добро. Передайте Лариошину: правый борт 15,
дистанция 3 кабельтова, залп!
Как только приказание было отрепетовано, в носовой части послышались
звонкие хлопки и шипение. Хвостатые реактивные мины, как рой больших черных
мух, взметнулись над баком. Через несколько секунд я увидел в бинокль справа
по носу эллипс, образованный всплесками упавших в воду мин.
Хорошее накрытие площади -- окажись в этом
эллипсе вражеская лодка, и песенка ее была бы спе
та, -- довольно проговорил Рябченко.
Все 24 мины сошли с направляющих! -- посту
пил доклад с бака. Предстояла проверка и "эрлико-
нов". Я посмотрел на ростры: стволы автоматов направ
лены в зенит, расчеты готовы, ждут команд.
Каждой установке выпустить полный магазин.
Командуйте! -- приказал мне Рябченко.
Та-та-та! -- разнеслось по кораблю. Огненные трассы прочертили небо. И
снова тишина. Зазвонил телефон:
-- Все четыре "эрликона" задачу выполнили. Заеда
ний не было! -- прозвучал в трубке голос старшины
2-й статьи Сегиня.
Весь день эсминец "утюжил" полигон, меняя ход, режим работы главных
машин. Экипаж действовал четко и уверенно. Помнится, обнаружилось, что стал
греться подшипник циркуляционного насоса. Командир второй машины старшина
2-й статьи Виктор Рыбченко быстро принял нужное решение: остановил насос,
заменил подшипник, и насос вновь оказался в строю. Нужды во вмешательстве
английских специалистов не возникло ни разу.
А однажды даже произошел курьез.
В третьем котле лопнуло водомерное стекло, помещение стало быстро
заполняться паром. Английский "опекун" вместо того, чтобы предложить помощь,
в испуге метнулся по трапу к люку, ведущему на верхнюю палубу. Стоявший на
вахте у котла старший краснофлотец Дмитрий Хвостиков не растерялся,
отсоединил водомерную колонку от парового коллектора. Поступление пара в
котельное прекратилось.
В этом контрольном выходе была проверена исправность всех механизмов,
систем и части огневых средств. Пушки же и кормовые бомбометы в реке
испытывать было нельзя.
Командующий Отрядом остался доволен действиями экипажа. Но опытный глаз
моряка заметил и неполадки в организации службы, в работе некоторых
устройств. Ряд недочетов обнаружили старшины и офицеры.
Покидая корабль, вице-адмирал Левченко сказал:
-- Даю вам, Рябченко, две недели на устранение
всех недостатков.
Тренировки, частные учения и тревоги заполняли теперь все дни целиком,
и время пошло быстрее. Все же мысли о заветном дне, когда на гафеле будет
под-пят родной бело-голубой краснозвездный флаг, нас не покидали. Наконец,
он наступил, этот день.
Накануне его в журнале эсминца "Живучий" появилась запись: "16 июля
1944 года в порядке подготовки к подъему флага проведены беседы с
агитаторами, партийным активом и личным составом о Военно-мор-
ском флаге Советского Союза". Тот воскресный день запомнился хорошо.
Подъем флага проводился сразу на шести эсминцах. "Живучий" стоял третьим в
"Альберт-доке". Справа по борту -- "Жгучий", слева -- "Дерзкий" и
"Достойный". Два других эсминца -- "Жаркий" и "Деятельный" -- у нас по
корме. На "Жестком" и "Доблестном" еще продолжался ремонт, подъем флага на
них планировался на 1 августа.
На правом шкафуте1, баке и юте выстроились советские
экипажи. На левом шкафуте -- английские моряки в "гофрированных"2
брюках.
На торжественную церемонию -- подъем советского Военно-морского флага
-- прибыли посол Советского Союза в Англии Гусев, глава военной миссии
вице-адмирал3 Харламов, вице-адмирал Левченко, английский
контр-адмирал Максвелл, мэр Ньюкасла, члены и сотрудники военной миссии,
английские офицеры.
Первым выступил командующий военно-морским округом Максвелл. Он сказал:
"По поручению Британского адмиралтейства с большим удовлетворением передаю
корабли доблестному и смелому русскому флоту. Мы желаем удачи всем, кто
будет плавать на них". В ответном слове посол Гусев отметил, что эсминцы
помогут нашей стране и ее союзникам быстрее разгромить фашизм.
Ровно в 12 дня под звуки британского гимна был спущен королевский флаг,
а еще через минуту оркестр исполнил гимн Советского Союза. Едва умолкли
звуки гимна, по радиотрансляции раздался голос начальника штаба отдельного
дивизиона эсминцев капитана 3-го ранга Гордеева:
-- Военно-морской флаг Союза ССР и гюйс поднять!
На "Живучем" Военно-морской флаг поднимал старпом Проничкин, гюйс --
командир артиллерийской боевой части Лисовский.
Радостью сияли лица наших моряков, когда на гафеле все выше и выше
поднимался Военно-морской
 1 Шкафут -- часть верхней палубы корабля от фок-мачты или
боевой рубки до грот-мачты или кормовой рубки включительно
2 Английские матросы брюки гладят не вдоль длины, а поперек,
в результате образуются "гофры".
3 Н. М. Харламову это звание было присвоено незадолго перед
описываемым событием
1 Шкафут -- часть верхней палубы корабля от фок-мачты или
боевой рубки до грот-мачты или кормовой рубки включительно
2 Английские матросы брюки гладят не вдоль длины, а поперек,
в результате образуются "гофры".
3 Н. М. Харламову это звание было присвоено незадолго перед
описываемым событием
 флаг нашей Родины. После церемонии подъема флага состоялся праздничный
обед. Советские моряки с истинно русским радушием, теперь уже как
полновластные хозяева корабля, принимали английских гостей. Недостатка в
тостах не было. Один из них мне особенно запомнился. Его произнес англичанин
Лндикольт:
-- В колоколе "Ричмонда" я крестил младшую дочь. Это по английскому
преданию приносит счастье. Поднимаю тост за непотопляемость эсминца "Лаивли"
'.
Тост чиф-инженера всем понравился. Потом были тосты за разгром
германского фашизма, за послевоенную дружбу.
Мэр Ньюкасла (фамилию его я теперь не помню) после нескольких тостов
пришел в довольно "веселое" состояние. Кто-то из его соотечественников
пытался уговорить его больше не пить, на что мэр. улыбаясь добродушно,
ответил: "Мне нечего терять, кроме этой це-
1 Лапвли (англ.) -- живой. Англичане не могли выговорить
"Живучий", поэтому эсминец называли в английском переволе.
пи", -- и коснулся правой рукой массивной золотой цепи, висевшей у него
на шее как символ власти.
Когда обед закончился, все высыпали на причал. Духовой оркестр уже
наигрывал популярную в Англии мелодию "На Пикадилли". Кое-кто не выдержал и
начал приплясывать. Очень хорошо запомнился мне такой эпизод. К группе
советских моряков подошел улыбающийся Николаи Михайлович Харламов, одетый в
парадную форму. Словно по команде, несколько краснофлотцев подхватили
вице-адмирала на руки и от избытка чувств начали подбрасывать вверх. Это
получилось как-то стихийно, неожиданно для всех.
Потом, опустив на землю улыбающегося Харламова, краснофлотцы окружили
капитана 1-го ранга Фокина с теми же намерениями. Но Виталий Алексеевич
разгадал их замысел и успел увернуться. Англичане все это видели и были
шокированы "дерзостью" русских матросов. В английском флоте матрос не имеет
права даже войти в коридор помещения, где живут офицеры, не говоря уже о
каюте, а чтобы "качать" старшего по званию, -- этого они не могли понять.
С интересом встретили англичане и выступление краснофлотской
самодеятельности эсминца "Дерзкий".
-- Вы привезли с собой не только инженеров, но и артистов! --
восклицали они.
После торжеств начались будни. Нам дали один месяц на отработку
курсовых и огневых задач. Боевую подготовку предстояло проводить в
незнакомых условиях -- западнее Оркнейских островов (вблизи английской
военно-морской базы Скапа-Флоу). За этот месяц мы должны были отточить
боевое мастерство каждого моряка, добиться безукоризненной слаженности
экипажа в целом. Впереди были многочисленные стрельбы на полигонах, дневные
учения и ночные "авралы" на рейде. Впереди была большая работа.
Перед выходом корабля в Скапа-Флоу части экипажа разрешили увольнение
на берег.
В те дни английские газеты много писали о боевых действиях
англо-американцев во Франции. Помещались и сводки с советско-германского
фронта. Помнится, одна из английских газет поместила карту Европы, на
которой были нарисованы стрелки -- от линии западного фронта до Берлина с
цифрой 670, и восточного
фронта, проходившего где-то в Польше, с цифрой 650. Цифры эти, было
ясно, обозначали расстояние до фашистской столицы. Карту сопровождала жирная
надпись: "Маршал Жуков сказал, что он первый будет в Берлине".
Да, мы, русские, очень хотели этого!
На берег я сошел вместе с лейтенантом Лысым. Побродив немного по
Норт-Шилдсу, мы свернули к мосту через реку Тайн, вдоль южного берега
которой раскинулся Саут-Шилдс. У входа на мост стоял служащий частной
компании. С каждого пешехода он взымал три пенса за проход в одну сторону.
Владельцы автомобилей платили еще больше. Мы еще (в который уж!) раз
подивились порядкам в этой стране. Увидев впереди небольшой парк, обнесенный
декоративной изгородью, решили заглянуть туда. Но у входа висела надпись:
"Частная собственность". Без разрешения владельца войти туда никто не имел
права. Пришлось сделать "от ворот поворот".
Вскоре мы с Филимоном набрели на муниципальный парк. Сев на скамейку,
один конец которой уже был занят какой-то девушкой, решили осмотреться. По
аллеям прогуливались люди разных возрастов. Большинство скромно и просто
одеты. В пруду с небольшим островком посередине то и дело сновали лодки.
Наша соседка держала в руках раскрытую книгу. Хотелось поговорить с
ней, узнать, кто она, что читает, чем занимается. Но оба мы знали всего
несколько десятков английских слов и фраз. Этого было явно недостаточно для
беседы.
-- Давай попробуем, -- предложил все же Лысый
и придвинулся к англичанке. Девушка поняла наши на
мерения и приветливо улыбнулась.
Разговора вначале не получалось, приходилось прибегать к жестам и
рисункам на бумаге. Дальше пошло легче. Когда речь зашла о литературе,
оказалось, что собеседница ничего не знает о Пушкине и Толстом. Ну это
ладно. Но из дальнейшей "беседы" выяснилось, что и о своем знаменитом
соотечественнике писателе Джоне Пристли она знает лишь понаслышке, книг его
не читала. Это нас удивило.
На следующий день мы покидали берега Тайна. Утром раздался сигнал:
-- Корабль к бою и походу изготовить!
К этому времени на левом берегу Тайна собрались провожающие --
сотрудники советского посольства с семьями, английские моряки, местные
жители.
Первым от причала отошел эсминец "Дерзкий" под брейд-вымпелом '
командира дивизиона. За ним в кильватере -- остальные пять кораблей. На
гафеле каждого гордо развевался советский Военно-морской флаг. С берега
доносились звуки марша, исполняемого духовым оркестром, прощальные возгласы
на русском и английском языках.
Все свободные от вахт моряки "высыпали" наверх. Отовсюду с мостиков,
надстроек, верхних палуб кораблей в адрес провожающих летели слова
дружеского привета, лес рук колыхался в прощальном взмахе. На душе у каждого
было радостно. Каждый испытывал гордость за свою страну: ведь почести,
оказанные нам, ее представителям, это тепло и внимание были данью уважения
английского народа к Советской России.
В устье Тайна на кораблях объявили боевую тревогу -- в Северном море
рыскали гитлеровские подводные лодки. Построившись в строй
кильватера2, эсминцы взяли курс на север. Это был первый
совместный выход в составе дивизиона кораблей под командованием капитана
1-го ранга И. Е. Абрамова. Все моряки от рядового краснофлотца до командира
дивизиона готовились к переходу, как к самому серьезному экзамену.
У механизмов и орудийных систем вахту несли наши моряки (на этот раз
без английских консультантов). Правда, на время перехода на каждом эсминце
оставались английский инженер-механик и два-три специалиста, поддерживавшие
связь с береговыми базами по всем вопросам обеспечения похода.
Лейтенанта Василия Лариошина мучил вопрос: как будет работать "Асдик"?
Ведь от исправности и надежности гидроакустической станции во многом зависит
боеспособность корабля. Еще больше волновались акустики старшина 2-й статьи
Рыжиков, старший краснофлотец Бондаренко и краснофлотец Фролкин.
флаг нашей Родины. После церемонии подъема флага состоялся праздничный
обед. Советские моряки с истинно русским радушием, теперь уже как
полновластные хозяева корабля, принимали английских гостей. Недостатка в
тостах не было. Один из них мне особенно запомнился. Его произнес англичанин
Лндикольт:
-- В колоколе "Ричмонда" я крестил младшую дочь. Это по английскому
преданию приносит счастье. Поднимаю тост за непотопляемость эсминца "Лаивли"
'.
Тост чиф-инженера всем понравился. Потом были тосты за разгром
германского фашизма, за послевоенную дружбу.
Мэр Ньюкасла (фамилию его я теперь не помню) после нескольких тостов
пришел в довольно "веселое" состояние. Кто-то из его соотечественников
пытался уговорить его больше не пить, на что мэр. улыбаясь добродушно,
ответил: "Мне нечего терять, кроме этой це-
1 Лапвли (англ.) -- живой. Англичане не могли выговорить
"Живучий", поэтому эсминец называли в английском переволе.
пи", -- и коснулся правой рукой массивной золотой цепи, висевшей у него
на шее как символ власти.
Когда обед закончился, все высыпали на причал. Духовой оркестр уже
наигрывал популярную в Англии мелодию "На Пикадилли". Кое-кто не выдержал и
начал приплясывать. Очень хорошо запомнился мне такой эпизод. К группе
советских моряков подошел улыбающийся Николаи Михайлович Харламов, одетый в
парадную форму. Словно по команде, несколько краснофлотцев подхватили
вице-адмирала на руки и от избытка чувств начали подбрасывать вверх. Это
получилось как-то стихийно, неожиданно для всех.
Потом, опустив на землю улыбающегося Харламова, краснофлотцы окружили
капитана 1-го ранга Фокина с теми же намерениями. Но Виталий Алексеевич
разгадал их замысел и успел увернуться. Англичане все это видели и были
шокированы "дерзостью" русских матросов. В английском флоте матрос не имеет
права даже войти в коридор помещения, где живут офицеры, не говоря уже о
каюте, а чтобы "качать" старшего по званию, -- этого они не могли понять.
С интересом встретили англичане и выступление краснофлотской
самодеятельности эсминца "Дерзкий".
-- Вы привезли с собой не только инженеров, но и артистов! --
восклицали они.
После торжеств начались будни. Нам дали один месяц на отработку
курсовых и огневых задач. Боевую подготовку предстояло проводить в
незнакомых условиях -- западнее Оркнейских островов (вблизи английской
военно-морской базы Скапа-Флоу). За этот месяц мы должны были отточить
боевое мастерство каждого моряка, добиться безукоризненной слаженности
экипажа в целом. Впереди были многочисленные стрельбы на полигонах, дневные
учения и ночные "авралы" на рейде. Впереди была большая работа.
Перед выходом корабля в Скапа-Флоу части экипажа разрешили увольнение
на берег.
В те дни английские газеты много писали о боевых действиях
англо-американцев во Франции. Помещались и сводки с советско-германского
фронта. Помнится, одна из английских газет поместила карту Европы, на
которой были нарисованы стрелки -- от линии западного фронта до Берлина с
цифрой 670, и восточного
фронта, проходившего где-то в Польше, с цифрой 650. Цифры эти, было
ясно, обозначали расстояние до фашистской столицы. Карту сопровождала жирная
надпись: "Маршал Жуков сказал, что он первый будет в Берлине".
Да, мы, русские, очень хотели этого!
На берег я сошел вместе с лейтенантом Лысым. Побродив немного по
Норт-Шилдсу, мы свернули к мосту через реку Тайн, вдоль южного берега
которой раскинулся Саут-Шилдс. У входа на мост стоял служащий частной
компании. С каждого пешехода он взымал три пенса за проход в одну сторону.
Владельцы автомобилей платили еще больше. Мы еще (в который уж!) раз
подивились порядкам в этой стране. Увидев впереди небольшой парк, обнесенный
декоративной изгородью, решили заглянуть туда. Но у входа висела надпись:
"Частная собственность". Без разрешения владельца войти туда никто не имел
права. Пришлось сделать "от ворот поворот".
Вскоре мы с Филимоном набрели на муниципальный парк. Сев на скамейку,
один конец которой уже был занят какой-то девушкой, решили осмотреться. По
аллеям прогуливались люди разных возрастов. Большинство скромно и просто
одеты. В пруду с небольшим островком посередине то и дело сновали лодки.
Наша соседка держала в руках раскрытую книгу. Хотелось поговорить с
ней, узнать, кто она, что читает, чем занимается. Но оба мы знали всего
несколько десятков английских слов и фраз. Этого было явно недостаточно для
беседы.
-- Давай попробуем, -- предложил все же Лысый
и придвинулся к англичанке. Девушка поняла наши на
мерения и приветливо улыбнулась.
Разговора вначале не получалось, приходилось прибегать к жестам и
рисункам на бумаге. Дальше пошло легче. Когда речь зашла о литературе,
оказалось, что собеседница ничего не знает о Пушкине и Толстом. Ну это
ладно. Но из дальнейшей "беседы" выяснилось, что и о своем знаменитом
соотечественнике писателе Джоне Пристли она знает лишь понаслышке, книг его
не читала. Это нас удивило.
На следующий день мы покидали берега Тайна. Утром раздался сигнал:
-- Корабль к бою и походу изготовить!
К этому времени на левом берегу Тайна собрались провожающие --
сотрудники советского посольства с семьями, английские моряки, местные
жители.
Первым от причала отошел эсминец "Дерзкий" под брейд-вымпелом '
командира дивизиона. За ним в кильватере -- остальные пять кораблей. На
гафеле каждого гордо развевался советский Военно-морской флаг. С берега
доносились звуки марша, исполняемого духовым оркестром, прощальные возгласы
на русском и английском языках.
Все свободные от вахт моряки "высыпали" наверх. Отовсюду с мостиков,
надстроек, верхних палуб кораблей в адрес провожающих летели слова
дружеского привета, лес рук колыхался в прощальном взмахе. На душе у каждого
было радостно. Каждый испытывал гордость за свою страну: ведь почести,
оказанные нам, ее представителям, это тепло и внимание были данью уважения
английского народа к Советской России.
В устье Тайна на кораблях объявили боевую тревогу -- в Северном море
рыскали гитлеровские подводные лодки. Построившись в строй
кильватера2, эсминцы взяли курс на север. Это был первый
совместный выход в составе дивизиона кораблей под командованием капитана
1-го ранга И. Е. Абрамова. Все моряки от рядового краснофлотца до командира
дивизиона готовились к переходу, как к самому серьезному экзамену.
У механизмов и орудийных систем вахту несли наши моряки (на этот раз
без английских консультантов). Правда, на время перехода на каждом эсминце
оставались английский инженер-механик и два-три специалиста, поддерживавшие
связь с береговыми базами по всем вопросам обеспечения похода.
Лейтенанта Василия Лариошина мучил вопрос: как будет работать "Асдик"?
Ведь от исправности и надежности гидроакустической станции во многом зависит
боеспособность корабля. Еще больше волновались акустики старшина 2-й статьи
Рыжиков, старший краснофлотец Бондаренко и краснофлотец Фролкин.
 1 Брейд-вымпел -- широкий короткий вымпел установленного
образца, присваивается командирам дивизионов кораблей
2 Строй кильватера -- корабли идут один за другим в одной
линии и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Но вот "Асдик" включен. Из динамика, расположенного на левом крыле
мостика, послышались громкие прерывистые "пи-пи-пи...". Лариошин включил
рекордер, регистрирующий работу станции. Перо-самописец начало импульсивные
движения по широкой сетчатой бумажной ленте, нанося прерывистые штрихованные
линии. Специалисту нетрудно по ним определить наличие подводной цели и
параметры ее движения. На всем переходе станцию не выключали -- она работала
нормально.
Переход занял менее суток. Эсминец еще только вошел в пролив
Пентленд-Ферт, являющийся южным входом в Скапа-Флоу, а офицеры, стоявшие на
мостике, уже начали по очереди рассматривать в бинокль эту знаменитую
военно-морскую базу.
Скапа-Флоу -- главная операционная база флота Великобритании. Акватория
ее -- около 120 квадратных миль, защищена от ветров, имеет выходы в
Атлантический океан и Северное море. В период первой мировой войны отсюда
адмирал Джеллико вывел "Большой флот" для боя с германским флотом адмирала
Шеера. В истории этот бой стал известен как Ютландское сражение.
И вот перед нами открылся огромный рейд, образованный безлюдными
скалистыми островами. Корабль направился к месту якорной стоянки. Слева по
курсу, у острова Кава, мы увидели странное зрелище: из воды торчали
надстройки, кили и днища затопленных кораблей. На некоторых из них ютились
домики. Оказалось, что это останки бывшего германского флота Открытого моря,
потопленного в 1919 году самими немцами после интернирования. Часть кораблей
немцам разрешили потом поднять, а оставшиеся "на кладбище" уже 25 лет
напоминали о позорной странице истории кайзеровской Германии.
На рейде Скапа-Флоу стояло много британских кораблей: линкоров,
авианосцев, крейсеров. В этой армаде находился и линейный корабль
"Архангельск", прибывший сюда из Розайта еще в прошлом месяце. На линкоре
размещался штаб Отряда кораблей ВМФ и политотдел.
Как только эсминцы вошли в зрительный контакт с линкором, оттуда
семафором передали приказание стать на якорь.
Итак, первый экзамен мы сдали. Переход показал, что принятые от
англичан корабли освоены и теперь можно приступать к отработке задач боевой
подготовки.
В то время как линкор и эсминцы проходили боевую подготовку в полигонах
к западу от Оркнейских островов, дивизион подводных лодок под командованием
Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Три-польского с 10 июня
отрабатывал боевые задачи в Дан-ди, где находилась база подводных лодок.
Подводники должны были к 15 июля отработать боевую организацию и
проверить практические навыки членов экипажа в управлении механизмами и
вооружением, а к 1 августа -- сдать все артиллерийские и торпедные задачи. С
этими задачами дивизион справился на 10 дней раньше срока и был готов к
переходу из Англии в Кольский залив отдельно от надводных кораблей Отряда.
22 июля к борту эсминца "Живучий" подошел катер командующего Отрядом с
вице-адмиралом Левченко на борту. А вскоре прозвучала команда:
-- По местам стоять, с якоря сниматься!
Вместе с нами в море вышел и эсминец "Достойный". Курс лежал в порт
Данди, который находится к югу от Скапа-Флоу -- на северо-восточном
побережье Шотландии, в нескольких часах перехода. Оттуда отправлялись на
Родину подводные лодки, и вице-адмирал Левченко спешил в базу, чтобы лично
дать необходимые распоряжения командирам подводных лодок на этот трудный
переход.
В Данди мы пробыли два дня. Этот городок расположен на реке Тей. В нем
много зелени, парков. На второй день нашего пребывания в базе, это было
воскресенье, нам разрешили кратковременный сход с корабля.
Мы с Никольским направились в местный парк. Его очень хвалили
подводники. Поблизости транспортных средств не оказалось, и мы пошли пешком.
Стоял теплый летний день, солнце слепило глаза. Выйдя на небольшую площадь,
свернули налево. Людей на улицах было мало. Вскоре показалась большая
лужайка, где прямо на мягкой зеленой траве сидели и лежали люди. Много
детей. Как только мы подошли ближе, мальчишки повскакивали с мест и с
криками "Рашэн!" бросились к нам.
1 Брейд-вымпел -- широкий короткий вымпел установленного
образца, присваивается командирам дивизионов кораблей
2 Строй кильватера -- корабли идут один за другим в одной
линии и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Но вот "Асдик" включен. Из динамика, расположенного на левом крыле
мостика, послышались громкие прерывистые "пи-пи-пи...". Лариошин включил
рекордер, регистрирующий работу станции. Перо-самописец начало импульсивные
движения по широкой сетчатой бумажной ленте, нанося прерывистые штрихованные
линии. Специалисту нетрудно по ним определить наличие подводной цели и
параметры ее движения. На всем переходе станцию не выключали -- она работала
нормально.
Переход занял менее суток. Эсминец еще только вошел в пролив
Пентленд-Ферт, являющийся южным входом в Скапа-Флоу, а офицеры, стоявшие на
мостике, уже начали по очереди рассматривать в бинокль эту знаменитую
военно-морскую базу.
Скапа-Флоу -- главная операционная база флота Великобритании. Акватория
ее -- около 120 квадратных миль, защищена от ветров, имеет выходы в
Атлантический океан и Северное море. В период первой мировой войны отсюда
адмирал Джеллико вывел "Большой флот" для боя с германским флотом адмирала
Шеера. В истории этот бой стал известен как Ютландское сражение.
И вот перед нами открылся огромный рейд, образованный безлюдными
скалистыми островами. Корабль направился к месту якорной стоянки. Слева по
курсу, у острова Кава, мы увидели странное зрелище: из воды торчали
надстройки, кили и днища затопленных кораблей. На некоторых из них ютились
домики. Оказалось, что это останки бывшего германского флота Открытого моря,
потопленного в 1919 году самими немцами после интернирования. Часть кораблей
немцам разрешили потом поднять, а оставшиеся "на кладбище" уже 25 лет
напоминали о позорной странице истории кайзеровской Германии.
На рейде Скапа-Флоу стояло много британских кораблей: линкоров,
авианосцев, крейсеров. В этой армаде находился и линейный корабль
"Архангельск", прибывший сюда из Розайта еще в прошлом месяце. На линкоре
размещался штаб Отряда кораблей ВМФ и политотдел.
Как только эсминцы вошли в зрительный контакт с линкором, оттуда
семафором передали приказание стать на якорь.
Итак, первый экзамен мы сдали. Переход показал, что принятые от
англичан корабли освоены и теперь можно приступать к отработке задач боевой
подготовки.
В то время как линкор и эсминцы проходили боевую подготовку в полигонах
к западу от Оркнейских островов, дивизион подводных лодок под командованием
Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Три-польского с 10 июня
отрабатывал боевые задачи в Дан-ди, где находилась база подводных лодок.
Подводники должны были к 15 июля отработать боевую организацию и
проверить практические навыки членов экипажа в управлении механизмами и
вооружением, а к 1 августа -- сдать все артиллерийские и торпедные задачи. С
этими задачами дивизион справился на 10 дней раньше срока и был готов к
переходу из Англии в Кольский залив отдельно от надводных кораблей Отряда.
22 июля к борту эсминца "Живучий" подошел катер командующего Отрядом с
вице-адмиралом Левченко на борту. А вскоре прозвучала команда:
-- По местам стоять, с якоря сниматься!
Вместе с нами в море вышел и эсминец "Достойный". Курс лежал в порт
Данди, который находится к югу от Скапа-Флоу -- на северо-восточном
побережье Шотландии, в нескольких часах перехода. Оттуда отправлялись на
Родину подводные лодки, и вице-адмирал Левченко спешил в базу, чтобы лично
дать необходимые распоряжения командирам подводных лодок на этот трудный
переход.
В Данди мы пробыли два дня. Этот городок расположен на реке Тей. В нем
много зелени, парков. На второй день нашего пребывания в базе, это было
воскресенье, нам разрешили кратковременный сход с корабля.
Мы с Никольским направились в местный парк. Его очень хвалили
подводники. Поблизости транспортных средств не оказалось, и мы пошли пешком.
Стоял теплый летний день, солнце слепило глаза. Выйдя на небольшую площадь,
свернули налево. Людей на улицах было мало. Вскоре показалась большая
лужайка, где прямо на мягкой зеленой траве сидели и лежали люди. Много
детей. Как только мы подошли ближе, мальчишки повскакивали с мест и с
криками "Рашэн!" бросились к нам.
 Пообщавшись с юными англичанами, мы продолжили поиски парка. Заметив
идущего навстречу пожилого мужчину, решили расспросить дорогу. Он
поинтересовался нашей национальностью. Узнав, что перед ним советские
моряки, англичанин очень обрадовался н стал быстро что-то говорить. Видя,
что его не понимают, показал билет члена коммунистической партии
Великобритании. Потом сказал, что на пятом (Лондонском) съезде РСДРП (б)
видел Владимира Ильича Ленина. По его оживленному виду, по блеску старческих
глаз мы поняли, как дорог этому англичанину образ вождя мирового
пролетариата.
Повернув в указанном стариком направлении, мы вскоре очутились у цели.
Действительно, парк оказался очень красивым, ухоженным. Аллеи были обрамлены
шаровидными декоративными кустами, деревья аккуратно "подстрижены". Много
цветов и зелени. Какой контраст со скудной природой Скапа-Флоу! Два часа
прошли незаметно.
Из Данди наши подводные лодки выходили поодиночке с суточным интервалом
и следовали самостоятельно в Кольский залив. Первой начала переход "В-1"
под командованием Героя Советского Союза капитана 2-го ранга
Фисановича. Нам было разрешено передать на эту подводную лодку письма родным
и близким. Случилось так, что вышедшие позже подводные лодки "В-2", "В-3" и
"В-4" прибыли в Полярное благополучно, а "В-1" бесследно пропала. Лишь через
много лет выяснилось, что лодку Фисановича потопил английский самолет'.
Прежде чем приступить к выполнению задач непосредственно в море,
экипажи эсминцев много тренировались. Усиленно готовились к испытанию
орудийные расчеты, прислуга торпедных аппаратов и бомбометов, а также
гидроакустики и радиометристы.
4 августа в Скапа-Флоу из Норт-Шилдса прибыли остальные два эсминца --
"Жесткий" и "Доблестный". Теперь при выходах в море отрабатывалось
совместное плавание в составе дивизиона.
Готовясь к решению основной задачи -- охранению линейного корабля на
переходе морем, эсминцы отработали организацию противолодочной обороны при
участии английской подводной лодки, выполнили по од-нон стрельбе из орудий
главного калибра и три-четыре зенитных стрельбы по воздушным целям. После
каждого выхода в море производился тщательный разбор действий личного
состава.
Теперь, когда мы стали полноправными хозяевами на кораблях, оживилась
политико-массовая работа. Стали регулярно проводиться политбеседы. Мы сами
настраивали приемники на Москву и регулярно слушали сводки Совинформбюро и
новости. По случаю освобождения наших городов на кораблях проводились
митинги.
После подъема советского Военно-морского флага возобновилось проведение
партийных собраний на кораблях. Особенно запомнилось мне первое,
состоявшееся на нашем эсминце в конце июля. Тот день, как обычно, был занят
тренировками и учебными тревогами, отработкой взаимодействия с подводной
лодкой. После возвращения корабля в базу члены и кандидаты партии собрались
в кают-компании. Обсуждался вопрос об авангардной роли коммунистов в
обеспечении
Пообщавшись с юными англичанами, мы продолжили поиски парка. Заметив
идущего навстречу пожилого мужчину, решили расспросить дорогу. Он
поинтересовался нашей национальностью. Узнав, что перед ним советские
моряки, англичанин очень обрадовался н стал быстро что-то говорить. Видя,
что его не понимают, показал билет члена коммунистической партии
Великобритании. Потом сказал, что на пятом (Лондонском) съезде РСДРП (б)
видел Владимира Ильича Ленина. По его оживленному виду, по блеску старческих
глаз мы поняли, как дорог этому англичанину образ вождя мирового
пролетариата.
Повернув в указанном стариком направлении, мы вскоре очутились у цели.
Действительно, парк оказался очень красивым, ухоженным. Аллеи были обрамлены
шаровидными декоративными кустами, деревья аккуратно "подстрижены". Много
цветов и зелени. Какой контраст со скудной природой Скапа-Флоу! Два часа
прошли незаметно.
Из Данди наши подводные лодки выходили поодиночке с суточным интервалом
и следовали самостоятельно в Кольский залив. Первой начала переход "В-1"
под командованием Героя Советского Союза капитана 2-го ранга
Фисановича. Нам было разрешено передать на эту подводную лодку письма родным
и близким. Случилось так, что вышедшие позже подводные лодки "В-2", "В-3" и
"В-4" прибыли в Полярное благополучно, а "В-1" бесследно пропала. Лишь через
много лет выяснилось, что лодку Фисановича потопил английский самолет'.
Прежде чем приступить к выполнению задач непосредственно в море,
экипажи эсминцев много тренировались. Усиленно готовились к испытанию
орудийные расчеты, прислуга торпедных аппаратов и бомбометов, а также
гидроакустики и радиометристы.
4 августа в Скапа-Флоу из Норт-Шилдса прибыли остальные два эсминца --
"Жесткий" и "Доблестный". Теперь при выходах в море отрабатывалось
совместное плавание в составе дивизиона.
Готовясь к решению основной задачи -- охранению линейного корабля на
переходе морем, эсминцы отработали организацию противолодочной обороны при
участии английской подводной лодки, выполнили по од-нон стрельбе из орудий
главного калибра и три-четыре зенитных стрельбы по воздушным целям. После
каждого выхода в море производился тщательный разбор действий личного
состава.
Теперь, когда мы стали полноправными хозяевами на кораблях, оживилась
политико-массовая работа. Стали регулярно проводиться политбеседы. Мы сами
настраивали приемники на Москву и регулярно слушали сводки Совинформбюро и
новости. По случаю освобождения наших городов на кораблях проводились
митинги.
После подъема советского Военно-морского флага возобновилось проведение
партийных собраний на кораблях. Особенно запомнилось мне первое,
состоявшееся на нашем эсминце в конце июля. Тот день, как обычно, был занят
тренировками и учебными тревогами, отработкой взаимодействия с подводной
лодкой. После возвращения корабля в базу члены и кандидаты партии собрались
в кают-компании. Обсуждался вопрос об авангардной роли коммунистов в
обеспечении
 1 The British Submarines. London, 1954, p. 227; S. V.
Roskill. The Sea 1939--1945. Vol. Ill, London, 1960, p. 280.
3 Г. Г. Поляков 65
боевой подготовки. Тогда же четырех комсомольцев приняли кандидатами в
члены партии, а два кандидата были приняты в члены партии.
Поздравляя принятых, парторг Лысый с удовлетворением заметил, что
следующее собрание придется проводить в кубрике -- на очереди еще пять
заявлений и в кают-компании всем не поместиться.
День Военно-Морского Флота СССР мы в том году праздновали 6 августа.
Девять наших кораблей выстроились на рейде Скапа. На разных удалениях от них
виднелись авианосцы, линкоры и другие британские корабли. Английские моряки
с интересом наблюдали за торжественным подъемом флага на советских эсминцах,
а некоторые побывали у нас в гостях.
Командование Отрядом много внимания уделяло отработке задач в составе
маневренного соединения. Для этого в морс выходили линейный корабль
"Архангельск" и весь дивизион эсминцев. К началу августа линкор успешно
выполнил ряд стрельб главным калибром, провел несколько стрельб по воздушным
целям, отработал аварийные задачи.
О мастерстве и высокой морской культуре командира линкора
контр-адмирала Вадима Ивановича Иванова ходили легенды. Своим искусством
управления кораблем он блеснул еще в 1937 году во время первого посещения
Британских островов балтийским линкором "Марат", которым Иванов тогда
командовал. Это было 17 мая. На Спитхэдском рейде (Плимут) "Марат" стал
фертоинг1 на точно заданное место в течение 53 минут. За
выполнением этого сложного маневра наблюдали моряки многих иностранных
кораблей, прибывших на коронацию Георга VI. Из 200 кораблей, собравшихся там
со всего света, ни один не смог продемонстрировать такой виртуозности.
Газеты писали тогда, что аргентинскому линкору "Морено" потребовалось для
постановки фертоинг 13 часов, другие корабли на это затратили также по
нескольку часов2.
И в этот раз Иванов остался верен себе, несмотря на то, что принял
корабль всего два месяца назад. Английские моряки были восхищены четким
маневром, который проделал "Архангельск", покинув Розайт и
1 The British Submarines. London, 1954, p. 227; S. V.
Roskill. The Sea 1939--1945. Vol. Ill, London, 1960, p. 280.
3 Г. Г. Поляков 65
боевой подготовки. Тогда же четырех комсомольцев приняли кандидатами в
члены партии, а два кандидата были приняты в члены партии.
Поздравляя принятых, парторг Лысый с удовлетворением заметил, что
следующее собрание придется проводить в кубрике -- на очереди еще пять
заявлений и в кают-компании всем не поместиться.
День Военно-Морского Флота СССР мы в том году праздновали 6 августа.
Девять наших кораблей выстроились на рейде Скапа. На разных удалениях от них
виднелись авианосцы, линкоры и другие британские корабли. Английские моряки
с интересом наблюдали за торжественным подъемом флага на советских эсминцах,
а некоторые побывали у нас в гостях.
Командование Отрядом много внимания уделяло отработке задач в составе
маневренного соединения. Для этого в морс выходили линейный корабль
"Архангельск" и весь дивизион эсминцев. К началу августа линкор успешно
выполнил ряд стрельб главным калибром, провел несколько стрельб по воздушным
целям, отработал аварийные задачи.
О мастерстве и высокой морской культуре командира линкора
контр-адмирала Вадима Ивановича Иванова ходили легенды. Своим искусством
управления кораблем он блеснул еще в 1937 году во время первого посещения
Британских островов балтийским линкором "Марат", которым Иванов тогда
командовал. Это было 17 мая. На Спитхэдском рейде (Плимут) "Марат" стал
фертоинг1 на точно заданное место в течение 53 минут. За
выполнением этого сложного маневра наблюдали моряки многих иностранных
кораблей, прибывших на коронацию Георга VI. Из 200 кораблей, собравшихся там
со всего света, ни один не смог продемонстрировать такой виртуозности.
Газеты писали тогда, что аргентинскому линкору "Морено" потребовалось для
постановки фертоинг 13 часов, другие корабли на это затратили также по
нескольку часов2.
И в этот раз Иванов остался верен себе, несмотря на то, что принял
корабль всего два месяца назад. Английские моряки были восхищены четким
маневром, который проделал "Архангельск", покинув Розайт и
 1 Стать фертоннг -- значит стать так на два якоря, чтобы суд
но при любом ветре и течении находилось между двумя якорями.
* *Морской сборник", 1937, No 7, с. 49--50.
66
1 Стать фертоннг -- значит стать так на два якоря, чтобы суд
но при любом ветре и течении находилось между двумя якорями.
* *Морской сборник", 1937, No 7, с. 49--50.
66
 пройдя под мостом в проливе Ферт-оф-Форт. Чтобы не задеть мост своими
высокими мачтами, линкор должен был пройти точно под средним пролетом.
Направить такую махину в эту узость да еще без буксиров решались не многие
англичане, а Вадим Иванович с первого же захода провел корабль под мостом с
ювелирной точностью.
Контр-адмирал Иванов не только умело управлял маневрами, но и в
совершенстве знал устройство механизмов и систем линейного корабля. Этого же
требовал и от своих подчиненных.
Успехи в выполнении задач боевой подготовки становились все более
заметными. Особенно отличились зенитчики.
При очередном выходе дивизиона на зенитную стрельбу на одном из
кораблей находился командующий Отрядом. Эсминцы выполнили задачу успешно --
буксируемый самолетом конус был весь изрешечен. А напоследок зенитчики
"Жесткого" угодили прямо в буксирный конец. Конус с обрывком стального троса
на глазах наших и английских моряков упал в воду.
Восхищенные англичане даже зааплодировали нашим артиллеристам.
Это была последняя учебная стрельба. Очередные залпы "эрликонов" теперь
будут направлены только на врага.
На следующий день меня и Журавлева командир послал на берег за
боезапасом для зенитной батареи. Вместе с нами на катере отправился
Лидикольт (все снабжение шло через английского представителя). В бухте я
заметил одиноко торчащую из воды мачту какого-то крупного корабля.
-- Это линкор "Ройял Оук", потопленный немецкой
подводной лодкой в 1939 году, -- пояснил Лидикольт.
О трагедии, происшедшей в Скапа-Флоу в свое время сообщалось в печати,
но это было так далеко от нас...
-- Ворочайте вправо, подойдем поближе, -- передал
я рулевому.
Через несколько минут катер уже был над палубой и башнями "Королевского
дуба"'. Воображение рисовало печальную картину. А произошло тогда вот что.
Линейный корабль "Ройял Оук", однотипный с "Ройял Соверин" (который
теперь назывался "Архангельск"), стоял на якоре в северо-восточной части
Ска-па Флоу у крутого скалистого берега. 14 октября 1939 года глубокой ночью
экипаж линкора проснулся от грохота и сильных сотрясений корпуса. Это
взорвались торпеды, выпущенные немецкой подводной лодкой "U-47". Корабль
начал крениться и через полчаса затонул. Многие члены экипажа оказались за
бортом, однако выбраться на крутой берег в темноте было почти невозможно.
Той ночью погибло около восьмисот английских моряков. Мир был потрясен этой
трагедией. Как могло произойти такое в первоклассной военно-морской базе,
многим казалось загадкой. В печати на этот счет высказывались различные
версии.
Спустя много лет англичане вынуждены были признать, что немецкая
подводная лодка беспрепятственно проникла в Скапа-Флоу и вышла из нее через
слабоза-щищенный вход из пролива Холм. Шумиха, поднятая тогда вокруг имени
командира лодки Прина, мастерство и героизм которого превозносили до небес,
была раздута не без участия англичан.
пройдя под мостом в проливе Ферт-оф-Форт. Чтобы не задеть мост своими
высокими мачтами, линкор должен был пройти точно под средним пролетом.
Направить такую махину в эту узость да еще без буксиров решались не многие
англичане, а Вадим Иванович с первого же захода провел корабль под мостом с
ювелирной точностью.
Контр-адмирал Иванов не только умело управлял маневрами, но и в
совершенстве знал устройство механизмов и систем линейного корабля. Этого же
требовал и от своих подчиненных.
Успехи в выполнении задач боевой подготовки становились все более
заметными. Особенно отличились зенитчики.
При очередном выходе дивизиона на зенитную стрельбу на одном из
кораблей находился командующий Отрядом. Эсминцы выполнили задачу успешно --
буксируемый самолетом конус был весь изрешечен. А напоследок зенитчики
"Жесткого" угодили прямо в буксирный конец. Конус с обрывком стального троса
на глазах наших и английских моряков упал в воду.
Восхищенные англичане даже зааплодировали нашим артиллеристам.
Это была последняя учебная стрельба. Очередные залпы "эрликонов" теперь
будут направлены только на врага.
На следующий день меня и Журавлева командир послал на берег за
боезапасом для зенитной батареи. Вместе с нами на катере отправился
Лидикольт (все снабжение шло через английского представителя). В бухте я
заметил одиноко торчащую из воды мачту какого-то крупного корабля.
-- Это линкор "Ройял Оук", потопленный немецкой
подводной лодкой в 1939 году, -- пояснил Лидикольт.
О трагедии, происшедшей в Скапа-Флоу в свое время сообщалось в печати,
но это было так далеко от нас...
-- Ворочайте вправо, подойдем поближе, -- передал
я рулевому.
Через несколько минут катер уже был над палубой и башнями "Королевского
дуба"'. Воображение рисовало печальную картину. А произошло тогда вот что.
Линейный корабль "Ройял Оук", однотипный с "Ройял Соверин" (который
теперь назывался "Архангельск"), стоял на якоре в северо-восточной части
Ска-па Флоу у крутого скалистого берега. 14 октября 1939 года глубокой ночью
экипаж линкора проснулся от грохота и сильных сотрясений корпуса. Это
взорвались торпеды, выпущенные немецкой подводной лодкой "U-47". Корабль
начал крениться и через полчаса затонул. Многие члены экипажа оказались за
бортом, однако выбраться на крутой берег в темноте было почти невозможно.
Той ночью погибло около восьмисот английских моряков. Мир был потрясен этой
трагедией. Как могло произойти такое в первоклассной военно-морской базе,
многим казалось загадкой. В печати на этот счет высказывались различные
версии.
Спустя много лет англичане вынуждены были признать, что немецкая
подводная лодка беспрепятственно проникла в Скапа-Флоу и вышла из нее через
слабоза-щищенный вход из пролива Холм. Шумиха, поднятая тогда вокруг имени
командира лодки Прина, мастерство и героизм которого превозносили до небес,
была раздута не без участия англичан.
 1 "Ройял Оук" (англ.) -- "Королевский дуб".
68
А еще позже, осенью 1967 года Ассоциация королевского военно-морского
флота устроила в Портсмуте необычную встречу: за общим столом, как старые
друзья, собрались моряки, спасшиеся с потопленного линкора и члены экипажа
немецкой подводной лодки "U-47". К банкету приступили после возложения венка
у памятника морякам линкора, погибшим от рук нынешних гостей. Участники
встречи обменялись дружескими тостами и поделились воспоминаниями о событиях
в Скапа-Флоу.
Словом, все шло так, будто собрались старые добрые друзья. Немцам дали
понять, что с прежними "недоразумениями" покончено и теперь надо теснее
сотрудничать в НАТО, проводя совместную борьбу против стран
социалистического лагеря'. Иначе как глумлением над памятью погибших моряков
линкора "Ройял Оук" эту акцию не назовешь.
За два дня до выхода Отряда кораблей ВМФ из Скапа-Флоу нас, пятерых
офицеров "Живучего", пригласили на английский крейсер "Тайн", стоявший на
якоре неподалеку от эсминцев. Как только мы ступили на трап, послышался
продолжительный свист боцманских дудок. Так в английском флоте вахта
приветствует офицеров, прибывших на корабль.
Хозяева показали нам крейсер, ознакомили с его вооружением и
механизмами. При осмотре некоторые устройства оказались зачехленными: не все
подлежало показу.
После обеда нас усадили в правом углу кают-компании у электрического
камина -- непременного атрибута меблировки английских кораблей. На низком
столике были расставлены бутылки с легким вином. Красные блики,
отсвечивавшиеся на лицах и бокалах, создавали эффект горящих углей. Камины
были "кусочком" домашнего уюта, здесь отдыхали, сюда заходили погреться
сменившиеся с вахты офицеры.
Наша беседа с англичанами касалась профессиональных и бытовых вопросов.
Разговор шел прямой, откровенный, в доброжелательном тоне. По многим
вопросам у нас оказались расхождения, и это было естественно. Но некоторые
мысли о морской службе и быте были схожи.
1 "Ройял Оук" (англ.) -- "Королевский дуб".
68
А еще позже, осенью 1967 года Ассоциация королевского военно-морского
флота устроила в Портсмуте необычную встречу: за общим столом, как старые
друзья, собрались моряки, спасшиеся с потопленного линкора и члены экипажа
немецкой подводной лодки "U-47". К банкету приступили после возложения венка
у памятника морякам линкора, погибшим от рук нынешних гостей. Участники
встречи обменялись дружескими тостами и поделились воспоминаниями о событиях
в Скапа-Флоу.
Словом, все шло так, будто собрались старые добрые друзья. Немцам дали
понять, что с прежними "недоразумениями" покончено и теперь надо теснее
сотрудничать в НАТО, проводя совместную борьбу против стран
социалистического лагеря'. Иначе как глумлением над памятью погибших моряков
линкора "Ройял Оук" эту акцию не назовешь.
За два дня до выхода Отряда кораблей ВМФ из Скапа-Флоу нас, пятерых
офицеров "Живучего", пригласили на английский крейсер "Тайн", стоявший на
якоре неподалеку от эсминцев. Как только мы ступили на трап, послышался
продолжительный свист боцманских дудок. Так в английском флоте вахта
приветствует офицеров, прибывших на корабль.
Хозяева показали нам крейсер, ознакомили с его вооружением и
механизмами. При осмотре некоторые устройства оказались зачехленными: не все
подлежало показу.
После обеда нас усадили в правом углу кают-компании у электрического
камина -- непременного атрибута меблировки английских кораблей. На низком
столике были расставлены бутылки с легким вином. Красные блики,
отсвечивавшиеся на лицах и бокалах, создавали эффект горящих углей. Камины
были "кусочком" домашнего уюта, здесь отдыхали, сюда заходили погреться
сменившиеся с вахты офицеры.
Наша беседа с англичанами касалась профессиональных и бытовых вопросов.
Разговор шел прямой, откровенный, в доброжелательном тоне. По многим
вопросам у нас оказались расхождения, и это было естественно. Но некоторые
мысли о морской службе и быте были схожи.
 1 Г. Щедрин. Рыцарство или кощунство? "Москва", 1969, No 2.
Наше пребывание в Скапа-Флоу подходило к концу. Мы отсчитывали уже не
сутки, а часы, оставшиеся до выхода. Газеты и письма, доставленные накануне,
переходили из рук в руки. На душе у всех было радостно, а мыслями мы уже
были там, на далекой Родине. Каждому хотелось послать ответную весточку. Но
возможности такой уже не было, и тогда двое наших краснофлотцев придумали
направить через океан символический привет "голубиной почтой". Но за
неимением голубей решили использовать для этого чаек. Нужно сказать, что эти
птицы были приучены брать еду прямо с рук, поэтому поймать их не составляло
особого труда. Что наши матросы и сделали. Они нарисовали нескольким чайкам
суриком красные звезды и отпустили: пусть летят на Родину с нашим приветом.
А чайки никуда не полетели -- расправив крылья, кружились над рейдом
Скапа-Флоу. С английских кораблей моряки хорошо видели краснозвездных птиц.
Офицеры подняли шум -- русские используют чаек для большевистской
пропаганды! Пришлось объясниться с англичанами. Инцидент был улажен.
Перед самым выходом корабли провели еще одну тренировку: необходимо
было отработать маневры по приемке топлива на ходу. С этой целью каждый
эсминец осуществил несколько маневров с танкером на внутреннем рейде
Скапа-Флоу.
Итак подготовка кораблей Отряда ВМФ к переходу в Советский Союз была
закончена.
1 Г. Щедрин. Рыцарство или кощунство? "Москва", 1969, No 2.
Наше пребывание в Скапа-Флоу подходило к концу. Мы отсчитывали уже не
сутки, а часы, оставшиеся до выхода. Газеты и письма, доставленные накануне,
переходили из рук в руки. На душе у всех было радостно, а мыслями мы уже
были там, на далекой Родине. Каждому хотелось послать ответную весточку. Но
возможности такой уже не было, и тогда двое наших краснофлотцев придумали
направить через океан символический привет "голубиной почтой". Но за
неимением голубей решили использовать для этого чаек. Нужно сказать, что эти
птицы были приучены брать еду прямо с рук, поэтому поймать их не составляло
особого труда. Что наши матросы и сделали. Они нарисовали нескольким чайкам
суриком красные звезды и отпустили: пусть летят на Родину с нашим приветом.
А чайки никуда не полетели -- расправив крылья, кружились над рейдом
Скапа-Флоу. С английских кораблей моряки хорошо видели краснозвездных птиц.
Офицеры подняли шум -- русские используют чаек для большевистской
пропаганды! Пришлось объясниться с англичанами. Инцидент был улажен.
Перед самым выходом корабли провели еще одну тренировку: необходимо
было отработать маневры по приемке топлива на ходу. С этой целью каждый
эсминец осуществил несколько маневров с танкером на внутреннем рейде
Скапа-Флоу.
Итак подготовка кораблей Отряда ВМФ к переходу в Советский Союз была
закончена.
СНВОЗЬ ШТОРМ И „ВОЛЧЬИ СТАИ"
Перед выходом эскадры из Скапа-Флоу штаб
командующего Отрядом передал на корабли сводку о силах врага,
противостоящих нам. Сообщалось, что на аэродромах Норвегии находится двести
самолетов, подготовленных для действий на морских коммуникациях, часть из
них ведет непрерывно разведку конвоев; что в фиордах немцы сосредоточили
более 50 подводных лодок, и 20 из них постоянно находятся в море,
подкарауливая жертвы. В Альта-фьорде стоят линейный корабль "Тирпиц" и
десять эсминцев1. ("Тирпиц"2, новейший линкор,
однотипный с "Бисмарком", который в мае 1941 года одним залпом потопил
линейный крейсер "Худ" -- гордость английского королевского флота.)
Соотношение сил было, конечно, неравным. Отразить нападение врага
стареньким кораблям нашего Отряда будет нелегко.
В Москве знали о выходе кораблей из Англии и приняли необходимые меры
боевого обеспечения. Н. Г. Кузнецов, нарком ВМФ, приказал командующему
Северным флотом адмиралу А. Г. Головко нанести ряд
 1 См.: В. А. Фокин. Прием кораблей от английского флота и их
переход в СССР. "Морской сборник", 1945, No 4, с. 41.
2 Линкор "Тирпиц" вступил в строй в 1939 г. Полное водоиз
мещение 50 000 т. Артиллерийское вооружение: 8 орудий калибра
381 мм, 12--150 мм, 16--105 мм, 4--37 мм. Длина 243, ширина 36,
осадка -- 7,9 м. Мощность механизмов 160 000 л. с. Скорость хода
30 узлов. Экипаж 1600 человек. Справочник корабельного состава
военно-морских флотов мира. Военмориздат. М., 1943, с. 231.
мощных ударов авиацией флота по аэродромам и базам немцев. К северным
берегам Нервегии были посланы подводные лодки для атаки вражеских кораблей,
если те станут выходить из фиордов.
Внутри самого отряда задачи распределились так: эсминцы должны охранять
линкор от нападения подводных лодок, "Архангельск" -- защищать эсминцы от
ударов надводных кораблей и самолетов противника.
16 августа были получены указания на переход. Дивизиону эсминцев
предписывалось перейти на Фарерские острова, принять там топливо, а затем
выйти на рандеву1 с линкором. За несколько часов до снятия с
якорей на кораблях состоялись митинги: моряки единодушно выразили готовность
выполнить задачу -- доставить в целости на Родину все боевые корабли. Были
даже письменные обязательства. Одно из них подписало целиком машинное
отделение эсминца "Деятельный" во главе с его командиром коммунистом
старшиной 1-й статьи Н. И. Лебедевым. В заявлении говорилось: "Мы не
пожалеем сил своих, преодолеем все трудности для того, чтобы привести
миноносцы и линкор в состав славного Северного флота"2. На этом
же корабле нашлись добровольцы во время, свободное от вахт, вести наблюдение
за воздухом и водой -- в помощь наблюдателям верхних боевых постов. А
краснофлотцы электромеханической боевой части этого корабля Андриенко,
Колесов, Пастушок, Ивановский, Козлов, Старостин, Стриккуев еще перед
выходом самостоятельно изучили зенитные автоматы и успешно могли заменить
артиллеристов3.
Вечером дивизион, лидируемый английским эсминцем "Кассандра", покинул
Скапа-Флоу. Вначале шли со скоростью 20 узлов кильватерным строем. Но потом
густой туман неожиданно накрыл корабли, ход пришлось сбавить.
Какое-то время шли узким фарватером, проложенным в минном поле. С
начала войны англичане, опасаясь немецкого вторжения на острова, выставили
мощные минные заграждения вдоль своего побережья.
1 См.: В. А. Фокин. Прием кораблей от английского флота и их
переход в СССР. "Морской сборник", 1945, No 4, с. 41.
2 Линкор "Тирпиц" вступил в строй в 1939 г. Полное водоиз
мещение 50 000 т. Артиллерийское вооружение: 8 орудий калибра
381 мм, 12--150 мм, 16--105 мм, 4--37 мм. Длина 243, ширина 36,
осадка -- 7,9 м. Мощность механизмов 160 000 л. с. Скорость хода
30 узлов. Экипаж 1600 человек. Справочник корабельного состава
военно-морских флотов мира. Военмориздат. М., 1943, с. 231.
мощных ударов авиацией флота по аэродромам и базам немцев. К северным
берегам Нервегии были посланы подводные лодки для атаки вражеских кораблей,
если те станут выходить из фиордов.
Внутри самого отряда задачи распределились так: эсминцы должны охранять
линкор от нападения подводных лодок, "Архангельск" -- защищать эсминцы от
ударов надводных кораблей и самолетов противника.
16 августа были получены указания на переход. Дивизиону эсминцев
предписывалось перейти на Фарерские острова, принять там топливо, а затем
выйти на рандеву1 с линкором. За несколько часов до снятия с
якорей на кораблях состоялись митинги: моряки единодушно выразили готовность
выполнить задачу -- доставить в целости на Родину все боевые корабли. Были
даже письменные обязательства. Одно из них подписало целиком машинное
отделение эсминца "Деятельный" во главе с его командиром коммунистом
старшиной 1-й статьи Н. И. Лебедевым. В заявлении говорилось: "Мы не
пожалеем сил своих, преодолеем все трудности для того, чтобы привести
миноносцы и линкор в состав славного Северного флота"2. На этом
же корабле нашлись добровольцы во время, свободное от вахт, вести наблюдение
за воздухом и водой -- в помощь наблюдателям верхних боевых постов. А
краснофлотцы электромеханической боевой части этого корабля Андриенко,
Колесов, Пастушок, Ивановский, Козлов, Старостин, Стриккуев еще перед
выходом самостоятельно изучили зенитные автоматы и успешно могли заменить
артиллеристов3.
Вечером дивизион, лидируемый английским эсминцем "Кассандра", покинул
Скапа-Флоу. Вначале шли со скоростью 20 узлов кильватерным строем. Но потом
густой туман неожиданно накрыл корабли, ход пришлось сбавить.
Какое-то время шли узким фарватером, проложенным в минном поле. С
начала войны англичане, опасаясь немецкого вторжения на острова, выставили
мощные минные заграждения вдоль своего побережья.
 1 Рандеву -- место, назначенное для встречи отдельных кораб
лей или соединений кораблей.
2 ОЦВМА, ф. 254, д. 23129, л. 35.
3 Там же, л. 36.
С минами связан трагический случай, происшедший у западного побережья
Исландии в июле 1942 года. Обратный конвой союзников "QP-13", вышедший из
северных портов Советского Союза, на заключительном участке маршрута попал в
густой туман. Штурманы грубо ошиблись в расчетах, и половина конвоя
оказалась на минном поле. В течение трех минут флагманский корабль и четыре
транспорта взлетели на воздух, еще два судна были серьезно повреждены
взрывами'.
Так что нашим штурманам пришлось "держать ухо востро". Утром следующего
дня корабли благополучно вошли в хорошо защищенную от ветров бухту
Скалл-фьорд на Фарерских островах и стали на якорь. Был яркий солнечный
день. Даже не верилось, что совсем недавно мы шли в "молоке". За прибрежными
скалами виднелись зеленые луга и посевы, а среди них яркие под черепицей
домики какого-то городка. С обрывистого берега за нами наблюдало несколько
любопытных. У каждого в руках велосипед.
В Скалл-фьорде нас уже ожидал танкер с мазутом. Эсминцы по очереди
швартовались к его борту и заполняли свои емкости топливом. Подошла очередь
и "Живучего". Выбрали якорь и малым ходом пошли к танкеру. Ошвартовались с
первого захода, да так мягко, что на танкере и не заметили нашего подхода.
-- Молодец, -- похвалил командир рулевого стар
шину 2-й статьи Папушина.
В то утро неожиданно заболел химик старшина 2-й статьи Дементьев, у
него поднялась температура и появились сильные боли в правом боку. Врач
Владимир Морозенко, осмотрев больного, доложил командиру:
-- Аппендицит, надо срочно делать операцию!
Об этом сообщили командиру дивизиона, который направил к нам
дивизионного врача Ефима Полещука.
В кают-компании быстро развернули операционную. Хирургических
инструментов на "Живучем" было мало, пришлось собирать по кораблям. Еще хуже
обстояло дело со стерильными материалами. Полещук предложил пропитать
простыни хлоркой и оградить ими опе-рационный стол.
Так и сделали.
1 Рандеву -- место, назначенное для встречи отдельных кораб
лей или соединений кораблей.
2 ОЦВМА, ф. 254, д. 23129, л. 35.
3 Там же, л. 36.
С минами связан трагический случай, происшедший у западного побережья
Исландии в июле 1942 года. Обратный конвой союзников "QP-13", вышедший из
северных портов Советского Союза, на заключительном участке маршрута попал в
густой туман. Штурманы грубо ошиблись в расчетах, и половина конвоя
оказалась на минном поле. В течение трех минут флагманский корабль и четыре
транспорта взлетели на воздух, еще два судна были серьезно повреждены
взрывами'.
Так что нашим штурманам пришлось "держать ухо востро". Утром следующего
дня корабли благополучно вошли в хорошо защищенную от ветров бухту
Скалл-фьорд на Фарерских островах и стали на якорь. Был яркий солнечный
день. Даже не верилось, что совсем недавно мы шли в "молоке". За прибрежными
скалами виднелись зеленые луга и посевы, а среди них яркие под черепицей
домики какого-то городка. С обрывистого берега за нами наблюдало несколько
любопытных. У каждого в руках велосипед.
В Скалл-фьорде нас уже ожидал танкер с мазутом. Эсминцы по очереди
швартовались к его борту и заполняли свои емкости топливом. Подошла очередь
и "Живучего". Выбрали якорь и малым ходом пошли к танкеру. Ошвартовались с
первого захода, да так мягко, что на танкере и не заметили нашего подхода.
-- Молодец, -- похвалил командир рулевого стар
шину 2-й статьи Папушина.
В то утро неожиданно заболел химик старшина 2-й статьи Дементьев, у
него поднялась температура и появились сильные боли в правом боку. Врач
Владимир Морозенко, осмотрев больного, доложил командиру:
-- Аппендицит, надо срочно делать операцию!
Об этом сообщили командиру дивизиона, который направил к нам
дивизионного врача Ефима Полещука.
В кают-компании быстро развернули операционную. Хирургических
инструментов на "Живучем" было мало, пришлось собирать по кораблям. Еще хуже
обстояло дело со стерильными материалами. Полещук предложил пропитать
простыни хлоркой и оградить ими опе-рационный стол.
Так и сделали.
 1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". Воениздат, 1971,
с. 300.
Операция прошла успешно, однако старшина был плох, и всю ночь наши
медики не отходили от него.
После приемки топлива экипажу был предоставлен короткий отдых. В
помещениях команды и в кают-компании "Живучего" собрались все свободные от
вахты и дежурства. Во втором кубрике кто-то наигрывал на мандолине, потом
кто-то запел приятным тенором. В кают-компании слушали передачу из Москвы.
Мысли у всех были одни -- утром в поход, домой. Впереди -- почти две тысячи
миль, каждая из которых таит опасность. Враг попытается и на обратном пути
нас атаковать. Но теперь мы уже не пассажиры, гадающие, попадет в наш борт
торпеда или не попадет. На этот раз мы сами будем на переходе искать
вражеские субмарины. Только бы не подвела иностранная техника.
Вечером в носовом кубрике собрались все коммунисты. Надо сказать, что
за время приемки кораблей наша парторганизация выросла на 12 человек, а в
целом по Отряду было принято в члены и кандидаты партии 106 моряков1
На собрании обсуждался вопрос о задачах коммунистов по обеспечению
успешного перехода корабля в Советский Союз.
Командир эсминца коммунист Рябченко, ознакомив нас с маршрутом перехода
и базированием сил противника, сказал:
-- Гитлеровская разведка следила за советскими моряками в Англии и о
выходе Отряда наверняка знает. Немецкие подводные лодки и самолеты
попытаются атаковать нас, но мы должны обнаружить противника первыми и
спутать ему все карты. Успех выполнения задания зависит от каждого члена
экипажа. Переход будет трудным, корабль и техника в сложных условиях еще не
проверены, и надо быть готовыми к любым неожиданностям. Задача коммунистов,
-- продолжал Рябченко, -- личным примером обеспечить высокую бдительность и
боевую готовность всех постов и командных пунктов корабля.
Выступавшие с волнением говорили о том, что долгожданный момент
наступил, и теперь, когда в руках есть оружие и боевая техника, вся мощь
корабля будет обрушена на фашистов, откуда бы они ни появились.
1 См.: Д. Ирвинг. Разгром конвоя "PQ-17". Воениздат, 1971,
с. 300.
Операция прошла успешно, однако старшина был плох, и всю ночь наши
медики не отходили от него.
После приемки топлива экипажу был предоставлен короткий отдых. В
помещениях команды и в кают-компании "Живучего" собрались все свободные от
вахты и дежурства. Во втором кубрике кто-то наигрывал на мандолине, потом
кто-то запел приятным тенором. В кают-компании слушали передачу из Москвы.
Мысли у всех были одни -- утром в поход, домой. Впереди -- почти две тысячи
миль, каждая из которых таит опасность. Враг попытается и на обратном пути
нас атаковать. Но теперь мы уже не пассажиры, гадающие, попадет в наш борт
торпеда или не попадет. На этот раз мы сами будем на переходе искать
вражеские субмарины. Только бы не подвела иностранная техника.
Вечером в носовом кубрике собрались все коммунисты. Надо сказать, что
за время приемки кораблей наша парторганизация выросла на 12 человек, а в
целом по Отряду было принято в члены и кандидаты партии 106 моряков1
На собрании обсуждался вопрос о задачах коммунистов по обеспечению
успешного перехода корабля в Советский Союз.
Командир эсминца коммунист Рябченко, ознакомив нас с маршрутом перехода
и базированием сил противника, сказал:
-- Гитлеровская разведка следила за советскими моряками в Англии и о
выходе Отряда наверняка знает. Немецкие подводные лодки и самолеты
попытаются атаковать нас, но мы должны обнаружить противника первыми и
спутать ему все карты. Успех выполнения задания зависит от каждого члена
экипажа. Переход будет трудным, корабль и техника в сложных условиях еще не
проверены, и надо быть готовыми к любым неожиданностям. Задача коммунистов,
-- продолжал Рябченко, -- личным примером обеспечить высокую бдительность и
боевую готовность всех постов и командных пунктов корабля.
Выступавшие с волнением говорили о том, что долгожданный момент
наступил, и теперь, когда в руках есть оружие и боевая техника, вся мощь
корабля будет обрушена на фашистов, откуда бы они ни появились.
 ' ОЦВМА, ф. 200, д. 37758, л. 281.
74
Ночь была беспокойной. Возбужденные моряки радовались тому, что,
наконец, пришло время действовать, что теперь каждый получит возможность
поквитаться с врагом. Мне эта ночь запомнилась еще и "собачкой" -- так
моряки называют вахту с часу ночи до четырех утра.
Помню, ночь была темной-претемной. На берегу и в городке -- ни огонька.
На корабле только в носу и корме тускло светились синие огни.
Проверив сигнальную вахту, я спустился с мостика и прошел в корму, где
с винтовкой в руке стоял на вахте рослый, широкоплечий комендор с носовой
пушки Федор Рудь. В слабом отблеске синего света одетый в бушлат матрос
казался великаном. Обменявшись с вахтенным парой слов, я направился по
другому борту к носу. У светового люка второй машины прислушался: снизу
доносился мерный гул работающих вспомогательных механизмов -- жизнь на
корабле и ночью не замирала.
А мысли были об одном: через несколько часов съемка с якоря. Что ждет
нас впереди?
После смены так и не уснул. Еще до подъема команды на корабле все
закрутилось и завертелось: в котлах подымали пары.
Утром восемь эсминцев покинули тихую бухточку и вышли в открытое море.
До встречи с линкором оставалось несколько часов. Командир дивизиона решил
это время отвести на тренировки. Исполняя сигналы флагмана, эсминцы то в
кильватере, то в строе фронта вспенивали прибрежные воды. Все офицеры
"Живучего" были на мостике -- сигналы и действия по ним должен четко знать
каждый.
-- Товарищ Уланов, -- обратился старпом Алексей
Проничкин к командиру боевой части наблюдения
и связи, -- определите расстояние до соседнего эс
минца.
Присутствующие на мостике испытующе посмотрели на лейтенанта. Он молод
и застенчив, однако дело свое знает хорошо. Вытянув вперед правую руку с
призмой Белля и прищурив левый глаз, Уланов совместил срез палубы с кормовой
надстройкой и, быстро подсчитав в уме, доложил:
-- Расстояние до эсминца "Жесткий" три кабель
това.
С других боевых постов тоже слышались "вводные": старшины проводили
тренировки с подчиненными.
-- Снарядом противника сбита антенна! -- Эту
"вводную" дал командир отделения радистов старшина
2-й статьи Леонид Сокур. Из радиорубки на мостик вы
скочили краснофлотцы Константин Тишкин и Вениамин
Кузин. Первый с ходу начал разматывать антенный
провод, а второй принялся устанавливать запасную де
ревянную мачту. Сокур в это время с зажатым в руке
секундомером внимательно следил за действиями своих
подчиненных.
-- Радиосвязь восстановлена! -- доложил Тишкин.
Сокур нажал кнопку секундомера и посмотрел на
циферблат.
-- Молодцы! -- похвалил он радистов.
Отделение радистов -- одно из лучших на корабле.
В нем половина коммунистов, остальные комсомольцы.
Встреча эсминцев с линейным кораблем состоялась во второй половине дня.
Отряд лег на курс перехода Англия -- Кольский залив. Эскадренный ход -- 18
узлов. Время выхода с Фарерских островов и скорость были выбраны с таким
расчетом, чтобы Отряд сумел нагнать союзный конвой "IW-59", находившийся в
это время на полпути в Мурманск. Вторая половина маршрута -- зона активных
боевых действий вражеских подводных лодок. Там корабли Отряда должны
присоединиться к конвою, чтобы усилить силы эскорта. Эсминцам к тому же
предстояло пополнить запасы топлива.
Пока шли одни: линкор в центре, эсминцы у него по носу и по бортам на
установленной дистанции.
Вскоре начали ощущать сильную качку -- северный ветер быстро
усиливался, разгоняя крупную волну. Корабль медленно перекатывался с борта
на борт и с носа на корму. Даже громадина-линкор временами исчезал из виду,
только его высокий мостик да мачты торчали из воды. Разыгрался 9-балльный
шторм. Эсминцы, как ореховые скорлупки, ныряли в океане. Волны одна за
другой обрушивались на бак. Пришлось снять боевой расчет с носового орудия.
Командир дивизиона запросил семафором "Живучий" о состоянии Дементьева.
Наложенные при операции швы могли разойтись, делать же повторную операцию в
условиях шторма -- слишком рискованно. Конечно, старшине было нелегко, если
и здоровым душу
выворачивало, однако он терпел. Рядом с Дементьевым постоянно находился
врач Морозенко.
Корабль все больше и больше содрогался под напором стихии. Заданный ход
держать стало невозможно, и флагман поднял сигнал: иметь ход 9 узлов.
Удары волн уменьшились, но эсминец продолжал зарываться носом, а корма
поднималась, оголяя руль и гребные винты. Управлять кораблем становилось все
тяжелее. Несколько моряков попали впервые в такую передрягу и их укачало.
Меня тоже мутило, но приходилось держать себя в руках. Трудно было
краснофлотцам, стоявшим на вахте у котлов и паровых турбин: вода поступала в
машинные и котельные помещения через вентиляционные грибки, поэтому их
пришлось задраить; подача воздуха прекратилась, температура поднялась до 60
градусов.
Всякое передвижение на верхней палубе было запрещено. Сняли боевые
расчеты у торпедных аппаратов и кормовых бомбосбрасывателей.
Уже сутки экипаж боролся с разбушевавшейся стихией. Камбуз не работал:
все из котлов выливалось на палубу. Да и в такой шторм не хотелось горячего.
Успех имели только соленые огурцы, вобла и сухари.
Утром следующего дня на малой высоте появился немецкий
самолет-разведчик. Его тут же отогнали огнем автоматических пушек.
Все это время наш командир не покидал мостика. Казалось, он и усталости
не ощущал -- так был бодр и деятелен. Здесь же на мостике Рябченко и отдыхал
в небольшом плетеном кресле, служившем ему и стулом и кроватью. Сюда же
вестовой Иван Клименко приносил ему что-нибудь перекусить.
Каждые четыре часа у механизмов и боевых средств сменялись люди. Приняв
доклады о заступлении новой смены -- сигнальщика, рулевого, радиометриста и
гидроакустика -- вахтенный офицер докладывал командиру:
-- Вахту принял исправно, курс... скорость...
Офицер, несущий ходовую вахту, облечен не только большими полномочиями,
но и большой ответственностью. В случае внезапного нападения противника он
обязан организовать оборону корабля: объявить боевую тревогу и до прибытия
на мостик командира подавать нужные команды на боевые посты.
Шторм продолжался. Выключили гидроакустическую станцию. В такой
болтанке все равно подводную лодку не услышать.
На руль заступил старшина 2-й статьи Папушин, сменивший боцмана
Повторака. Теперь только они двое несли вахту у штурвала -- оба не
укачивались, оба были опытными рулевыми. Василий Папушин -- потомственный
помор, а Алексей Повторак еще за пять лет до войны служил рулевым на
плавбазе подводных лодок Тихоокеанского флота. Штурманом на этом судне в то
время был Рябченко, и вот случай свел их на нашем эсминце.
Мощным ударом волны в носовой части корабля срезало два вентиляционных
грибка. Вода стала поступать в носовой кубрик. Вызвали аварийную партию,
которая быстро заделала отверстия.
Внезапно стоявшие на мостике услышали какой-то глухой треск и шипение,
доносившиеся с бака. Рябченко перегнулся на правое крыло и увидел, что
сорвало парусиновый чехол с противолодочной реактивной установки "Хеджехог".
Вертушки головных взрывателей на четырех снарядах были свернуты ударами
волны и в любой момент могли выпасть. А это означало, что в любой миг мог
последовать взрыв. Дальнейшее страшно было даже представить: от взрыва могли
сдетонировать остальные снаряды (а всего их двадцать четыре). От взрыва в
палубе образуется дыра, в которую хлынет вода, и тогда -- конец...
Решение пришло мгновенно. Рядом с Рябченко стоял краснофлотец Иван
Клименко, принесший командиру еду.
-- Разрешите, товарищ командир? -- и, не успев по
лучить "добро", скользнул по леерам вниз, к штурман
ской рубке.
Старший лейтенант Лисовский готовился послать на бак своего матроса,
однако Клименко опередил его. Офицер обернул туловище краснофлотца пеньковым
тросом, затянул крепкий узел на спине, второй конец троса закрепил за
леерную стойку, и Клименко бросился на бак к реактивной установке. Сделав
три-четыре шага, услышал с мостика голос Рябченко:
-- Берегись, Иван!
Матрос крепко уцепился обеими руками за леерную стойку и сжался в комок
-- водяная лавина накрыла
' ОЦВМА, ф. 200, д. 37758, л. 281.
74
Ночь была беспокойной. Возбужденные моряки радовались тому, что,
наконец, пришло время действовать, что теперь каждый получит возможность
поквитаться с врагом. Мне эта ночь запомнилась еще и "собачкой" -- так
моряки называют вахту с часу ночи до четырех утра.
Помню, ночь была темной-претемной. На берегу и в городке -- ни огонька.
На корабле только в носу и корме тускло светились синие огни.
Проверив сигнальную вахту, я спустился с мостика и прошел в корму, где
с винтовкой в руке стоял на вахте рослый, широкоплечий комендор с носовой
пушки Федор Рудь. В слабом отблеске синего света одетый в бушлат матрос
казался великаном. Обменявшись с вахтенным парой слов, я направился по
другому борту к носу. У светового люка второй машины прислушался: снизу
доносился мерный гул работающих вспомогательных механизмов -- жизнь на
корабле и ночью не замирала.
А мысли были об одном: через несколько часов съемка с якоря. Что ждет
нас впереди?
После смены так и не уснул. Еще до подъема команды на корабле все
закрутилось и завертелось: в котлах подымали пары.
Утром восемь эсминцев покинули тихую бухточку и вышли в открытое море.
До встречи с линкором оставалось несколько часов. Командир дивизиона решил
это время отвести на тренировки. Исполняя сигналы флагмана, эсминцы то в
кильватере, то в строе фронта вспенивали прибрежные воды. Все офицеры
"Живучего" были на мостике -- сигналы и действия по ним должен четко знать
каждый.
-- Товарищ Уланов, -- обратился старпом Алексей
Проничкин к командиру боевой части наблюдения
и связи, -- определите расстояние до соседнего эс
минца.
Присутствующие на мостике испытующе посмотрели на лейтенанта. Он молод
и застенчив, однако дело свое знает хорошо. Вытянув вперед правую руку с
призмой Белля и прищурив левый глаз, Уланов совместил срез палубы с кормовой
надстройкой и, быстро подсчитав в уме, доложил:
-- Расстояние до эсминца "Жесткий" три кабель
това.
С других боевых постов тоже слышались "вводные": старшины проводили
тренировки с подчиненными.
-- Снарядом противника сбита антенна! -- Эту
"вводную" дал командир отделения радистов старшина
2-й статьи Леонид Сокур. Из радиорубки на мостик вы
скочили краснофлотцы Константин Тишкин и Вениамин
Кузин. Первый с ходу начал разматывать антенный
провод, а второй принялся устанавливать запасную де
ревянную мачту. Сокур в это время с зажатым в руке
секундомером внимательно следил за действиями своих
подчиненных.
-- Радиосвязь восстановлена! -- доложил Тишкин.
Сокур нажал кнопку секундомера и посмотрел на
циферблат.
-- Молодцы! -- похвалил он радистов.
Отделение радистов -- одно из лучших на корабле.
В нем половина коммунистов, остальные комсомольцы.
Встреча эсминцев с линейным кораблем состоялась во второй половине дня.
Отряд лег на курс перехода Англия -- Кольский залив. Эскадренный ход -- 18
узлов. Время выхода с Фарерских островов и скорость были выбраны с таким
расчетом, чтобы Отряд сумел нагнать союзный конвой "IW-59", находившийся в
это время на полпути в Мурманск. Вторая половина маршрута -- зона активных
боевых действий вражеских подводных лодок. Там корабли Отряда должны
присоединиться к конвою, чтобы усилить силы эскорта. Эсминцам к тому же
предстояло пополнить запасы топлива.
Пока шли одни: линкор в центре, эсминцы у него по носу и по бортам на
установленной дистанции.
Вскоре начали ощущать сильную качку -- северный ветер быстро
усиливался, разгоняя крупную волну. Корабль медленно перекатывался с борта
на борт и с носа на корму. Даже громадина-линкор временами исчезал из виду,
только его высокий мостик да мачты торчали из воды. Разыгрался 9-балльный
шторм. Эсминцы, как ореховые скорлупки, ныряли в океане. Волны одна за
другой обрушивались на бак. Пришлось снять боевой расчет с носового орудия.
Командир дивизиона запросил семафором "Живучий" о состоянии Дементьева.
Наложенные при операции швы могли разойтись, делать же повторную операцию в
условиях шторма -- слишком рискованно. Конечно, старшине было нелегко, если
и здоровым душу
выворачивало, однако он терпел. Рядом с Дементьевым постоянно находился
врач Морозенко.
Корабль все больше и больше содрогался под напором стихии. Заданный ход
держать стало невозможно, и флагман поднял сигнал: иметь ход 9 узлов.
Удары волн уменьшились, но эсминец продолжал зарываться носом, а корма
поднималась, оголяя руль и гребные винты. Управлять кораблем становилось все
тяжелее. Несколько моряков попали впервые в такую передрягу и их укачало.
Меня тоже мутило, но приходилось держать себя в руках. Трудно было
краснофлотцам, стоявшим на вахте у котлов и паровых турбин: вода поступала в
машинные и котельные помещения через вентиляционные грибки, поэтому их
пришлось задраить; подача воздуха прекратилась, температура поднялась до 60
градусов.
Всякое передвижение на верхней палубе было запрещено. Сняли боевые
расчеты у торпедных аппаратов и кормовых бомбосбрасывателей.
Уже сутки экипаж боролся с разбушевавшейся стихией. Камбуз не работал:
все из котлов выливалось на палубу. Да и в такой шторм не хотелось горячего.
Успех имели только соленые огурцы, вобла и сухари.
Утром следующего дня на малой высоте появился немецкий
самолет-разведчик. Его тут же отогнали огнем автоматических пушек.
Все это время наш командир не покидал мостика. Казалось, он и усталости
не ощущал -- так был бодр и деятелен. Здесь же на мостике Рябченко и отдыхал
в небольшом плетеном кресле, служившем ему и стулом и кроватью. Сюда же
вестовой Иван Клименко приносил ему что-нибудь перекусить.
Каждые четыре часа у механизмов и боевых средств сменялись люди. Приняв
доклады о заступлении новой смены -- сигнальщика, рулевого, радиометриста и
гидроакустика -- вахтенный офицер докладывал командиру:
-- Вахту принял исправно, курс... скорость...
Офицер, несущий ходовую вахту, облечен не только большими полномочиями,
но и большой ответственностью. В случае внезапного нападения противника он
обязан организовать оборону корабля: объявить боевую тревогу и до прибытия
на мостик командира подавать нужные команды на боевые посты.
Шторм продолжался. Выключили гидроакустическую станцию. В такой
болтанке все равно подводную лодку не услышать.
На руль заступил старшина 2-й статьи Папушин, сменивший боцмана
Повторака. Теперь только они двое несли вахту у штурвала -- оба не
укачивались, оба были опытными рулевыми. Василий Папушин -- потомственный
помор, а Алексей Повторак еще за пять лет до войны служил рулевым на
плавбазе подводных лодок Тихоокеанского флота. Штурманом на этом судне в то
время был Рябченко, и вот случай свел их на нашем эсминце.
Мощным ударом волны в носовой части корабля срезало два вентиляционных
грибка. Вода стала поступать в носовой кубрик. Вызвали аварийную партию,
которая быстро заделала отверстия.
Внезапно стоявшие на мостике услышали какой-то глухой треск и шипение,
доносившиеся с бака. Рябченко перегнулся на правое крыло и увидел, что
сорвало парусиновый чехол с противолодочной реактивной установки "Хеджехог".
Вертушки головных взрывателей на четырех снарядах были свернуты ударами
волны и в любой момент могли выпасть. А это означало, что в любой миг мог
последовать взрыв. Дальнейшее страшно было даже представить: от взрыва могли
сдетонировать остальные снаряды (а всего их двадцать четыре). От взрыва в
палубе образуется дыра, в которую хлынет вода, и тогда -- конец...
Решение пришло мгновенно. Рядом с Рябченко стоял краснофлотец Иван
Клименко, принесший командиру еду.
-- Разрешите, товарищ командир? -- и, не успев по
лучить "добро", скользнул по леерам вниз, к штурман
ской рубке.
Старший лейтенант Лисовский готовился послать на бак своего матроса,
однако Клименко опередил его. Офицер обернул туловище краснофлотца пеньковым
тросом, затянул крепкий узел на спине, второй конец троса закрепил за
леерную стойку, и Клименко бросился на бак к реактивной установке. Сделав
три-четыре шага, услышал с мостика голос Рябченко:
-- Берегись, Иван!
Матрос крепко уцепился обеими руками за леерную стойку и сжался в комок
-- водяная лавина накрыла
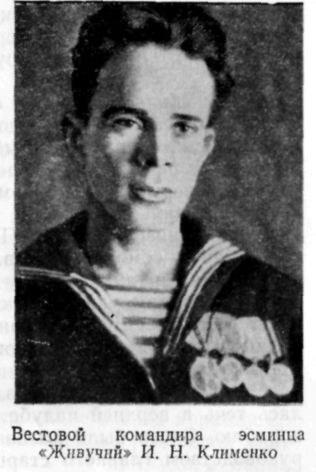 его и растеклась по палубе бурлящим потоком. Очередная волна настигла
уже у самой установки. Подождав, пока она откатит, Клименко молниеносно, в
два приема, сорвал с направляющих четыре опасные мины и выбросил их за борт
в пучину.
Снова набежала волна -- на мостике затаили дыхание. Прильнув к раме
установки и крепко обхватив ее руками, Клименко оставался на месте. В
направляющих находилось еще двадцать мин, вертушки которых тоже начали
срабатывать. Как с ними поступить? Цепляясь за раму левой рукой, Клименко
правой снимал оставшиеся мины и передавал их в руки подоспевшим комендорам
носовой пушки.
Промокшего до нитки и буквально окоченевшего товарища моряки на руках
внесли в кубрик. Опасность, нависшая над кораблем, была ликвидирована. Так
скромный воронежский парень Иван Клименко, первым в нашем экипаже совершил
подвиг. Ему потом была вручена награда -- медаль Ушакова.
Шторм нисколько не утихал. Волны, обрушиваясь на верхнюю палубу, с
грохотом ударяли в волнорез, надстройки и мостик. На руле стоял главный
боцман. Он с трудом удерживал корабль на курсе. Но вот Повто-рак увидел, как
на нос эсминца надвигается необычно крутая волна. Бывалого боцмана море
никогда не пугало, но тут даже он забеспокоился: отвернуть опасно, волна
может опрокинуть, ударив в борт.
Водяная глыба поглотила нос корабля. Я стоял на мостике и почувствовал,
как затряслось, затрещало подо мной. Мощным ударом разворотило переборку, и
волна, ворвавшись в рулевую рубку, сорвала нактоуз путевого компаса.
Командир приказал боцману сдать вахту на руле и заделать пробоину.
Повторак тут же вызвал аварийную партию. Притащили брусья, доски и
приступили к делу.
Волны сбивали моряков с ног, но работа ни на секунду не прекращалась.
Сноровисто действовали моряки. Они смастерили прочный щит, которым закрыли
пробоину в переборке, и укрепили его.
-- Проверить жилые помещения, -- приказал Ряб-
ченко боцману.
Обвязавшись шкертом, Повторак направился к корме и начал осмотр
отсеков. В кормовых помещениях воды не обнаружил. В носу было хуже. Зайдя в
старшинский кубрик, увидел, как прогибалась под тяжестью воды палуба. Стойки
вибрировали с каждым ударом волны. Повторак по телефону доложил обстановку
на мостик.
Следующие волны оказались еще сильнее. Появилась течь в верхней палубе.
Новая опасность грозила кораблю. Снова была вызвана аварийная партия под
руководством главного старшины Николая Лошкарева. Моряки принялись
устанавливать подпорки для усиления стоек.
Перейдя во второй кубрик, моряки увидели, что палуба местами
прогнулась, из всех щелей хлестало. Стоя по колено в ледяной воде,
краснофлотцы продолжали борьбу за живучесть корабля. Коммунист Циолковский и
комсомолец Комарь быстро приготовили щиты и вместе с остальными начали их
прилаживать. От сильных толчков люди падали в воду, но вновь поднимались и
продолжали работу.
Через час палуба была подкреплена, подпорки установлены, поступление
воды прекратилось. Старший помощник, осмотрев помещения, скупо похвалил:
-- Молодцы, хорошо потрудились. Но за отсеками
надо посматривать.
За этой победой над стихией стояла упорная учеба и многочасовые
тренировки аварийной команды еще в то время, когда корабль только готовился
к походу. Некоторым краснофлотцам они тогда казались лишними. Теперь никто
так не думал.
Шторм причинил повреждения и на других эсминцах. На "Дерзком" ударом
волны проломило мостик и сорвало вьюшку акустического охранителя. На "Дея-
тельном" тоже был поврежден мостик и сорваны реактивные мины с
многоствольной установки (к счастью, предохранительные вертушки оказались на
месте, и взрыва не последовало).
На "Доблестном" была повреждена верхняя палуба, просела пушка,
выгнулись стойки и появилась течь. На эсминце "Жесткий" штормовой нагрузки
не вынесли механизмы. Лопнула муфта масляного насоса, а чуть позже --•
сорвало нефтяной насос. Пришлось застопорить вначале одну, а потом и вторую
машину. Эсминец оказался без хода, его начало дрейфовать. Корабль стал
хорошей мишенью для вражеских лодок и самолетов. Командир "Жесткого"
капитан-лейтенант А. К Щербаков доложил вице-адмиралу Левченко, что
неисправности будут устранены своими силами.
Немногим более часа потребовалось морякам под руководством
инженер-механика Григория Фрумсона, чтобы ввести в строй поврежденные
механизмы. "Жесткий" получил ход и догнал ушедшие вперед корабли.
Во время этого шторма выяснилось, что наши "шипы" имеют малую
остойчивость -- при ударе волны корабль кренится на борт и не сразу
становится на ровный киль. Это было следствием разного рода переделок и
модернизаций: одно снимали, другое ставили.
От англичан мы слышали, что два таких "шипа" в начале второй мировой
войны затонули в Атлантике, попав в шторм: перевернулись.
Качка на английских эсминцах ощущалась сильнее, чем на аналогичных
кораблях отечественной постройки. Однако моряки, хотя и страдали морской
болезнью, работоспособности не теряли. Помнится, как краснофлотец Иван
Сильченко, крепкий ярославский парень, стоя на ходовом мостике с ручным
дальномером, то и дело наклонялся к обрезу' и чертыхался:
-- Детям, внукам и правнукам своим закажу служить на флоте.
Выполнил ли он свои намерения, неизвестно, но думаю, что нет.
Труднее всех, конечно, было Дементьеву. После перенесенной операции
сильные боли не давали ему покоя. Уже третьи сутки старшина не спал.
Снотворных на корабле не оказалось. Чтобы хоть немного приту-
его и растеклась по палубе бурлящим потоком. Очередная волна настигла
уже у самой установки. Подождав, пока она откатит, Клименко молниеносно, в
два приема, сорвал с направляющих четыре опасные мины и выбросил их за борт
в пучину.
Снова набежала волна -- на мостике затаили дыхание. Прильнув к раме
установки и крепко обхватив ее руками, Клименко оставался на месте. В
направляющих находилось еще двадцать мин, вертушки которых тоже начали
срабатывать. Как с ними поступить? Цепляясь за раму левой рукой, Клименко
правой снимал оставшиеся мины и передавал их в руки подоспевшим комендорам
носовой пушки.
Промокшего до нитки и буквально окоченевшего товарища моряки на руках
внесли в кубрик. Опасность, нависшая над кораблем, была ликвидирована. Так
скромный воронежский парень Иван Клименко, первым в нашем экипаже совершил
подвиг. Ему потом была вручена награда -- медаль Ушакова.
Шторм нисколько не утихал. Волны, обрушиваясь на верхнюю палубу, с
грохотом ударяли в волнорез, надстройки и мостик. На руле стоял главный
боцман. Он с трудом удерживал корабль на курсе. Но вот Повто-рак увидел, как
на нос эсминца надвигается необычно крутая волна. Бывалого боцмана море
никогда не пугало, но тут даже он забеспокоился: отвернуть опасно, волна
может опрокинуть, ударив в борт.
Водяная глыба поглотила нос корабля. Я стоял на мостике и почувствовал,
как затряслось, затрещало подо мной. Мощным ударом разворотило переборку, и
волна, ворвавшись в рулевую рубку, сорвала нактоуз путевого компаса.
Командир приказал боцману сдать вахту на руле и заделать пробоину.
Повторак тут же вызвал аварийную партию. Притащили брусья, доски и
приступили к делу.
Волны сбивали моряков с ног, но работа ни на секунду не прекращалась.
Сноровисто действовали моряки. Они смастерили прочный щит, которым закрыли
пробоину в переборке, и укрепили его.
-- Проверить жилые помещения, -- приказал Ряб-
ченко боцману.
Обвязавшись шкертом, Повторак направился к корме и начал осмотр
отсеков. В кормовых помещениях воды не обнаружил. В носу было хуже. Зайдя в
старшинский кубрик, увидел, как прогибалась под тяжестью воды палуба. Стойки
вибрировали с каждым ударом волны. Повторак по телефону доложил обстановку
на мостик.
Следующие волны оказались еще сильнее. Появилась течь в верхней палубе.
Новая опасность грозила кораблю. Снова была вызвана аварийная партия под
руководством главного старшины Николая Лошкарева. Моряки принялись
устанавливать подпорки для усиления стоек.
Перейдя во второй кубрик, моряки увидели, что палуба местами
прогнулась, из всех щелей хлестало. Стоя по колено в ледяной воде,
краснофлотцы продолжали борьбу за живучесть корабля. Коммунист Циолковский и
комсомолец Комарь быстро приготовили щиты и вместе с остальными начали их
прилаживать. От сильных толчков люди падали в воду, но вновь поднимались и
продолжали работу.
Через час палуба была подкреплена, подпорки установлены, поступление
воды прекратилось. Старший помощник, осмотрев помещения, скупо похвалил:
-- Молодцы, хорошо потрудились. Но за отсеками
надо посматривать.
За этой победой над стихией стояла упорная учеба и многочасовые
тренировки аварийной команды еще в то время, когда корабль только готовился
к походу. Некоторым краснофлотцам они тогда казались лишними. Теперь никто
так не думал.
Шторм причинил повреждения и на других эсминцах. На "Дерзком" ударом
волны проломило мостик и сорвало вьюшку акустического охранителя. На "Дея-
тельном" тоже был поврежден мостик и сорваны реактивные мины с
многоствольной установки (к счастью, предохранительные вертушки оказались на
месте, и взрыва не последовало).
На "Доблестном" была повреждена верхняя палуба, просела пушка,
выгнулись стойки и появилась течь. На эсминце "Жесткий" штормовой нагрузки
не вынесли механизмы. Лопнула муфта масляного насоса, а чуть позже --•
сорвало нефтяной насос. Пришлось застопорить вначале одну, а потом и вторую
машину. Эсминец оказался без хода, его начало дрейфовать. Корабль стал
хорошей мишенью для вражеских лодок и самолетов. Командир "Жесткого"
капитан-лейтенант А. К Щербаков доложил вице-адмиралу Левченко, что
неисправности будут устранены своими силами.
Немногим более часа потребовалось морякам под руководством
инженер-механика Григория Фрумсона, чтобы ввести в строй поврежденные
механизмы. "Жесткий" получил ход и догнал ушедшие вперед корабли.
Во время этого шторма выяснилось, что наши "шипы" имеют малую
остойчивость -- при ударе волны корабль кренится на борт и не сразу
становится на ровный киль. Это было следствием разного рода переделок и
модернизаций: одно снимали, другое ставили.
От англичан мы слышали, что два таких "шипа" в начале второй мировой
войны затонули в Атлантике, попав в шторм: перевернулись.
Качка на английских эсминцах ощущалась сильнее, чем на аналогичных
кораблях отечественной постройки. Однако моряки, хотя и страдали морской
болезнью, работоспособности не теряли. Помнится, как краснофлотец Иван
Сильченко, крепкий ярославский парень, стоя на ходовом мостике с ручным
дальномером, то и дело наклонялся к обрезу' и чертыхался:
-- Детям, внукам и правнукам своим закажу служить на флоте.
Выполнил ли он свои намерения, неизвестно, но думаю, что нет.
Труднее всех, конечно, было Дементьеву. После перенесенной операции
сильные боли не давали ему покоя. Уже третьи сутки старшина не спал.
Снотворных на корабле не оказалось. Чтобы хоть немного приту-
 1 Обрез -- большой таз из оцинкованного железа.
пить боль, ему время от времени давали двойную порцию рома.
Утром 20 августа в небе появился вражеский самолет-разведчик. Линкор
открыл по нему огонь из зениток, и самолет, покружив немного, удалился. Но
было ясно: враг нас засек, надо ждать нападения.
Шторм, наконец, начал стихать, и корабли смогли увеличить ход до 18
узлов. Мы приближались к району, где, по сведениям, находились позиции
подводных лодок. Флагман поднял сигнал:
-- Идти противолодочным зигзагом!
А вскоре немцы дали о себе знать. Во второй половине дня подводные
лодки дважды пытались атаковать корабли, но мы их обнаружили своевременно и
забросали глубинными бомбами, загнав на глубину.
Только "отбились" от лодок, как локатор показал воздушную цель,
приближающуюся с оста. Корабли уже было ощетинились жерлами пушек, чтобы
встретить врага как следует. Но это оказались самолеты с английского
авианосца, посланные сообщить, что союзный конвой, который мы должны
догнать, находится в 60 милях к северо-востоку.
Вскоре корабли Отряда присоединились к конвою. Эсминцы "Живучий",
"Жаркий", "Жесткий" и "Доблестный" стали в строй с левой стороны конвоя,
остальные эсминцы -- с правой. Линейный корабль "Архангельск" находился
внутри ордера. Конвой шел со скоростью 9 узлов. На палубах "Либерти" были
самолеты, паровозы, грузовые автомобили...
Когда стемнело, вновь начали прослушиваться шумы вражеских лодок. Всю
ночь гремели подводные взрывы, то отдаленные, то совсем близкие. Это корабли
охранения сбрасывали глубинные бомбы на гитлеровских пиратов.
С утра следующего дня и до поздней ночи эсминцы на ходу принимали с
танкеров мазут. В этот день конвой понес первые потери: акустическая
торпеда, выпущенная с вражеской подводной лодки, попала в английский шлюп
"Кайт", который сразу же затонул; чуть позднее были серьезно повреждены
торпедами авиано-
1 Обрез -- большой таз из оцинкованного железа.
пить боль, ему время от времени давали двойную порцию рома.
Утром 20 августа в небе появился вражеский самолет-разведчик. Линкор
открыл по нему огонь из зениток, и самолет, покружив немного, удалился. Но
было ясно: враг нас засек, надо ждать нападения.
Шторм, наконец, начал стихать, и корабли смогли увеличить ход до 18
узлов. Мы приближались к району, где, по сведениям, находились позиции
подводных лодок. Флагман поднял сигнал:
-- Идти противолодочным зигзагом!
А вскоре немцы дали о себе знать. Во второй половине дня подводные
лодки дважды пытались атаковать корабли, но мы их обнаружили своевременно и
забросали глубинными бомбами, загнав на глубину.
Только "отбились" от лодок, как локатор показал воздушную цель,
приближающуюся с оста. Корабли уже было ощетинились жерлами пушек, чтобы
встретить врага как следует. Но это оказались самолеты с английского
авианосца, посланные сообщить, что союзный конвой, который мы должны
догнать, находится в 60 милях к северо-востоку.
Вскоре корабли Отряда присоединились к конвою. Эсминцы "Живучий",
"Жаркий", "Жесткий" и "Доблестный" стали в строй с левой стороны конвоя,
остальные эсминцы -- с правой. Линейный корабль "Архангельск" находился
внутри ордера. Конвой шел со скоростью 9 узлов. На палубах "Либерти" были
самолеты, паровозы, грузовые автомобили...
Когда стемнело, вновь начали прослушиваться шумы вражеских лодок. Всю
ночь гремели подводные взрывы, то отдаленные, то совсем близкие. Это корабли
охранения сбрасывали глубинные бомбы на гитлеровских пиратов.
С утра следующего дня и до поздней ночи эсминцы на ходу принимали с
танкеров мазут. В этот день конвой понес первые потери: акустическая
торпеда, выпущенная с вражеской подводной лодки, попала в английский шлюп
"Кайт", который сразу же затонул; чуть позднее были серьезно повреждены
торпедами авиано-
 1 Шлюп -- эскортный корабль, равный по водоизмещению
эсминцу.
сец "Набоб" и фрегат' "Бикертон". (Теперь известно, что "Кайт" стал
жертвой подводной лодки "U-344", а "Набоб." и "Бикертон" были атакованы
лодкой "U-354"2.)
Султаны воды, поднимаемые взрывами глубинных бомб, появлялись все чаще
и чаще -- корабли проходили через позиции гитлеровских подводных лодок.
Дважды в тот день "Живучий" имел надежный гидроакустический контакт и
сбросил две большие серии глубинных бомб.
За двое суток следования с конвоем наши эсминцы "Дерзкий", "Жесткий",
"Деятельный" и "Живучий" пять раз обнаруживали и бомбили вражеские лодки, но
только атака "Дерзкого" увенчалась успехом.
Об уничтожении субмарины штаб Отряда дал оповещение на корабли. На
"Живучем" известие приняли с большим воодушевлением. Ведь это была первая
победа кораблей, только что поднявших советский Военно-морской флаг!
Позже выяснилось, что "Дерзкий" под командованием капитана 3-го ранга
А. И. Андреева потопил немецкую подводную лодку "U-344"3. Это
была не единственная победа. В тот же день самолет "Суордфиш" с английского
эскортного авианосца "Виндекс" уничтожил авиабомбами подводную лодку
"U-354"4.
Значит, оба подводных пирата получили по заслугам.
В 2 часа ночи 23 августа корабли Отряда увеличили ход и пошли
самостоятельно в Кольский залив.
Вскоре после перестроения гидроакустики эсминца "Жгучий" обнаружили по
левому борту подводную лодку. Командир корабля капитан 2-го ранга Польский в
переговорную трубу с надписью "Асдик" передал:
-- Ворочаю влево!
Командиры всегда предупреждали акустиков о предстоящем повороте, чтобы
те не потеряли цель. Когда корабль оказался над местом, где по расчетам
должна
1 Шлюп -- эскортный корабль, равный по водоизмещению
эсминцу.
сец "Набоб" и фрегат' "Бикертон". (Теперь известно, что "Кайт" стал
жертвой подводной лодки "U-344", а "Набоб." и "Бикертон" были атакованы
лодкой "U-354"2.)
Султаны воды, поднимаемые взрывами глубинных бомб, появлялись все чаще
и чаще -- корабли проходили через позиции гитлеровских подводных лодок.
Дважды в тот день "Живучий" имел надежный гидроакустический контакт и
сбросил две большие серии глубинных бомб.
За двое суток следования с конвоем наши эсминцы "Дерзкий", "Жесткий",
"Деятельный" и "Живучий" пять раз обнаруживали и бомбили вражеские лодки, но
только атака "Дерзкого" увенчалась успехом.
Об уничтожении субмарины штаб Отряда дал оповещение на корабли. На
"Живучем" известие приняли с большим воодушевлением. Ведь это была первая
победа кораблей, только что поднявших советский Военно-морской флаг!
Позже выяснилось, что "Дерзкий" под командованием капитана 3-го ранга
А. И. Андреева потопил немецкую подводную лодку "U-344"3. Это
была не единственная победа. В тот же день самолет "Суордфиш" с английского
эскортного авианосца "Виндекс" уничтожил авиабомбами подводную лодку
"U-354"4.
Значит, оба подводных пирата получили по заслугам.
В 2 часа ночи 23 августа корабли Отряда увеличили ход и пошли
самостоятельно в Кольский залив.
Вскоре после перестроения гидроакустики эсминца "Жгучий" обнаружили по
левому борту подводную лодку. Командир корабля капитан 2-го ранга Польский в
переговорную трубу с надписью "Асдик" передал:
-- Ворочаю влево!
Командиры всегда предупреждали акустиков о предстоящем повороте, чтобы
те не потеряли цель. Когда корабль оказался над местом, где по расчетам
должна
 1 Фрегат -- корабль переходного типа между легким крейсером
и эсминцем. Предназначен для противолодочной и противовоздуш
ной обороны.
2 Rohwer, Iiirgen und Hiimmelchen. Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 475.
3 См.: Еремеев Л. М., Шергин А. П. Подводные лодки иностран
ных флотов во второй мировой войне. Воениздат, 1962, с. 164.
4 Там же.
1 Фрегат -- корабль переходного типа между легким крейсером
и эсминцем. Предназначен для противолодочной и противовоздуш
ной обороны.
2 Rohwer, Iiirgen und Hiimmelchen. Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 475.
3 См.: Еремеев Л. М., Шергин А. П. Подводные лодки иностран
ных флотов во второй мировой войне. Воениздат, 1962, с. 164.
4 Там же.
 была находиться лодка, с кормы и бортов обрушились па нее глубинные
бомбы. Позади "Жгучего" во вспененной воде появились какие-то небольшие
предметы и масляное пятно. Рассматривать их было некогда. Ясно одно: еще
одна вражеская субмарина выведена из строя.
В течение дня гитлеровские подводные лодки 15 раз пытались атаковать
наши корабли с разных направлении. "Жгучий", "Достойный", "Живучий",
"Дерзкий" и "Жаркий" по нескольку раз выходили в контратаки. Две из них,
проведенные эсминцами "Достойный" и "Жгучий", оказались успешными. Вражеские
лодки получили повреждения.
Заканчивался последний день перехода. Корабли находились уже в
операционной зоне Северного флота. Вторые сутки нас прикрывала североморская
авиация. Штаб флота непрерывно передавал по радио необходимую информацию.
Радиоразведка сообщала о восьми вражеских подводных лодках и семи плавающих
минах, обнаруженных в полосе движения Отряда.
В сумерках сигнальщик "Живучего" Василий Мука-сеев обнаружил вражеский
самолет, который вскоре скрылся из видимости.
была находиться лодка, с кормы и бортов обрушились па нее глубинные
бомбы. Позади "Жгучего" во вспененной воде появились какие-то небольшие
предметы и масляное пятно. Рассматривать их было некогда. Ясно одно: еще
одна вражеская субмарина выведена из строя.
В течение дня гитлеровские подводные лодки 15 раз пытались атаковать
наши корабли с разных направлении. "Жгучий", "Достойный", "Живучий",
"Дерзкий" и "Жаркий" по нескольку раз выходили в контратаки. Две из них,
проведенные эсминцами "Достойный" и "Жгучий", оказались успешными. Вражеские
лодки получили повреждения.
Заканчивался последний день перехода. Корабли находились уже в
операционной зоне Северного флота. Вторые сутки нас прикрывала североморская
авиация. Штаб флота непрерывно передавал по радио необходимую информацию.
Радиоразведка сообщала о восьми вражеских подводных лодках и семи плавающих
минах, обнаруженных в полосе движения Отряда.
В сумерках сигнальщик "Живучего" Василий Мука-сеев обнаружил вражеский
самолет, который вскоре скрылся из видимости.
 Наступило время сна, однако спать не хотелось: через несколько часов
откроются родные берега, а ночи здесь и в августе светлые.
Когда корабли вошли в Кольский залив, их встретил катер, на котором
находились начальник Главного морского штаба вице-адмирал В. А. Алафузов,
член Военного совета флота вице-адмирал А. А. Николаев и начальник штаба
Северного флота контр-адмирал В. И. Платонов. Приблизившись к Отряду, катер
круто развернулся, встал в голову строя и пошел вместе с нами по заливу.
Рано утром 24 августа корабли стали на якорь на рейде Ваенги. Итак,
покрыв около двух тысяч миль, выдержав жестокий шторм, отразив атаки
гитлеровских подводных лодок (всего за время перехода таких атак было 62),
мы благополучно прибыли на Родину. Одна подводная лодка была потоплена, трем
нанесены серьезные повреждения.
85
Хвастливые заявления гитлеровцев о том, что они потопят принятые нами в
Англии корабли, когда те будут идти в Мурманск, не осуществились. Более
того, немцы сами понесли ощутимые потери. Но, фактам вопреки, даже много лет
спустя западногерманские историки не хотят мириться с этим. Вот что пишется
в одной из публикаций:
"Утром 23 августа прибывшая из Карского моря подводная лодка "U-711"
(капитан-лейтенант Ланге) атаковала и, как предполагают, достигла попаданий
в линкор "Архангельск" и в один эсминец типа "Жаркий" (до сих пор не
подтверждено)"1.
Да это и не может подтвердиться. Западногерманским историкам должно
быть известно, что в 1947 году линкор "Архангельск" и эсминцы без боевых
повреждений, в целости и сохранности были возвращены Великобритании (за
исключением эсминца "Деятельный", погибшего в 1945 году).
В тот же день, когда корабли пришли в Кольский залив, И. В. Сталин
направил У. Черчиллю телеграмму: "Сегодня, 24 августа, утром благополучно
прибыла из Англии в известный Вам советский порт эскадра в составе одного
линкора и восьми миноносцев, переданных Советскому Союзу
Великобританией"2.
После четырехмесячного пребывания за границей благополучное возвращение
на Родину у многих моряков вызвало слезы радости. Очень хотелось пройтись по
родной русской земле, прильнуть к ней и целовать голые камни прибрежных
сопок...
Наступило время сна, однако спать не хотелось: через несколько часов
откроются родные берега, а ночи здесь и в августе светлые.
Когда корабли вошли в Кольский залив, их встретил катер, на котором
находились начальник Главного морского штаба вице-адмирал В. А. Алафузов,
член Военного совета флота вице-адмирал А. А. Николаев и начальник штаба
Северного флота контр-адмирал В. И. Платонов. Приблизившись к Отряду, катер
круто развернулся, встал в голову строя и пошел вместе с нами по заливу.
Рано утром 24 августа корабли стали на якорь на рейде Ваенги. Итак,
покрыв около двух тысяч миль, выдержав жестокий шторм, отразив атаки
гитлеровских подводных лодок (всего за время перехода таких атак было 62),
мы благополучно прибыли на Родину. Одна подводная лодка была потоплена, трем
нанесены серьезные повреждения.
85
Хвастливые заявления гитлеровцев о том, что они потопят принятые нами в
Англии корабли, когда те будут идти в Мурманск, не осуществились. Более
того, немцы сами понесли ощутимые потери. Но, фактам вопреки, даже много лет
спустя западногерманские историки не хотят мириться с этим. Вот что пишется
в одной из публикаций:
"Утром 23 августа прибывшая из Карского моря подводная лодка "U-711"
(капитан-лейтенант Ланге) атаковала и, как предполагают, достигла попаданий
в линкор "Архангельск" и в один эсминец типа "Жаркий" (до сих пор не
подтверждено)"1.
Да это и не может подтвердиться. Западногерманским историкам должно
быть известно, что в 1947 году линкор "Архангельск" и эсминцы без боевых
повреждений, в целости и сохранности были возвращены Великобритании (за
исключением эсминца "Деятельный", погибшего в 1945 году).
В тот же день, когда корабли пришли в Кольский залив, И. В. Сталин
направил У. Черчиллю телеграмму: "Сегодня, 24 августа, утром благополучно
прибыла из Англии в известный Вам советский порт эскадра в составе одного
линкора и восьми миноносцев, переданных Советскому Союзу
Великобританией"2.
После четырехмесячного пребывания за границей благополучное возвращение
на Родину у многих моряков вызвало слезы радости. Очень хотелось пройтись по
родной русской земле, прильнуть к ней и целовать голые камни прибрежных
сопок...
 1 Rohwer liirgen und Hummelchen, Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945.Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 475.
2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президен
тами США и премьер-министрами Великобритании во время Вели
кой Отечественной войны 1941--1945 гг. М. Политиздат, 1976,
т. 1, с. 303.
В адрес Отряда кораблей, прибывшего из Англии, пришла телеграмма
Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР Н. Г. Кузнецова: "Поздравляю
весь личный состав Отряда кораблей с успешным выполнением задания по
переводу кораблей на Родину. За успешное выполнение задания объявляю
благодарность всему рядовому, старшинскому и офицерскому составу
кораблей"1.
Высокая оценка наркома была воспринята моряками с большой радостью и
воодушевлением. На всех кораблях состоялись митинги, на которых члены
экипажей эсминцев и линкора заверяли партию и правительство, весь советский
народ, что они с честью будут носить звание воинов-североморцев, отдадут все
'силы делу разгрома ненавистного врага.
С прибытием нашего отряда заметно прибавилось хлопот работникам тыловых
служб Северного флота. Нужно было обеспечить корабли всеми видами
довольствия, боеприпасами, топливом. Да разве все перечислишь! Одному только
линкору требовалось в день больше тонны хлеба.
Эсминцы стали к пирсам и приступили к пополнению запасов. Первая
заповедь моряков: пришел с моря -- заправься, будь готов к выходу -- была
выполнена в считанные часы.
1 Rohwer liirgen und Hummelchen, Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945.Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 475.
2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президен
тами США и премьер-министрами Великобритании во время Вели
кой Отечественной войны 1941--1945 гг. М. Политиздат, 1976,
т. 1, с. 303.
В адрес Отряда кораблей, прибывшего из Англии, пришла телеграмма
Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР Н. Г. Кузнецова: "Поздравляю
весь личный состав Отряда кораблей с успешным выполнением задания по
переводу кораблей на Родину. За успешное выполнение задания объявляю
благодарность всему рядовому, старшинскому и офицерскому составу
кораблей"1.
Высокая оценка наркома была воспринята моряками с большой радостью и
воодушевлением. На всех кораблях состоялись митинги, на которых члены
экипажей эсминцев и линкора заверяли партию и правительство, весь советский
народ, что они с честью будут носить звание воинов-североморцев, отдадут все
'силы делу разгрома ненавистного врага.
С прибытием нашего отряда заметно прибавилось хлопот работникам тыловых
служб Северного флота. Нужно было обеспечить корабли всеми видами
довольствия, боеприпасами, топливом. Да разве все перечислишь! Одному только
линкору требовалось в день больше тонны хлеба.
Эсминцы стали к пирсам и приступили к пополнению запасов. Первая
заповедь моряков: пришел с моря -- заправься, будь готов к выходу -- была
выполнена в считанные часы.
 ОЦВМА, ф. 254, д. 23129, л. 36.
Органы тыла флота, возглавляемые контр-адмиралом инженером Н. П.
Дубровиным, хорошо подготовились к выполнению повой "вводной". И в
дальнейшем мы всегда ощущали с их стороны заботливое отношение к
плавсоставу.
Некоторые корабли, получившие штормовые повреждения во время перехода,
нуждались в ремонте. Нашему "Живучему" предстоял аварийный ремонт ходовой
рубки и палубного оборудования. Николай Иванович Никольский еще на переходе
подготовил необходимые ведомости и с прибытием в Ваенгу сдал их в
технический отдел флота. Боцман Алексей Повторак со своими помощниками уже
хлопотал у такелажа. Штурман Николай Гончаров отправился к гидрографам за
морскими картами. Началась обычная флотская жизнь.
В промежутках между делами были короткие встречи и беседы с друзьями,
пришедшими поздравить нас с благополучным возвращением. Очень хорошо
запомнилась всем встреча с представителями командования Северного флота. Нас
она взволновала еще и потому, что многие из членов экипажей эсминцев раньше
служили на других флотах и эта встреча была первой. Когда катер под флагом
командующего флотом приблизился к пирсу, на кораблях зазвучала сигналы
"большого сбора". К слову, звуковая сигнализация на "шипах" здорово
отличалась от той, к которой мы привыкли на отечественных кораблях. Она
напоминала звучание сигнального рожка самых первых автомобилей, только
многократно усиленное. Этот "клекот" буквально выворачивал нам души при
частых боевых тревогах. Только старпом был доволен:
-- Такие звуки и мертвого с постели поднимут.
Действительно. В море спать нам приходилось очень мало, а физическая
нагрузка, особенно в штормовых условиях, была велика. Сменившись с вахты,
усталые валились на койку, не раздеваясь. А тут -- тревога! -- обнаружен
подводный враг. Вскакиваем, бежим на боевые посты. Потом "отбой", а вскоре
опять тревога. И так по пять--семь раз в сутки.
Но в тот день сигнал, прозвучавший на эсминцах, показался мелодичным и
желанным. На катере прибыли член Военного совета флота вице-адмирал А. А.
Николаев, высшие офицеры штаба и политического управления флота.
ОЦВМА, ф. 254, д. 23129, л. 36.
Органы тыла флота, возглавляемые контр-адмиралом инженером Н. П.
Дубровиным, хорошо подготовились к выполнению повой "вводной". И в
дальнейшем мы всегда ощущали с их стороны заботливое отношение к
плавсоставу.
Некоторые корабли, получившие штормовые повреждения во время перехода,
нуждались в ремонте. Нашему "Живучему" предстоял аварийный ремонт ходовой
рубки и палубного оборудования. Николай Иванович Никольский еще на переходе
подготовил необходимые ведомости и с прибытием в Ваенгу сдал их в
технический отдел флота. Боцман Алексей Повторак со своими помощниками уже
хлопотал у такелажа. Штурман Николай Гончаров отправился к гидрографам за
морскими картами. Началась обычная флотская жизнь.
В промежутках между делами были короткие встречи и беседы с друзьями,
пришедшими поздравить нас с благополучным возвращением. Очень хорошо
запомнилась всем встреча с представителями командования Северного флота. Нас
она взволновала еще и потому, что многие из членов экипажей эсминцев раньше
служили на других флотах и эта встреча была первой. Когда катер под флагом
командующего флотом приблизился к пирсу, на кораблях зазвучала сигналы
"большого сбора". К слову, звуковая сигнализация на "шипах" здорово
отличалась от той, к которой мы привыкли на отечественных кораблях. Она
напоминала звучание сигнального рожка самых первых автомобилей, только
многократно усиленное. Этот "клекот" буквально выворачивал нам души при
частых боевых тревогах. Только старпом был доволен:
-- Такие звуки и мертвого с постели поднимут.
Действительно. В море спать нам приходилось очень мало, а физическая
нагрузка, особенно в штормовых условиях, была велика. Сменившись с вахты,
усталые валились на койку, не раздеваясь. А тут -- тревога! -- обнаружен
подводный враг. Вскакиваем, бежим на боевые посты. Потом "отбой", а вскоре
опять тревога. И так по пять--семь раз в сутки.
Но в тот день сигнал, прозвучавший на эсминцах, показался мелодичным и
желанным. На катере прибыли член Военного совета флота вице-адмирал А. А.
Николаев, высшие офицеры штаба и политического управления флота.
 Член Военного совета тепло поздравил моряков с успешным выполнением
задания по приему и переводу кораблей, поблагодарил за проделанную работу.
Затем он сказал о стоящих перед флотом задачах и коротко охарактеризовал
наши:
-- Гитлеровцы в последнее время начали подтяги
вать подводные лодки с западных районов к нам на
Север, чтобы нарушить судоходство в этом районе. За
дача эсминцев -- сорвать замысел врага.
Вице-адмирал А. А. Николаев и его спутники беседовали с командирами
кораблей и личным составом. Эти беседы отличались простотой и
непринужденностью.
В первый же день после нашего прибытия из Англии, каждому хотелось
послать весточку родным н близким. Улучив момент, мы с минером Василием
Ла-риошиным отправились на почту.
-- Я пошлю сразу четыре телеграммы, а ты? --
спросил Василий.
Из трубы соседнего с почтой дома валил сизый дымок.
-- И дым отечества нам сладок п приятен! -- про
декламировал Лариошин, открывая дверь в почтовую
контору. Настроение у нас было приподнятое. Взяв те-
леграфные бланки, мы заполнили их и подали в окошко. И тут случился
конфуз: ни у меня, ни у Василия не оказалось денег. Как-то мы совсем забыли
о них на радостях. В Англии совсем не получали советских денег, а прибыв на
Родину, еще не успели получить. К счастью, телеграммы у нас приняли, а
квитанции выдали в долг. Мы, как выяснилось, были в тот день не одни такие
"забывчивые".
Случилось так, что в первые дни нашего пребывания на Севере по
счастливому совпадению на Северном флоте гостила делегация шефов --
посланцев тружеников Новосибирской области. Посетили шефы и наши корабли.
На "Живучем" побывали поэтесса Елизавета Стюарт и комсорг ЦК комсомола
одного из заводов Татьяна Шеховцова.
Комсомолка-сибирячка рассказала о том, как трудятся ее земляки на
промышленных предприятиях города, на колхозных и совхозных полях и фермах,
снабжая Красную Армию оружием, техникой, продовольствием.
Поэтесса Стюарт читала нам свои стихи. Некоторые строчки, запавшие в
душу, я тогда даже записал для памяти. Вот хотя бы эти:
Все испытай -- лишенья и страданья. Запомни все, чем эти дни полны.
Пойми, что значит -- ожидать свиданья, Отложенного до конца войны!
Ведь это прямо о нас, собравшихся здесь, в кубрике.
Прощаясь, поэтесса обещала, что непременно напишет о своей поездке на
Север, о незабываемых встречах с моряками-североморцами.
Тридцать два года спустя узнал, что Елизавета Константиновна сдержала
слово. Помог мне случай: "Литературная газета" поместила поздравление
Елизавете Стюарт в связи с ее 70-летием. Послал поздравление и я. Поэтесса
ответила мне. Она писала, что наш "Живучий" жив в ее памяти до сих пор.
Елизавета Константиновна прислала мне и томик своих стихов.
Несколько из них посвящено Северу. Надо ли говорить, как согрели душу
слова:
И память мне надолго сохранит Оттенки моря в тихий час отлива,
Неяркий день, нахмуренный гранит И над заливом чаек молчаливых '.
Хорошо запомнилось мне и первое впечатление, которое произвело на нас
Заполярье: деревянные домишки Ваенги на каменистых сопках, низкорослые
скрюченные деревца, редкий кустарник -- все это мы рассматривали с
интересом, все здесь для нас было в диковинку.
В конце августа и начале сентября на наших кораблях работали
инструкторы политического управления флота. С агитаторами нашего корабля они
провели беседу "Особенности международного положения и текущего момента".
А в мире происходили важные события. 4 сентября Еышла из войны
Финляндия, заявив о разрыве с Германией и о выводе немецких войск со своей
территории не позднее 15 сентября. Финны объявили о прекращении военных
действий на всех участках расположения финских войск. Советское Верховное
командование также прекратило военные действия на этом участке фронта. Были
и другие события, требовавшие правильной оценки и разъяснения. Ведь во время
пребывания за границей мы не всегда располагали нужной информацией, кроме
того союзники нередко пытались подсунуть "липу", поэтому квалифицированная
помощь флотских политработников была нам просто необходима.
Улеглись волнения, связанные с возвращением на Родину, начались будни.
Два эсминца -- наш "Живучий" и "Доблестный" стали в ремонт. Остальные шесть
были отправлены на задание -- им предстояло обеспечивать переход конвоев из
Карского моря в Иокангу и Архангельск (между архипелагом Норденшельда,
Диксоном, пунктами Новой Земли).
Как только "Живучий" ошвартовался у причала для ремонта, командир
корабля собрал в кают-компании всех офицеров. Рябченко был краток:
-- Нам приказано как можно быстрее восстановить боеспособность эсминца.
Надо не только устранить повреждения, но и воспользоваться стоянкой для
тщательной проверки, профилактического осмотра и ремонта всей техники и
вооружения. Разборку механизмов
Член Военного совета тепло поздравил моряков с успешным выполнением
задания по приему и переводу кораблей, поблагодарил за проделанную работу.
Затем он сказал о стоящих перед флотом задачах и коротко охарактеризовал
наши:
-- Гитлеровцы в последнее время начали подтяги
вать подводные лодки с западных районов к нам на
Север, чтобы нарушить судоходство в этом районе. За
дача эсминцев -- сорвать замысел врага.
Вице-адмирал А. А. Николаев и его спутники беседовали с командирами
кораблей и личным составом. Эти беседы отличались простотой и
непринужденностью.
В первый же день после нашего прибытия из Англии, каждому хотелось
послать весточку родным н близким. Улучив момент, мы с минером Василием
Ла-риошиным отправились на почту.
-- Я пошлю сразу четыре телеграммы, а ты? --
спросил Василий.
Из трубы соседнего с почтой дома валил сизый дымок.
-- И дым отечества нам сладок п приятен! -- про
декламировал Лариошин, открывая дверь в почтовую
контору. Настроение у нас было приподнятое. Взяв те-
леграфные бланки, мы заполнили их и подали в окошко. И тут случился
конфуз: ни у меня, ни у Василия не оказалось денег. Как-то мы совсем забыли
о них на радостях. В Англии совсем не получали советских денег, а прибыв на
Родину, еще не успели получить. К счастью, телеграммы у нас приняли, а
квитанции выдали в долг. Мы, как выяснилось, были в тот день не одни такие
"забывчивые".
Случилось так, что в первые дни нашего пребывания на Севере по
счастливому совпадению на Северном флоте гостила делегация шефов --
посланцев тружеников Новосибирской области. Посетили шефы и наши корабли.
На "Живучем" побывали поэтесса Елизавета Стюарт и комсорг ЦК комсомола
одного из заводов Татьяна Шеховцова.
Комсомолка-сибирячка рассказала о том, как трудятся ее земляки на
промышленных предприятиях города, на колхозных и совхозных полях и фермах,
снабжая Красную Армию оружием, техникой, продовольствием.
Поэтесса Стюарт читала нам свои стихи. Некоторые строчки, запавшие в
душу, я тогда даже записал для памяти. Вот хотя бы эти:
Все испытай -- лишенья и страданья. Запомни все, чем эти дни полны.
Пойми, что значит -- ожидать свиданья, Отложенного до конца войны!
Ведь это прямо о нас, собравшихся здесь, в кубрике.
Прощаясь, поэтесса обещала, что непременно напишет о своей поездке на
Север, о незабываемых встречах с моряками-североморцами.
Тридцать два года спустя узнал, что Елизавета Константиновна сдержала
слово. Помог мне случай: "Литературная газета" поместила поздравление
Елизавете Стюарт в связи с ее 70-летием. Послал поздравление и я. Поэтесса
ответила мне. Она писала, что наш "Живучий" жив в ее памяти до сих пор.
Елизавета Константиновна прислала мне и томик своих стихов.
Несколько из них посвящено Северу. Надо ли говорить, как согрели душу
слова:
И память мне надолго сохранит Оттенки моря в тихий час отлива,
Неяркий день, нахмуренный гранит И над заливом чаек молчаливых '.
Хорошо запомнилось мне и первое впечатление, которое произвело на нас
Заполярье: деревянные домишки Ваенги на каменистых сопках, низкорослые
скрюченные деревца, редкий кустарник -- все это мы рассматривали с
интересом, все здесь для нас было в диковинку.
В конце августа и начале сентября на наших кораблях работали
инструкторы политического управления флота. С агитаторами нашего корабля они
провели беседу "Особенности международного положения и текущего момента".
А в мире происходили важные события. 4 сентября Еышла из войны
Финляндия, заявив о разрыве с Германией и о выводе немецких войск со своей
территории не позднее 15 сентября. Финны объявили о прекращении военных
действий на всех участках расположения финских войск. Советское Верховное
командование также прекратило военные действия на этом участке фронта. Были
и другие события, требовавшие правильной оценки и разъяснения. Ведь во время
пребывания за границей мы не всегда располагали нужной информацией, кроме
того союзники нередко пытались подсунуть "липу", поэтому квалифицированная
помощь флотских политработников была нам просто необходима.
Улеглись волнения, связанные с возвращением на Родину, начались будни.
Два эсминца -- наш "Живучий" и "Доблестный" стали в ремонт. Остальные шесть
были отправлены на задание -- им предстояло обеспечивать переход конвоев из
Карского моря в Иокангу и Архангельск (между архипелагом Норденшельда,
Диксоном, пунктами Новой Земли).
Как только "Живучий" ошвартовался у причала для ремонта, командир
корабля собрал в кают-компании всех офицеров. Рябченко был краток:
-- Нам приказано как можно быстрее восстановить боеспособность эсминца.
Надо не только устранить повреждения, но и воспользоваться стоянкой для
тщательной проверки, профилактического осмотра и ремонта всей техники и
вооружения. Разборку механизмов
 1 Елизавета Стюарт. Избранное. Новосибирск,
Западно-сибирское кн. изд-во, 1976, с. 35.
использовать для повышения специальной подготовки старшин и
краснофлотцев.
Офицерам кроме того предстояло изучить новый театр военных действий,
тактические приемы вражеских подводных лодок, а также научиться мастерски
владеть оружием своего корабля.
Вечером собрался партийно-комсомольский актив, наметивший пути решения
стоящих перед экипажем задач.
От качества работы личного состава пятой боевой части зависела
боеспособность корабля. Об этом страстно и убедительно говорил на собрании
парторг подразделения Семен Циолковский. Говорил он как всегда быстро,
слегка картавя. Парторг пользовался большим авторитетом в своей боевой части
да и вообще на корабле. В работе Циолковский был неутомим, а в свободное
время успевал и побеседовать с каждым краснофлотцем, и помочь морякам
разобраться в тонкостях новой техники.
На комсомольском собрании артиллерийской боевой части комсорг старшина
2-й статьи Александр Сегинь
1 Елизавета Стюарт. Избранное. Новосибирск,
Западно-сибирское кн. изд-во, 1976, с. 35.
использовать для повышения специальной подготовки старшин и
краснофлотцев.
Офицерам кроме того предстояло изучить новый театр военных действий,
тактические приемы вражеских подводных лодок, а также научиться мастерски
владеть оружием своего корабля.
Вечером собрался партийно-комсомольский актив, наметивший пути решения
стоящих перед экипажем задач.
От качества работы личного состава пятой боевой части зависела
боеспособность корабля. Об этом страстно и убедительно говорил на собрании
парторг подразделения Семен Циолковский. Говорил он как всегда быстро,
слегка картавя. Парторг пользовался большим авторитетом в своей боевой части
да и вообще на корабле. В работе Циолковский был неутомим, а в свободное
время успевал и побеседовать с каждым краснофлотцем, и помочь морякам
разобраться в тонкостях новой техники.
На комсомольском собрании артиллерийской боевой части комсорг старшина
2-й статьи Александр Сегинь
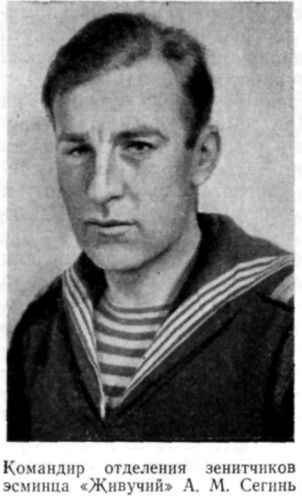 призвал комендоров и автоматчиков в совершенстве изучить оружие и умело
использовать его в бою. Он рассказал об опыте автоматчика Якова Сычева.
Слабым местом у "эрликонов" была боевая пружина -- она часто выходила из
строя. Сычев научился заменять боевую пружину автомата, не вынимая ствола.
Так же ловко он управлялся и с боевыми тягами. Эти нововведения значительно
упростили обслуживание автомата. Дельные предложения внесли также
комсомольцы Овчаренко и Балакин. Ремонт начался. На корабль прибыли рабо-
чие-судоремонтники. Однако многое нам предстояло сделать своими руками,
чтобы корабль как можно быстрее мог начать боевую деятельность.
В начале сентября был объявлен приказ о сформировании эскадры Северного
флота в составе линкора "Архангельск" (контр-адмирал В. И. Иванов), крейсера
"Мурманск" (капитан 1-го ранга А. И. Зубков) и трех дивизионов эскадренных
миноносцев. В 1-й днвн-зион эсминцев (капитан 1-го ранга А. И. Гурин)
входили лидер "Баку", гвардейский эсминец "Гремящий", эсминцы "Громкий",
"Грозный", "Разумный" и "Разъяренный". В составе 2-го дивизиона (капитан
2-го ранга М. Д. Осадчий) были эсминцы "Жаркий", "Живучий", "Жесткий",
"Жгучий", "Дерзкий" и "Доблестный". 3-й дивизион (капитан 2-го ранга Е. М.
Крашенинников) включал Краснознаменный эсминец "Валериан Куйбышев", эсминцы
"Карл Либкнехт", "Урицкий", "Достойный" и "Деятельный". Чуть позднее в него
вошел и эсминец "Дружный".
призвал комендоров и автоматчиков в совершенстве изучить оружие и умело
использовать его в бою. Он рассказал об опыте автоматчика Якова Сычева.
Слабым местом у "эрликонов" была боевая пружина -- она часто выходила из
строя. Сычев научился заменять боевую пружину автомата, не вынимая ствола.
Так же ловко он управлялся и с боевыми тягами. Эти нововведения значительно
упростили обслуживание автомата. Дельные предложения внесли также
комсомольцы Овчаренко и Балакин. Ремонт начался. На корабль прибыли рабо-
чие-судоремонтники. Однако многое нам предстояло сделать своими руками,
чтобы корабль как можно быстрее мог начать боевую деятельность.
В начале сентября был объявлен приказ о сформировании эскадры Северного
флота в составе линкора "Архангельск" (контр-адмирал В. И. Иванов), крейсера
"Мурманск" (капитан 1-го ранга А. И. Зубков) и трех дивизионов эскадренных
миноносцев. В 1-й днвн-зион эсминцев (капитан 1-го ранга А. И. Гурин)
входили лидер "Баку", гвардейский эсминец "Гремящий", эсминцы "Громкий",
"Грозный", "Разумный" и "Разъяренный". В составе 2-го дивизиона (капитан
2-го ранга М. Д. Осадчий) были эсминцы "Жаркий", "Живучий", "Жесткий",
"Жгучий", "Дерзкий" и "Доблестный". 3-й дивизион (капитан 2-го ранга Е. М.
Крашенинников) включал Краснознаменный эсминец "Валериан Куйбышев", эсминцы
"Карл Либкнехт", "Урицкий", "Достойный" и "Деятельный". Чуть позднее в него
вошел и эсминец "Дружный".
 Командующим эскадрой был назначен капитан 1-го ранга В. А. Фокин
(вскоре после этого ему было присвоено звание контр-адмирала). Начальником
штаба --• капитан 1-го ранга А. М. Румянцев, начальником политотдела --
капитан 1-го ранга Н. П. За-рембо.
Наш "Живучий" входил в состав 2-го дивизиона, которым командовал
капитан 2-го ранга М. Д. Осадчий. Прежде он был командиром "Жаркого", а еще
раньше -- в начале войны -- командиром эсминца "Славный", участвовал на нем
в знаменитом Таллинском прорыве (август 1941 г.).
Соотношение сил на Северном морском театре военных действий к этому
времени изменилось в нашу пользу. Теперь командование флотом ставило перед
надводными кораблями более сложные и ответственные, чем прежде, задачи.
Пока "Живучий" стоял в ремонте, часть членов экипажа была переведена на
другие корабли, находившиеся в строю. На смену убывшим пришли молодые
моряки. Произошли изменения и в офицерском составе. На новое место службы
ушел командир боевой части наблюдения и связи лейтенант Уланов. Его сменил
старший лейтенант Васильев, служивший ранее на кораблях морской пограничной
охраны.
Вслед за Улановым с корабля откомандировали старшего лейтенанта
медицинской службы Морозенко. Он получил назначение в Печенгу. На его место
был назначен младший лейтенант медицинской службы Щедролосев. На лидер
"Баку" убыл лейтенант Ларио-шин. Вместо него прибыл лейтенант Мотиенко.
Обновление экипажа не могло не сказаться на уровне профессиональной
подготовки старшин и краснофлотцев. Еще во время ремонтных работ выяснилось,
что некоторые из вновь прибывших нечетко представляют себе взаимодействие
деталей отдельных узлов и блоков корабельных механизмов, не всегда умеют
найти неисправность и устранить ее. На помощь новичкам пришли опытные
моряки, принимавшие и "обживавшие" корабль. Опять широко развернулась учеба.
Наибольшее внимание уделялось отработке задач непосредственно на боевых
постах, у действующих механизмов. Каждый специалист под наблюдением
командира самостоятельно запускал механизмы, управлял ими по командам,
останавливал. Лучше всех получалось у Фс-дорченко, Семенова и Карпова.
Артиллеристы практиковали проведение семинаров по обмену опытом. На
этих семинарах передовые комсомольцы Сегинь, Сычев, Овчаренко, Балакин и
другие делились с новичками своими знаниями, помогали краснофлотцам освоить
сложную технику, и это давало хорошие результаты. Даже самый молодой
краснофлотец Петр Пруткогляд вскоре начал самостоятельно нести вахту у
одного из механизмов. Этого симпатичного юношу с застенчивой девичьей
улыбкой все называли просто Петей. Он был вестовым у Никольского.
Командующим эскадрой был назначен капитан 1-го ранга В. А. Фокин
(вскоре после этого ему было присвоено звание контр-адмирала). Начальником
штаба --• капитан 1-го ранга А. М. Румянцев, начальником политотдела --
капитан 1-го ранга Н. П. За-рембо.
Наш "Живучий" входил в состав 2-го дивизиона, которым командовал
капитан 2-го ранга М. Д. Осадчий. Прежде он был командиром "Жаркого", а еще
раньше -- в начале войны -- командиром эсминца "Славный", участвовал на нем
в знаменитом Таллинском прорыве (август 1941 г.).
Соотношение сил на Северном морском театре военных действий к этому
времени изменилось в нашу пользу. Теперь командование флотом ставило перед
надводными кораблями более сложные и ответственные, чем прежде, задачи.
Пока "Живучий" стоял в ремонте, часть членов экипажа была переведена на
другие корабли, находившиеся в строю. На смену убывшим пришли молодые
моряки. Произошли изменения и в офицерском составе. На новое место службы
ушел командир боевой части наблюдения и связи лейтенант Уланов. Его сменил
старший лейтенант Васильев, служивший ранее на кораблях морской пограничной
охраны.
Вслед за Улановым с корабля откомандировали старшего лейтенанта
медицинской службы Морозенко. Он получил назначение в Печенгу. На его место
был назначен младший лейтенант медицинской службы Щедролосев. На лидер
"Баку" убыл лейтенант Ларио-шин. Вместо него прибыл лейтенант Мотиенко.
Обновление экипажа не могло не сказаться на уровне профессиональной
подготовки старшин и краснофлотцев. Еще во время ремонтных работ выяснилось,
что некоторые из вновь прибывших нечетко представляют себе взаимодействие
деталей отдельных узлов и блоков корабельных механизмов, не всегда умеют
найти неисправность и устранить ее. На помощь новичкам пришли опытные
моряки, принимавшие и "обживавшие" корабль. Опять широко развернулась учеба.
Наибольшее внимание уделялось отработке задач непосредственно на боевых
постах, у действующих механизмов. Каждый специалист под наблюдением
командира самостоятельно запускал механизмы, управлял ими по командам,
останавливал. Лучше всех получалось у Фс-дорченко, Семенова и Карпова.
Артиллеристы практиковали проведение семинаров по обмену опытом. На
этих семинарах передовые комсомольцы Сегинь, Сычев, Овчаренко, Балакин и
другие делились с новичками своими знаниями, помогали краснофлотцам освоить
сложную технику, и это давало хорошие результаты. Даже самый молодой
краснофлотец Петр Пруткогляд вскоре начал самостоятельно нести вахту у
одного из механизмов. Этого симпатичного юношу с застенчивой девичьей
улыбкой все называли просто Петей. Он был вестовым у Никольского.
 Свободного времени
почти не оставалось. На
берег сходили редко. По
этому каждое даже са
мое короткое увольнение
запоминалось надолго.
Было начало сентября.
На севере в эту пору уже
по-осеннему прохладно.
Но все равно мы с удо
вольствием бродили по
каменистым сопкам,
отыскивая похожие на черный виноград ягоды голубики, яркие бусинки
брусники. Любовались живописными маленькими озерками, встречавшимися едва ли
не на каждом шагу. В них как в зеркале отражались редкие облака, летящие на
юг. Своеобразная красота северной природы размягчала нас, навевала мысли о
доме, об отдыхе.
Хорошо бы сейчас на недельку в отпуск, -- взды
хал Никольский.
А кто будет ремонтом заниматься? -- язвил Про-
ничкин.
И все же наши мечты о встрече с родными, о побывке не были
беспочвенными. Командование сочло возможным, пока корабль стоит в ремонте,
предоставить отпуск нескольким офицерам, старшинам и краснофлотцам.
Первым выехал Проничкин. Он получил из дома печальное известие -- после
болезни умерла в Ульяновске его маленькая дочурка. Жена Ольга Федоровна
тяжело переживала эту утрату. Поддержка мужа была просто необходима.
Николай Иванович Никольский направился в Архангельск, где тогда
находились его жена с дочерью. Через несколько дней отпустили и меня к
родителям в Курскую область, в небольшой старинный городок Льгов. До Москвы
добрался без затруднений, зато с
Курского вокзала, который в то время был перегружен потоком пассажиров,
-- кроме военных, там скопилось много беженцев, возвращавшихся в
освобожденные от фашистских оккупантов районы, -- выбраться оказалось не
так-то просто. С трудом удалось втиснуться в "пять-сот-веселый",
представлявший собой состав из товарных вагонов, оборудованных нарами.
Я впервые проезжал места, разоренные войной. Особенно поражали масштабы
разрушений в районах, где в прошлом году проходила Курско-Орловская битва.
Орел, Поныри, Курск... От вокзалов и прилегающих к железнодорожным путям
зданий там остались лишь груды кирпича. Вдоль полотна то и дело попадались
изуродованные вагоны, разбитые танки, тяжелые орудия, другая военная
техника.
Во Льгов прибыл ночью. Родители не ожидали моего приезда, и радости их
не было предела. Отец еще до войны ушел с железной дороги на пенсию, но был
крепок и бодр, а теперь он выглядел глубоким стариком. В начале войны погиб
мой старший брат Николай, ушедший добровольцем на фронт с четвертого курса
института. Гибель сына и фашистская оккупация подорвали здоровье стариков.
Три моих брата воевали на разных франтах. И вот теперь старики жили
только нами, в ожидании весточки от сыновей, в постоянной тревоге за нас.
Мои письма, отправленные из Англии, родители получили. Об этом позаботилось
наше посольство в Лондоне,
Первую ночь никто в доме, конечно, не спал. Мать с отцом допытывались,
не беспокоят ли меня осколки, оставшиеся после ранения в боях на
"Ораниенбаумском пятачке", не опасно ли плавать на корабле. Расспрашивали об
Англии, о моих впечатлениях о ней. Отца удивил мой рассказ об узкой колее и
крохотных паровозиках на железных дорогах. Много вопросов задавал и я:
расспрашивал, как жили старики все эти тяжелые годы, что сталось с моими
сверстниками. С горечью узнал о гибели нескольких школьных товарищей и
друзей по улице.
За полтора года хозяйничания гитлеровцы причинили Льгову много бед.
Были разрушены оба паровозных депо, взорван ряд крупных зданий, вырублены
вековые дубы и сосны в парке, прилегающем к городу. В школе-новостройке
немцы устроили конюшню.
Свободного времени
почти не оставалось. На
берег сходили редко. По
этому каждое даже са
мое короткое увольнение
запоминалось надолго.
Было начало сентября.
На севере в эту пору уже
по-осеннему прохладно.
Но все равно мы с удо
вольствием бродили по
каменистым сопкам,
отыскивая похожие на черный виноград ягоды голубики, яркие бусинки
брусники. Любовались живописными маленькими озерками, встречавшимися едва ли
не на каждом шагу. В них как в зеркале отражались редкие облака, летящие на
юг. Своеобразная красота северной природы размягчала нас, навевала мысли о
доме, об отдыхе.
Хорошо бы сейчас на недельку в отпуск, -- взды
хал Никольский.
А кто будет ремонтом заниматься? -- язвил Про-
ничкин.
И все же наши мечты о встрече с родными, о побывке не были
беспочвенными. Командование сочло возможным, пока корабль стоит в ремонте,
предоставить отпуск нескольким офицерам, старшинам и краснофлотцам.
Первым выехал Проничкин. Он получил из дома печальное известие -- после
болезни умерла в Ульяновске его маленькая дочурка. Жена Ольга Федоровна
тяжело переживала эту утрату. Поддержка мужа была просто необходима.
Николай Иванович Никольский направился в Архангельск, где тогда
находились его жена с дочерью. Через несколько дней отпустили и меня к
родителям в Курскую область, в небольшой старинный городок Льгов. До Москвы
добрался без затруднений, зато с
Курского вокзала, который в то время был перегружен потоком пассажиров,
-- кроме военных, там скопилось много беженцев, возвращавшихся в
освобожденные от фашистских оккупантов районы, -- выбраться оказалось не
так-то просто. С трудом удалось втиснуться в "пять-сот-веселый",
представлявший собой состав из товарных вагонов, оборудованных нарами.
Я впервые проезжал места, разоренные войной. Особенно поражали масштабы
разрушений в районах, где в прошлом году проходила Курско-Орловская битва.
Орел, Поныри, Курск... От вокзалов и прилегающих к железнодорожным путям
зданий там остались лишь груды кирпича. Вдоль полотна то и дело попадались
изуродованные вагоны, разбитые танки, тяжелые орудия, другая военная
техника.
Во Льгов прибыл ночью. Родители не ожидали моего приезда, и радости их
не было предела. Отец еще до войны ушел с железной дороги на пенсию, но был
крепок и бодр, а теперь он выглядел глубоким стариком. В начале войны погиб
мой старший брат Николай, ушедший добровольцем на фронт с четвертого курса
института. Гибель сына и фашистская оккупация подорвали здоровье стариков.
Три моих брата воевали на разных франтах. И вот теперь старики жили
только нами, в ожидании весточки от сыновей, в постоянной тревоге за нас.
Мои письма, отправленные из Англии, родители получили. Об этом позаботилось
наше посольство в Лондоне,
Первую ночь никто в доме, конечно, не спал. Мать с отцом допытывались,
не беспокоят ли меня осколки, оставшиеся после ранения в боях на
"Ораниенбаумском пятачке", не опасно ли плавать на корабле. Расспрашивали об
Англии, о моих впечатлениях о ней. Отца удивил мой рассказ об узкой колее и
крохотных паровозиках на железных дорогах. Много вопросов задавал и я:
расспрашивал, как жили старики все эти тяжелые годы, что сталось с моими
сверстниками. С горечью узнал о гибели нескольких школьных товарищей и
друзей по улице.
За полтора года хозяйничания гитлеровцы причинили Льгову много бед.
Были разрушены оба паровозных депо, взорван ряд крупных зданий, вырублены
вековые дубы и сосны в парке, прилегающем к городу. В школе-новостройке
немцы устроили конюшню.
 В день отъезда я увидел группу пленных немцев, разбиравших разрушенное
здание вокзала. Здесь у них был покорный и жалкий вид. А я хорошо помнил,
как совсем недавно, под Ленинградом, они нагло шли в психическую атаку с
засученными рукавами, наигрывая на губных гармошках.
Позднее во время политбесед я рассказывал краснофлотцам обо всем
увиденном...
Вернувшись на корабль, узнал, что многие члены экипажей, участвовавших
в приемке английских эсминцев, удостоены высоких правительственных наград, в
том числе и 42 моряка с нашего "Живучего".
В Кольском заливе стояли на якорях линкор "Архангельск" под флагом
командующего эскадрой и крейсер "Мурманск". Эсминцы продолжали обеспечивать
противолодочную оборону внутренних коммуникаций в Карском море. Линкор и
крейсер находились в постоянной боевой готовности. Этого не могло не
учитывать гитлеровское военно-морское командование. Не случайно, с тех пор
ни один крупный надводный корабль противника больше в море не появлялся.
Время рейдеров, рыскавших в водах Арктики в поисках легкой добычи, ушло
безвозвратно.
Убедившись в бесплодности попыток своих подводных лодок проникнуть в
Кольский залив к якорным стоянкам крупных кораблей и судов, немцы
активизировали действия на северных морских коммуникациях.
Для эскортирования транспортов до прибытия нашего Отряда привлекались
эсминцы, сторожевые корабли, катера, тральщики, "большие охотники" за
подводными лодками и противолодочная авиация ВВС флота. После сформирования
эскадры Северного флота эсминцы стали основой противолодочной обороны
конвоев в Баренцевом и Карском морях. Особую роль в конвойных операциях они
стали играть в осенний период, когда из-за частых штормов использование
"больших" и "малых охотников" за подводными лодками было ограничено.
Нагрузка на эскадренные миноносцы заметно возросла.
Как я уже говорил, принятые в Англии корабли уступали по техническому
состоянию и вооружению отечественным. Но на них плавали такие же советские
моряки, как и на эсминцах "Гремящий", "Урицкий" и других боевых кораблях.
Первые же конвойные операции,
4 Г Г Поляков 97
В день отъезда я увидел группу пленных немцев, разбиравших разрушенное
здание вокзала. Здесь у них был покорный и жалкий вид. А я хорошо помнил,
как совсем недавно, под Ленинградом, они нагло шли в психическую атаку с
засученными рукавами, наигрывая на губных гармошках.
Позднее во время политбесед я рассказывал краснофлотцам обо всем
увиденном...
Вернувшись на корабль, узнал, что многие члены экипажей, участвовавших
в приемке английских эсминцев, удостоены высоких правительственных наград, в
том числе и 42 моряка с нашего "Живучего".
В Кольском заливе стояли на якорях линкор "Архангельск" под флагом
командующего эскадрой и крейсер "Мурманск". Эсминцы продолжали обеспечивать
противолодочную оборону внутренних коммуникаций в Карском море. Линкор и
крейсер находились в постоянной боевой готовности. Этого не могло не
учитывать гитлеровское военно-морское командование. Не случайно, с тех пор
ни один крупный надводный корабль противника больше в море не появлялся.
Время рейдеров, рыскавших в водах Арктики в поисках легкой добычи, ушло
безвозвратно.
Убедившись в бесплодности попыток своих подводных лодок проникнуть в
Кольский залив к якорным стоянкам крупных кораблей и судов, немцы
активизировали действия на северных морских коммуникациях.
Для эскортирования транспортов до прибытия нашего Отряда привлекались
эсминцы, сторожевые корабли, катера, тральщики, "большие охотники" за
подводными лодками и противолодочная авиация ВВС флота. После сформирования
эскадры Северного флота эсминцы стали основой противолодочной обороны
конвоев в Баренцевом и Карском морях. Особую роль в конвойных операциях они
стали играть в осенний период, когда из-за частых штормов использование
"больших" и "малых охотников" за подводными лодками было ограничено.
Нагрузка на эскадренные миноносцы заметно возросла.
Как я уже говорил, принятые в Англии корабли уступали по техническому
состоянию и вооружению отечественным. Но на них плавали такие же советские
моряки, как и на эсминцах "Гремящий", "Урицкий" и других боевых кораблях.
Первые же конвойные операции,
4 Г Г Поляков 97
 в которых довелось участвовать "шипам", показали высокую боевую выучку
личного состава. В сентябре эсминцы успешно провели несколько арктических
конвоев. Все атаки вражеских лодок были отражены, конвои потерь не имели.
В октябре наши корабли действовали еще успешнее. В начале месяца во
время конвоирования четырех транспортов по маршруту Диксон -- Югорский Шар
"Деятельный" обнаружил гитлеровскую подводную лодку и забросал ее глубинными
бомбами. Лодка, по крайнем мере, была повреждена, ибо на поверхности воды
появилось большое соляровое пятно, а потом и воздушные пузыри.
На следующий день "Деятельный" атаковал другую подводную лодку. После
третьего захода на бомбометание взрывами глубинных бомб ее выбросило наружу,
но она тут же снова погрузилась. Но на поверхности воды появились признаки
повреждения подводного хищника. Так в одном походе "Деятельный" вывел из
строя две вражеские подводные лодки.
23 сентября с очередным конвоем прибыл из Англии эскадренный миноносец
"Дружный". С тех пор прошло много лет, но мне удалось разыскать людей,
причастных к истории появления в нашем флоте эсминца "Дружный", ознакомиться
с архивными материалами. Вот что выяснилось.
Англичане не могли удовлетворить наше требование снабдить запасными
частями принятые от них восемь эсминцев, объясняя это тем, что корабли были
построены тридцать лет назад в Америке и запасные части к ним не
сохранились. Тогда глава Советской военной миссии Н. М. Харламов предложил
англичанам передать на запасные части целый эсминец, однотипный с принятыми.
Английское адмиралтейство не сразу с этим согласилось. Только за суткн до
выхода Отряда кораблей ВМФ в Мурманск был получен положительный ответ.
Корабль, или "запасные части", как стали называть девятый эсминец, надо
было принять, освоить и перевести в Мурманск. Срочно пришлось для него
формировать команду, снимая моряков с других кораблей. Снова предстояло
чистить трюмы, обивать ржавчину, ремонтировать механизмы и оборудование,
проводить ходовые испытания... В общем, проделать то, что уже
в которых довелось участвовать "шипам", показали высокую боевую выучку
личного состава. В сентябре эсминцы успешно провели несколько арктических
конвоев. Все атаки вражеских лодок были отражены, конвои потерь не имели.
В октябре наши корабли действовали еще успешнее. В начале месяца во
время конвоирования четырех транспортов по маршруту Диксон -- Югорский Шар
"Деятельный" обнаружил гитлеровскую подводную лодку и забросал ее глубинными
бомбами. Лодка, по крайнем мере, была повреждена, ибо на поверхности воды
появилось большое соляровое пятно, а потом и воздушные пузыри.
На следующий день "Деятельный" атаковал другую подводную лодку. После
третьего захода на бомбометание взрывами глубинных бомб ее выбросило наружу,
но она тут же снова погрузилась. Но на поверхности воды появились признаки
повреждения подводного хищника. Так в одном походе "Деятельный" вывел из
строя две вражеские подводные лодки.
23 сентября с очередным конвоем прибыл из Англии эскадренный миноносец
"Дружный". С тех пор прошло много лет, но мне удалось разыскать людей,
причастных к истории появления в нашем флоте эсминца "Дружный", ознакомиться
с архивными материалами. Вот что выяснилось.
Англичане не могли удовлетворить наше требование снабдить запасными
частями принятые от них восемь эсминцев, объясняя это тем, что корабли были
построены тридцать лет назад в Америке и запасные части к ним не
сохранились. Тогда глава Советской военной миссии Н. М. Харламов предложил
англичанам передать на запасные части целый эсминец, однотипный с принятыми.
Английское адмиралтейство не сразу с этим согласилось. Только за суткн до
выхода Отряда кораблей ВМФ в Мурманск был получен положительный ответ.
Корабль, или "запасные части", как стали называть девятый эсминец, надо
было принять, освоить и перевести в Мурманск. Срочно пришлось для него
формировать команду, снимая моряков с других кораблей. Снова предстояло
чистить трюмы, обивать ржавчину, ремонтировать механизмы и оборудование,
проводить ходовые испытания... В общем, проделать то, что уже
 было выполнено на восьми эсминцах, но всего за три недели, остававшиеся
до выхода очередного арктического конвоя. Эту задачу назначенным в экипаж
людям пришлось решать самостоятельно: Отряд кораблей ВМФ покинул Англию.
Ввиду того что принимался не боевой корабль, а запасные части, а также из-за
нехватки людей, в состав экипажа включили всего 63 человека, то есть в два
раза меньше, чем положено по штатному расписанию.
Поздним вечером 16 августа, накануне выхода линкора "Архангельск" из
Скапа-Флоу, в каюте флагмана обсуждались кандидатуры командира и заместителя
по политчасти на девятый эсминец. Капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо предложил
назначить замполитом начальника агитпропчасти политотдела Отряда капитана
3-го ранга Н. В. Матковского.
-- У него солидный боевой опыт по службе на Черноморском флоте, в
Азовской и Волжской флотилиях, большая практика партийно-политической
работы. Перед войной Матковский защитил диссертацию, стал кандидатом
исторических наук, -- сказал начальник политотдела. -- Пожалуй, это самая
подходящая кандидатура.
Вице-адмирал Г. И. Левченко и капитан 1-го ранга В. А. Фокин одобрили
это предложение.
--• Николай Васильевич, как вы смотрите, если мы оставим вас еще
на некоторое время в Англии? -- спросил Зарембо у Матковского, вызванного в
салон командующего Отрядом. -- Предлагаю вас замполитом на эсминец,
предназначенный на запасные части. Задача очень ответственная, решать ее
придется самостоятельно и в короткий срок. В экипаже половина коммунистов,
остальные -- комсомольцы. Обстановку здешнюю вы знаете. Вот только
командира еще не подобрали. Снять с одного из эсминцев, сами понимаете,
нельзя, а нужен весьма опытный офицер. Может быть, у вас есть подходящая
кандидатура?
-- Я хорошо знаю капитана 2-го ранга А. Е. Пастухова, нашего
флагштурмана. Александр Евгеньевич -- опытный моряк, в сложной обстановке и
бою не растеряется, -- уверенно ответил Матковский. Его предложение тоже
было принято.
На следующий день сборный экипаж девятого эсминца был высажен с
"Архангельска" на остров Хой --• один из небольших островков
военно-морской базы Ска-па-Флоу. Пять суток жили советские моряки в бараке,
ожидая отправки в Ньюкасл, на корабль. За это время офицеры познакомились с
матросами и старшинами, распределили специалистов по заведованиям, сделали
наброски корабельных расписаний. Здесь же были созданы партийная и
комсомольская организации.
"Запасной частью" оказался эсминец "Монтгомери". Корабль участвовал в
битве за Нарвик, имел боевые повреждения, "сидел" на камнях. Утратив
мореходные качества, он был прибуксирован в Англию, подремонтирован и
поставлен на прикол. Советскому экипажу предстояло за несколько дней
выполнить огромный объем работ, чтобы обеспечить плавучесть корабля, ввести
в строй механизмы. Эта сложная задача сплотила моряков, хотя все они
неохотно оставались в Англии на новый срок -- хотели скорее домой, на
Родину, стремились принять участие в боевых операциях.
Командир корабля был занят в основном решением множества
организационных вопросов, и для общения с личным составом у него почти не
оставалось времени. Этот пробел успешно заполнял замполит. Н. В. Матковский
хорошо понимал чувства и настроения моряков, умело подбирал нужный ключик к
разным характерам.
Всего три дня потребовалось для приема корабля от англичан. Штурман В.
С. Присяжнюк о тех днях говорил: "Как только подняли наш Военно-морской
флаг, а значит, обрели кусочек советской территории, настроение у всех
поднялось". Еще десять суток продолжался на корабле аврал: скребли,
вычищали, красили, ремонтировали, отлаживали, проводили ходовые испытания...
100
6 сентября самостоятельно перешли в Скапа-Флоу вдоль восточного
побережья Великобритании, минуя позиции вражеских лодок и минные поля. Здесь
предстояло завершить подготовку к плаванию на Родину.
"Перед нашим выходом в море, -- вспоминал А. Е. Пастухов, --
представитель английского адмиралтейства предупредил меня, чтобы мы не
давали ход свыше 10 узлов, не сбрасывали глубинных бомб, так как корпус и
механизмы могут не выдержать вибрации и сотрясений".
"А если шторм, встреча с вражеской подводной лодкой или авианалет?" --
такая мысль приходила в голову не только командиру, но вслух об этом не
говорили.
14 сентября у экипажа был радостный день: корабль вышел из Скапа-Флоу в
бухту Лонг-Ив, где формировался арктический конвой. Значит, скоро домой. Но
тут случилось происшествие, поставившее под угрозу участие эсминца в
предстоящем переходе: в первом котельном отделении неожиданно возник пожар
-- сказались дефекты в термоизоляции. Командир решил аварийную тревогу не
объявлять, пожар ликвидировать силами кочегаров.
Борьбу с огнем возглавили замполит Матковский и командир
электромеханической боевой части Хайн. Уже через пять минут на мостике
зазвонил телефон:
-- Пожар ликвидируется, распространение огня ло
кализовано. Начали готовить к вводу второй котел.
Все кончилось благополучно, и эсминец отправился в далекий путь в
составе конвоя.
В Норвежском море корабли попали в жестокий шторм. Прогноз ничего
хорошего не обещал. Это обеспокоило командира -- не начнет ли смещаться
закрепленный груз (один из кубриков был загружен большими глубинными
бомбами). Пастухов приказал старпому Ойцеву выделить людей, согласовав
список с замполитом, снабдить их продовольствием, с тем чтобы они безотлучно
находились в кубрике на случай аварийной ситуации.
Через несколько минут на мостик поднялся замполит:
-- Вот список выделенных людей. Большинство из
них коммунисты. Разрешите и мне получить сухой па
ек, чтобы быть с ними, -- произнес Матковский, обра
щаясь к командиру корабля.
101
было выполнено на восьми эсминцах, но всего за три недели, остававшиеся
до выхода очередного арктического конвоя. Эту задачу назначенным в экипаж
людям пришлось решать самостоятельно: Отряд кораблей ВМФ покинул Англию.
Ввиду того что принимался не боевой корабль, а запасные части, а также из-за
нехватки людей, в состав экипажа включили всего 63 человека, то есть в два
раза меньше, чем положено по штатному расписанию.
Поздним вечером 16 августа, накануне выхода линкора "Архангельск" из
Скапа-Флоу, в каюте флагмана обсуждались кандидатуры командира и заместителя
по политчасти на девятый эсминец. Капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо предложил
назначить замполитом начальника агитпропчасти политотдела Отряда капитана
3-го ранга Н. В. Матковского.
-- У него солидный боевой опыт по службе на Черноморском флоте, в
Азовской и Волжской флотилиях, большая практика партийно-политической
работы. Перед войной Матковский защитил диссертацию, стал кандидатом
исторических наук, -- сказал начальник политотдела. -- Пожалуй, это самая
подходящая кандидатура.
Вице-адмирал Г. И. Левченко и капитан 1-го ранга В. А. Фокин одобрили
это предложение.
--• Николай Васильевич, как вы смотрите, если мы оставим вас еще
на некоторое время в Англии? -- спросил Зарембо у Матковского, вызванного в
салон командующего Отрядом. -- Предлагаю вас замполитом на эсминец,
предназначенный на запасные части. Задача очень ответственная, решать ее
придется самостоятельно и в короткий срок. В экипаже половина коммунистов,
остальные -- комсомольцы. Обстановку здешнюю вы знаете. Вот только
командира еще не подобрали. Снять с одного из эсминцев, сами понимаете,
нельзя, а нужен весьма опытный офицер. Может быть, у вас есть подходящая
кандидатура?
-- Я хорошо знаю капитана 2-го ранга А. Е. Пастухова, нашего
флагштурмана. Александр Евгеньевич -- опытный моряк, в сложной обстановке и
бою не растеряется, -- уверенно ответил Матковский. Его предложение тоже
было принято.
На следующий день сборный экипаж девятого эсминца был высажен с
"Архангельска" на остров Хой --• один из небольших островков
военно-морской базы Ска-па-Флоу. Пять суток жили советские моряки в бараке,
ожидая отправки в Ньюкасл, на корабль. За это время офицеры познакомились с
матросами и старшинами, распределили специалистов по заведованиям, сделали
наброски корабельных расписаний. Здесь же были созданы партийная и
комсомольская организации.
"Запасной частью" оказался эсминец "Монтгомери". Корабль участвовал в
битве за Нарвик, имел боевые повреждения, "сидел" на камнях. Утратив
мореходные качества, он был прибуксирован в Англию, подремонтирован и
поставлен на прикол. Советскому экипажу предстояло за несколько дней
выполнить огромный объем работ, чтобы обеспечить плавучесть корабля, ввести
в строй механизмы. Эта сложная задача сплотила моряков, хотя все они
неохотно оставались в Англии на новый срок -- хотели скорее домой, на
Родину, стремились принять участие в боевых операциях.
Командир корабля был занят в основном решением множества
организационных вопросов, и для общения с личным составом у него почти не
оставалось времени. Этот пробел успешно заполнял замполит. Н. В. Матковский
хорошо понимал чувства и настроения моряков, умело подбирал нужный ключик к
разным характерам.
Всего три дня потребовалось для приема корабля от англичан. Штурман В.
С. Присяжнюк о тех днях говорил: "Как только подняли наш Военно-морской
флаг, а значит, обрели кусочек советской территории, настроение у всех
поднялось". Еще десять суток продолжался на корабле аврал: скребли,
вычищали, красили, ремонтировали, отлаживали, проводили ходовые испытания...
100
6 сентября самостоятельно перешли в Скапа-Флоу вдоль восточного
побережья Великобритании, минуя позиции вражеских лодок и минные поля. Здесь
предстояло завершить подготовку к плаванию на Родину.
"Перед нашим выходом в море, -- вспоминал А. Е. Пастухов, --
представитель английского адмиралтейства предупредил меня, чтобы мы не
давали ход свыше 10 узлов, не сбрасывали глубинных бомб, так как корпус и
механизмы могут не выдержать вибрации и сотрясений".
"А если шторм, встреча с вражеской подводной лодкой или авианалет?" --
такая мысль приходила в голову не только командиру, но вслух об этом не
говорили.
14 сентября у экипажа был радостный день: корабль вышел из Скапа-Флоу в
бухту Лонг-Ив, где формировался арктический конвой. Значит, скоро домой. Но
тут случилось происшествие, поставившее под угрозу участие эсминца в
предстоящем переходе: в первом котельном отделении неожиданно возник пожар
-- сказались дефекты в термоизоляции. Командир решил аварийную тревогу не
объявлять, пожар ликвидировать силами кочегаров.
Борьбу с огнем возглавили замполит Матковский и командир
электромеханической боевой части Хайн. Уже через пять минут на мостике
зазвонил телефон:
-- Пожар ликвидируется, распространение огня ло
кализовано. Начали готовить к вводу второй котел.
Все кончилось благополучно, и эсминец отправился в далекий путь в
составе конвоя.
В Норвежском море корабли попали в жестокий шторм. Прогноз ничего
хорошего не обещал. Это обеспокоило командира -- не начнет ли смещаться
закрепленный груз (один из кубриков был загружен большими глубинными
бомбами). Пастухов приказал старпому Ойцеву выделить людей, согласовав
список с замполитом, снабдить их продовольствием, с тем чтобы они безотлучно
находились в кубрике на случай аварийной ситуации.
Через несколько минут на мостик поднялся замполит:
-- Вот список выделенных людей. Большинство из
них коммунисты. Разрешите и мне получить сухой па
ек, чтобы быть с ними, -- произнес Матковский, обра
щаясь к командиру корабля.
101
 Пастухов знал, что на замполита можно положиться, что он не только
хороший политработник, но и опытный моряк, что еще в 1932 году комсомолец
Матков-ский плавал вторым помощником капитана на теплоходе "Пионер", нес
вахту на ходовом мостике, не раз штормовал на Иссык-Куле. Командир был
уверен: в трудную минуту замполит сможет помочь не только словом, но и
делом.
-- Добро, -- удовлетворенно произнес Пастухов. -- Только пусть вас
хорошо задраят снаружи.
Предусмотрел командир и другие меры на случай аварии. Корабль все
больше зарывался носом, оголяя винты. Усилилась вибрация корпуса, а ход
уменьшать было нельзя. Отстать от конвоя -- значило стать мишенью для
гитлеровской подводной лодки...
Положение корабля становилось критическим. Однако командир своими
уверенными действиями, спокойствием задавал тон, все члены экипажа работали
четко, проявляя исключительную выносливость и мужество.
На меридиане Медвежьего начались атаки гитлеровских подводных лодок.
Взрывы глубинных бомб раздавались трое суток, пока конвои не вошел в
Кольский залив. Проникнуть внутрь охранения врагу так и не удалось.
Еще в Баренцевом море попали в полосу тумана. "Запчастям" пришлось
труднее всех: англичане сняли с корабля радиолокацию, и советские моряки
должны были проявить максимум бдительности, высокую морскую выучку, чтобы
избежать столкновения с другими судами. Грозила опасность и от плавающих
мин. Ветре-
102
ча с одной из них на подходах к Кольскому заливу едва не оказалась
роковой. Всего в нескольких метрах от борта заметил ее впередсмотрящий.
Резким отворотом вправо А. Е. Пастухову удалось избежать столкновения и
спасти эсминец от подрыва.
-- В годы войны мне приходилось попадать в раз
ные переделки, но этот переход на "запасных частях"
остался в памяти на всю жизнь, -- вспоминал Алек
сандр Евгеньевич Пастухов. -- Высокий патриотизм
и самоотверженность были характерны, конечно, не
только для нашего экипажа. Замечательные люди слу
жили и на других кораблях Северного флота. Но зада
чи, выпавшие на нашу долю, были необычными. Это по
нимал каждый член команды, и моряки делали подчас
невозможное в тех условиях.
Александр Евгеньевич скромно умолчал о том, что сам он весь переход не
сходил с мостика и экипаж это видел. Вера в командира на корабле очень много
значит. Немаловажен здесь и характер взаимоотношений командира с офицерами,
с личным составом. Особой, пожалуй, деловитостью и глубокой партийностью
отличались на эсминце отношения командира корабля и его заместителя по
политчасти. Они умело дополняли друг друга, понимали друг друга с полуслова
и во всем были единодушны.
С приходом эсминца, командующий эскадрой контрадмирал В. А. Фокин,
поздравляя личный состав с успешным выполнением задания, сказал:
-- Учитывая, что сложную задачу в такой короткий
срок мог выполнить только сплоченный И дружный кол
лектив, вашему кораблю командующий флотом решил
присвоить наименование -- "Дружный". В ответ на
слова адмирала раздалось громкое матросское "Ура!".
В начале октября вышел из ремонта эсминец "Доблестный", а за ним и наш
"Живучий". Настроение у всех было приподнятое -- североморцы, помогая
Красной Армии, громили немецких оккупантов на море и на суше. Теперь в
боевую сферу включались еще два наших корабля.
15 октября Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224
орудий войскам Карельского фронта и морякам Северного флота, освободившим
Пе-ченгу (Петсамо). В тот день эсминец "Живучий",
приняв все запасы до полных норм, стал на якорь в Кольском заливе.
После полуночи поступило приказание командующего эскадрой готовиться к
выходу на боевое задание. "Живучему" предстояло срочно доставить мазут (из
собственных запасов) двум сторожевикам, оказавшимся без топлива вдали от
базы.
Дело было так. Вечером 14 октября сторожевой корабль "Ураган" вышел в
Печенгу для траления фарватера, высадки десанта и доставки боезапаса. В
кильватер "Урагану" шел сторожевик "Смерч". По курсу и справа от
сторожевиков следовали два "больших охотника". На подходе к Линахамари
корабли попали в плотное минное заграждение. Параван-тралы одну за другой
подсекли 16 вражеских мин. Две из них взорвались в параване "Смерча". Оба
сторожевика получили повреждения -- потекли топливные цистерны. Едва
дотянули до Линахамари. Там в гавани цистерны законопатили, но топлива взять
было негде.
Минное поле наш командир решил форсировать вечером -- в период
наибольшего прилива. Якорные контактные мины в полную воду менее опасны. Но
с другой стороны, вероятность подрыва на плавающих минах в такое время выше.
На "Живучем" не было параван-тралов для индивидуальной защиты от мин. Была у
нас упрощенная противоминная обмотка, которая хоть и не очень надежно, но
все же страховала от магнитных мин. Впереди нас должны были идти тральщики.
Наша встреча с этими "малышами", переоборудованными из рыболовных
сейнеров, произошла в бухте Пум-манки. Там к нам на борт прибыл командир
дивизиона тральщиков капитан 2-го ранга Панфилов. Рябченко собрал в
кают-компании вахтенных офицеров. Комдив тральщиков познакомил нас с планом
противоминного обеспечения. Нам впервые приходилось так близко сталкиваться
с минной опасностью, поэтому слушали Панфилова очень внимательно. Особенно
запомнилось мне строгое указание "Живучему": на переходе держаться в
пределах узкой протраленной полосы. Для ориентировки на корме тральщиков
включались затемненные с боков белые огни.
Первыми с залива вышли тральщики. Следом за ними -- мы. Уже темнело, но
ходовые огни не включали. На баке и по бортам стояли наблюдатели с шестами в
104
руках для отвода плавающих мин. На мостике мерно попискивал "Асдик".
Подводных целей пока не было.
Прошло два часа. Трижды мы уклонялись от плавающих мин. И каждый раз,
когда мина оставалась за кормой, все затаенно вздыхали: "Слава богу,
пронесло".
"А что ждет нас впереди? Может, придется поддержать огнем наступающие
войска или сразиться с морским противником", -- этими мыслями я поделился с
артиллеристом Лисовским. Анатолий, ухмыльнувшись, заметил:
-- Это тебе не "Расторопный" с четырьмя "стотрид-
цатками". Те бьют до 25 километров и наводка с авто
матом стрельбы. А у нас что?
Анатолий был прав. Орудийные системы отечественных кораблей
обеспечивали весьма точную стрельбу по морским и береговым целям. На "шипах"
и калибр не тот, и наводка упрощенная...
Яркая вспышка впереди по курсу и последовавший за ней взрыв прервали
размышления. Через несколько секунд по палубе застучали падающие осколки.
Огонек "малыша", за которым мы шли, исчез.
-- Эх, подорвался-таки, бедолага, -- с сожалением,
произнес Рябченко.
У всех стоявших на мостике сжалось сердце -- каждый понимал, что
означает такой взрыв для сейнера.
-- Цел, цел тральщик! -- радостно доложил старши
на 2-й статьи Головин.
И действительно, исчезнувший было огонек снова появился впереди по
курсу. Оказалось, в трале взорвалась мина. За кормой тральщика поднялся
огромный столб воды. Он-то на время закрыл его от нас.
На руле у нас стоял старшина Папушин, напряженно всматривавшийся в
ночную тьму; нелегко было ему удерживать в узком фарватере стометровый
корабль. Уклоняясь от плавающих предметов, каждый из которых мог оказаться и
смертоносной миной, Папушин слегка отводил в сторону форштевень и тут же
выравнивал его по кильватерному огню тральщика. Как только рулевой делал
отворот, вахтенный офицер давал команду наблюдателям с шестами перейти на
шкафут опасного борта для отвода плавающих предметов.
А тральщики продолжали подсекать мины. Теперь взрывы стали раздаваться
чаще -- увеличилась плотность минного заграждения.
105
Пастухов знал, что на замполита можно положиться, что он не только
хороший политработник, но и опытный моряк, что еще в 1932 году комсомолец
Матков-ский плавал вторым помощником капитана на теплоходе "Пионер", нес
вахту на ходовом мостике, не раз штормовал на Иссык-Куле. Командир был
уверен: в трудную минуту замполит сможет помочь не только словом, но и
делом.
-- Добро, -- удовлетворенно произнес Пастухов. -- Только пусть вас
хорошо задраят снаружи.
Предусмотрел командир и другие меры на случай аварии. Корабль все
больше зарывался носом, оголяя винты. Усилилась вибрация корпуса, а ход
уменьшать было нельзя. Отстать от конвоя -- значило стать мишенью для
гитлеровской подводной лодки...
Положение корабля становилось критическим. Однако командир своими
уверенными действиями, спокойствием задавал тон, все члены экипажа работали
четко, проявляя исключительную выносливость и мужество.
На меридиане Медвежьего начались атаки гитлеровских подводных лодок.
Взрывы глубинных бомб раздавались трое суток, пока конвои не вошел в
Кольский залив. Проникнуть внутрь охранения врагу так и не удалось.
Еще в Баренцевом море попали в полосу тумана. "Запчастям" пришлось
труднее всех: англичане сняли с корабля радиолокацию, и советские моряки
должны были проявить максимум бдительности, высокую морскую выучку, чтобы
избежать столкновения с другими судами. Грозила опасность и от плавающих
мин. Ветре-
102
ча с одной из них на подходах к Кольскому заливу едва не оказалась
роковой. Всего в нескольких метрах от борта заметил ее впередсмотрящий.
Резким отворотом вправо А. Е. Пастухову удалось избежать столкновения и
спасти эсминец от подрыва.
-- В годы войны мне приходилось попадать в раз
ные переделки, но этот переход на "запасных частях"
остался в памяти на всю жизнь, -- вспоминал Алек
сандр Евгеньевич Пастухов. -- Высокий патриотизм
и самоотверженность были характерны, конечно, не
только для нашего экипажа. Замечательные люди слу
жили и на других кораблях Северного флота. Но зада
чи, выпавшие на нашу долю, были необычными. Это по
нимал каждый член команды, и моряки делали подчас
невозможное в тех условиях.
Александр Евгеньевич скромно умолчал о том, что сам он весь переход не
сходил с мостика и экипаж это видел. Вера в командира на корабле очень много
значит. Немаловажен здесь и характер взаимоотношений командира с офицерами,
с личным составом. Особой, пожалуй, деловитостью и глубокой партийностью
отличались на эсминце отношения командира корабля и его заместителя по
политчасти. Они умело дополняли друг друга, понимали друг друга с полуслова
и во всем были единодушны.
С приходом эсминца, командующий эскадрой контрадмирал В. А. Фокин,
поздравляя личный состав с успешным выполнением задания, сказал:
-- Учитывая, что сложную задачу в такой короткий
срок мог выполнить только сплоченный И дружный кол
лектив, вашему кораблю командующий флотом решил
присвоить наименование -- "Дружный". В ответ на
слова адмирала раздалось громкое матросское "Ура!".
В начале октября вышел из ремонта эсминец "Доблестный", а за ним и наш
"Живучий". Настроение у всех было приподнятое -- североморцы, помогая
Красной Армии, громили немецких оккупантов на море и на суше. Теперь в
боевую сферу включались еще два наших корабля.
15 октября Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224
орудий войскам Карельского фронта и морякам Северного флота, освободившим
Пе-ченгу (Петсамо). В тот день эсминец "Живучий",
приняв все запасы до полных норм, стал на якорь в Кольском заливе.
После полуночи поступило приказание командующего эскадрой готовиться к
выходу на боевое задание. "Живучему" предстояло срочно доставить мазут (из
собственных запасов) двум сторожевикам, оказавшимся без топлива вдали от
базы.
Дело было так. Вечером 14 октября сторожевой корабль "Ураган" вышел в
Печенгу для траления фарватера, высадки десанта и доставки боезапаса. В
кильватер "Урагану" шел сторожевик "Смерч". По курсу и справа от
сторожевиков следовали два "больших охотника". На подходе к Линахамари
корабли попали в плотное минное заграждение. Параван-тралы одну за другой
подсекли 16 вражеских мин. Две из них взорвались в параване "Смерча". Оба
сторожевика получили повреждения -- потекли топливные цистерны. Едва
дотянули до Линахамари. Там в гавани цистерны законопатили, но топлива взять
было негде.
Минное поле наш командир решил форсировать вечером -- в период
наибольшего прилива. Якорные контактные мины в полную воду менее опасны. Но
с другой стороны, вероятность подрыва на плавающих минах в такое время выше.
На "Живучем" не было параван-тралов для индивидуальной защиты от мин. Была у
нас упрощенная противоминная обмотка, которая хоть и не очень надежно, но
все же страховала от магнитных мин. Впереди нас должны были идти тральщики.
Наша встреча с этими "малышами", переоборудованными из рыболовных
сейнеров, произошла в бухте Пум-манки. Там к нам на борт прибыл командир
дивизиона тральщиков капитан 2-го ранга Панфилов. Рябченко собрал в
кают-компании вахтенных офицеров. Комдив тральщиков познакомил нас с планом
противоминного обеспечения. Нам впервые приходилось так близко сталкиваться
с минной опасностью, поэтому слушали Панфилова очень внимательно. Особенно
запомнилось мне строгое указание "Живучему": на переходе держаться в
пределах узкой протраленной полосы. Для ориентировки на корме тральщиков
включались затемненные с боков белые огни.
Первыми с залива вышли тральщики. Следом за ними -- мы. Уже темнело, но
ходовые огни не включали. На баке и по бортам стояли наблюдатели с шестами в
104
руках для отвода плавающих мин. На мостике мерно попискивал "Асдик".
Подводных целей пока не было.
Прошло два часа. Трижды мы уклонялись от плавающих мин. И каждый раз,
когда мина оставалась за кормой, все затаенно вздыхали: "Слава богу,
пронесло".
"А что ждет нас впереди? Может, придется поддержать огнем наступающие
войска или сразиться с морским противником", -- этими мыслями я поделился с
артиллеристом Лисовским. Анатолий, ухмыльнувшись, заметил:
-- Это тебе не "Расторопный" с четырьмя "стотрид-
цатками". Те бьют до 25 километров и наводка с авто
матом стрельбы. А у нас что?
Анатолий был прав. Орудийные системы отечественных кораблей
обеспечивали весьма точную стрельбу по морским и береговым целям. На "шипах"
и калибр не тот, и наводка упрощенная...
Яркая вспышка впереди по курсу и последовавший за ней взрыв прервали
размышления. Через несколько секунд по палубе застучали падающие осколки.
Огонек "малыша", за которым мы шли, исчез.
-- Эх, подорвался-таки, бедолага, -- с сожалением,
произнес Рябченко.
У всех стоявших на мостике сжалось сердце -- каждый понимал, что
означает такой взрыв для сейнера.
-- Цел, цел тральщик! -- радостно доложил старши
на 2-й статьи Головин.
И действительно, исчезнувший было огонек снова появился впереди по
курсу. Оказалось, в трале взорвалась мина. За кормой тральщика поднялся
огромный столб воды. Он-то на время закрыл его от нас.
На руле у нас стоял старшина Папушин, напряженно всматривавшийся в
ночную тьму; нелегко было ему удерживать в узком фарватере стометровый
корабль. Уклоняясь от плавающих предметов, каждый из которых мог оказаться и
смертоносной миной, Папушин слегка отводил в сторону форштевень и тут же
выравнивал его по кильватерному огню тральщика. Как только рулевой делал
отворот, вахтенный офицер давал команду наблюдателям с шестами перейти на
шкафут опасного борта для отвода плавающих предметов.
А тральщики продолжали подсекать мины. Теперь взрывы стали раздаваться
чаще -- увеличилась плотность минного заграждения.
105
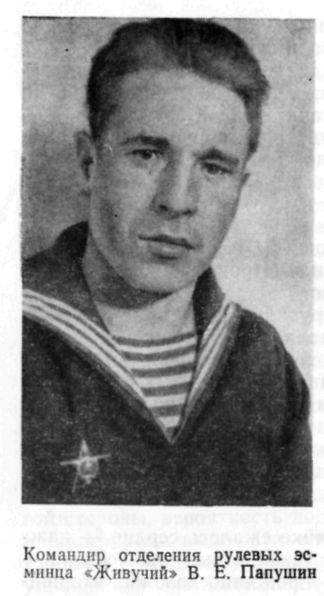 В один "прекрасный" момент комдив тральщиков Панфилов просемафорил:
"Тралы все перебиты, следуйте самостоятельно". К получению такой вводной мы
не были готовы. Корабельный устав на этот счет предусматривает: при
неясности обстановки застопорить машины, осмотреться, а потом принять
решение. Рябченко слегка нахмурился и перешел на правое крыло мостика.
Что будем делать
,
штурман?
По Морскому еже
годнику в этот час здесь
наибольший
прилив.
Осадка у нас небольшая,
если поторопимся, то мо
жем проскочить, -- вы
сказал свои соображения
Гончаров.
-- Средний вперед! -- последовала команда.
Как только машины дали ход, носовой и кормовой аварийным партиям была
объявлена готовность номер один, а личному составу приказано надеть
спасательные пояса. На мостике все притихли, лица стали жестче,
сосредоточеннее. Моряки, свободные от вахт, находились на верхней палубе --
при взрыве здесь менее опасно.
Сложность н опасность ситуации усугублялась тем, что вокруг не было
никаких навигационных ограждений и огней. Немцы при отступлении уничтожили
все гидрографическое оборудование.
-- Мина, право пять, три кабельтова! -- доложил
гидроакустик Василии Рыжиков. Он с самого выхода из
Пумманок не покидал рубку "Асдика". Вахтенный офи
цер Проничкин подправил курс рулевому, и мина оста
лась за кормой.
Командир отделения гидроакустиков Василии Рыжиков был у нас
специалистом высокого класса. Недавно его приняли в партию. Благодаря его
мастерству и бдительности мы трижды уклонялись от встречи с "рогатой
смертью".
В той сложной обстановке буквально все члены нашего экипажа проявили
мужество, самоотверженность, продемонстрировали высокую морскую выучку.
Поставленная перед кораблем задача была успешно выполнена. Эсминец прибыл в
Линахамари и стал на якорь в гавани.
Линахамари (по-русски -- Девкина Заводь) -- основной порт Печенгского
залива. Мы застали там картину полного разорения. Немцы при отступлении
взорвали все портовые сооружения -- причалы, краны, склады. Еще дымилась
куча полусгоревшего зерна, еще слышался отдаленный гул артиллерийской
канонады, далеко на западе вспыхивали зарницы пожаров.
В кают-компании за вечерним чаем офицеры оживленно обсуждали события
минувших суток, отовсюду слышались шутки, смех, словно всего каких-нибудь
два часа назад каждому из нас не угрожала смертельная опасность.
Много добрых слов было адресовано штурману Николаю Алексеевичу
Гончарову. В кубрике тоже чествовали "именинников" -- Папушина и Рыжикова.
После короткого отдыха снова за работу. У нашего правого борта уже
ошвартовался сторожевой корабль "Ураган". Началась перекачка топлива. Потом
передали мазут и воду на "Смерч", а сами приняли на борт более трехсот
бойцов и офицеров морской пехоты из бригады полковника Крылова для доставки
их в тыл на отдых и лечение.
За время стоянки в Линахамари успели осмотреть окрестности порта. На
причалах еще шла перепись оставленного врагом имущества. Несколько моряков
наблюдали за этой необычной работой. Любопытных, прибывших посмотреть
трофеи, угощали кислыми фруктовыми конфетами.
Побывали мы и на мысе Крестовом, где совсем недавно геройски дрались с
егерями отважные разведчики Леонова, Барченко-Емельянова, Пшеничных. Это они
помогли десантникам преодолеть в Линахамари рогатки из колючей проволоки,
фугасы и яростный огонь
пушек и огнеметов. Мы с интересом слушали подробности этой операции.
"Живучий" еще не раз заходил в Линахамари. Из Кольского залива мы
эскортировали транспорты с грузом, а на обратном пути производили поиск
вражеских подводных лодок.
В памяти сохранился эпизод, происшедший в один из тех дней.
Возвращаясь 26 октября из Линахамари, "Живучий" стал на якорь в
Пумманском заливе. Я тогда был на вахте. Вижу, со стороны противника летит
советский самолет. Вот он пошел на снижение. Не дотянув километра до берега,
машина упала в воду и тут же затонула.
На месте падения самолета я увидел плавающих в надувных жилетах людей.
Срочно доложил об этом командиру. Рябченко тут же послал "малый охотник"
"МО-431", сопровождавший "Живучий", подобрать летчиков. Вскоре экипаж
самолета был доставлен на эсминец. Пострадавшим быстро оказали необходимую
помощь, переодели в сухое, отвели их в каюту.
За ужином в кают-компании командир самолета лейтенант Николаев
рассказал подробности этого полета.
15 самолетов 36-го минно-торпедного полка под прикрытием 22
истребителей наносили удар по фашистским кораблям в Тана-фьорде'. Над целью
зенитный снаряд попал в их самолет. Вначале заглох левый мотор, потом стал
"чихать" правый. Видя, что до аэродрома не дотянуть, командир принял решение
сесть на воду, поближе к эсминцу, рассчитывая на помощь моряков. И она
подоспела вовремя. С того памятного дня у нас завязалась крепкая дружба с
морскими летчиками.
Вечером 1 ноября моряки "Живучего" слушали приказ Верховного
Главнокомандующего об освобождении всей Печенгской области. Было приятно
сознавать, что в этом есть и частица ратного труда нашего экипажа.
В один "прекрасный" момент комдив тральщиков Панфилов просемафорил:
"Тралы все перебиты, следуйте самостоятельно". К получению такой вводной мы
не были готовы. Корабельный устав на этот счет предусматривает: при
неясности обстановки застопорить машины, осмотреться, а потом принять
решение. Рябченко слегка нахмурился и перешел на правое крыло мостика.
Что будем делать
,
штурман?
По Морскому еже
годнику в этот час здесь
наибольший
прилив.
Осадка у нас небольшая,
если поторопимся, то мо
жем проскочить, -- вы
сказал свои соображения
Гончаров.
-- Средний вперед! -- последовала команда.
Как только машины дали ход, носовой и кормовой аварийным партиям была
объявлена готовность номер один, а личному составу приказано надеть
спасательные пояса. На мостике все притихли, лица стали жестче,
сосредоточеннее. Моряки, свободные от вахт, находились на верхней палубе --
при взрыве здесь менее опасно.
Сложность н опасность ситуации усугублялась тем, что вокруг не было
никаких навигационных ограждений и огней. Немцы при отступлении уничтожили
все гидрографическое оборудование.
-- Мина, право пять, три кабельтова! -- доложил
гидроакустик Василии Рыжиков. Он с самого выхода из
Пумманок не покидал рубку "Асдика". Вахтенный офи
цер Проничкин подправил курс рулевому, и мина оста
лась за кормой.
Командир отделения гидроакустиков Василии Рыжиков был у нас
специалистом высокого класса. Недавно его приняли в партию. Благодаря его
мастерству и бдительности мы трижды уклонялись от встречи с "рогатой
смертью".
В той сложной обстановке буквально все члены нашего экипажа проявили
мужество, самоотверженность, продемонстрировали высокую морскую выучку.
Поставленная перед кораблем задача была успешно выполнена. Эсминец прибыл в
Линахамари и стал на якорь в гавани.
Линахамари (по-русски -- Девкина Заводь) -- основной порт Печенгского
залива. Мы застали там картину полного разорения. Немцы при отступлении
взорвали все портовые сооружения -- причалы, краны, склады. Еще дымилась
куча полусгоревшего зерна, еще слышался отдаленный гул артиллерийской
канонады, далеко на западе вспыхивали зарницы пожаров.
В кают-компании за вечерним чаем офицеры оживленно обсуждали события
минувших суток, отовсюду слышались шутки, смех, словно всего каких-нибудь
два часа назад каждому из нас не угрожала смертельная опасность.
Много добрых слов было адресовано штурману Николаю Алексеевичу
Гончарову. В кубрике тоже чествовали "именинников" -- Папушина и Рыжикова.
После короткого отдыха снова за работу. У нашего правого борта уже
ошвартовался сторожевой корабль "Ураган". Началась перекачка топлива. Потом
передали мазут и воду на "Смерч", а сами приняли на борт более трехсот
бойцов и офицеров морской пехоты из бригады полковника Крылова для доставки
их в тыл на отдых и лечение.
За время стоянки в Линахамари успели осмотреть окрестности порта. На
причалах еще шла перепись оставленного врагом имущества. Несколько моряков
наблюдали за этой необычной работой. Любопытных, прибывших посмотреть
трофеи, угощали кислыми фруктовыми конфетами.
Побывали мы и на мысе Крестовом, где совсем недавно геройски дрались с
егерями отважные разведчики Леонова, Барченко-Емельянова, Пшеничных. Это они
помогли десантникам преодолеть в Линахамари рогатки из колючей проволоки,
фугасы и яростный огонь
пушек и огнеметов. Мы с интересом слушали подробности этой операции.
"Живучий" еще не раз заходил в Линахамари. Из Кольского залива мы
эскортировали транспорты с грузом, а на обратном пути производили поиск
вражеских подводных лодок.
В памяти сохранился эпизод, происшедший в один из тех дней.
Возвращаясь 26 октября из Линахамари, "Живучий" стал на якорь в
Пумманском заливе. Я тогда был на вахте. Вижу, со стороны противника летит
советский самолет. Вот он пошел на снижение. Не дотянув километра до берега,
машина упала в воду и тут же затонула.
На месте падения самолета я увидел плавающих в надувных жилетах людей.
Срочно доложил об этом командиру. Рябченко тут же послал "малый охотник"
"МО-431", сопровождавший "Живучий", подобрать летчиков. Вскоре экипаж
самолета был доставлен на эсминец. Пострадавшим быстро оказали необходимую
помощь, переодели в сухое, отвели их в каюту.
За ужином в кают-компании командир самолета лейтенант Николаев
рассказал подробности этого полета.
15 самолетов 36-го минно-торпедного полка под прикрытием 22
истребителей наносили удар по фашистским кораблям в Тана-фьорде'. Над целью
зенитный снаряд попал в их самолет. Вначале заглох левый мотор, потом стал
"чихать" правый. Видя, что до аэродрома не дотянуть, командир принял решение
сесть на воду, поближе к эсминцу, рассчитывая на помощь моряков. И она
подоспела вовремя. С того памятного дня у нас завязалась крепкая дружба с
морскими летчиками.
Вечером 1 ноября моряки "Живучего" слушали приказ Верховного
Главнокомандующего об освобождении всей Печенгской области. Было приятно
сознавать, что в этом есть и частица ратного труда нашего экипажа.
 1 ОЦВМА, ф. 47, д. 20700, л. 7; ф. 20, д. 17882, л. 266.
1 ОЦВМА, ф. 47, д. 20700, л. 7; ф. 20, д. 17882, л. 266.
ТАРАНОМ, СНАРЯДОМ И БОМБОЙ!
Осенью 1944 года Красная Армия громила гитлеровцев на подступах к
рейху, освобождая народы Европы от нацистской тирании. Крах фашистской
Германии был предопределен. Даже скептики за границей уже не сомневались в
этом. Но, как известно, "утопающий хватается за соломинку". Такой
"соломинкой", по мнению гросс-адмирала Деница, были для фашистов подводные
лодки. Дениц объявил, что только подводный флот может спасти Германию. Ему
удалось добиться дальнейшего увеличения строительства подводных лодок.
Появились опытовые подводные лодки с силовыми установками Вальтера,
способные развивать большую скорость под водой. Устройство "шнорхель"
позволяло им заряжать аккумуляторы и плавать под дизелями на перископной
глубине.
Когда на Севере наступила полярная ночь, гитлеровские подводные лодки
стали пиратствовать и в надводном положении. Радиолокационные и
гидроакустические станции позволяли фашистам скрытно выслеживать конвои и
отдельные суда. Против кораблей эскорта и транспортов враг применял
самонаводящиеся акустические торпеды. Кроме того, немцы использовали мины с
различными взрывателями, включая акустические и гидродинамические. Первые
взрывались от шумов работающих механизмов и гребных винтов, вторые -- от
изменения гидростатического давления воды, возникающего вблизи движущегося
судна.
Оснащение вражеских лодок новым оружием и техническими средствами
сопровождалось дальнейшим ростом их численности. К концу 1944 года в фьордах
Норвегии базировалось до 60 гитлеровских субмарин'.
Основными силами в борьбе с вражескими подводными лодками продолжали
оставаться эсминцы, сторожевые корабли, тральщики и "охотники" за подводными
лодками, а также противолодочная авиация. Последняя была оснащена
радиолокационными средствами для обнаружения и глубинными бомбами -- для
поражения подводного противника.
Защита морских коммуникаций осуществлялась в порядке повседневной
боевой деятельности флота. Однако для охраны особо важных конвоев
проводились боевые операции.
В этом случае увеличивался состав эскорта, усиливались разведка и
наблюдение за вражескими подводными лодками, а по маршруту перехода
производился предварительный поиск авиацией и кораблями.
В одной из таких операций в ноябре участвовал и наш "Живучий". Она
проводилась под руководством командующего Беломорской флотилией Северного
флота вице-адмирала Ю. А. Пантелеева и имела целью обеспечить безопасность
перехода крупных ледоколов "И. Сталин" и "Северный ветер" (конвой "АБ-15")
из центральной Арктики в Белое море после завершения ими арктической
навигации.
Гитлеровцы зорко следили за обстановкой в Арктике и заблаговременно
развернули на трассе перехода конвоя до 10 подводных лодок2.
Для непосредственного охранения конвоя было создано два отряда
эскортных кораблей. В них входили эскадренные миноносцы, сторожевики и
тральщики. Первый отряд в составе эсминца "Деятельный", шести "больших
охотников" и пяти тральщиков вступил в охранение 17 ноября у кромки льда в
Карском море. "Живучий" был включен в состав второго отряда, в который
входили также лидер "Баку", эсминцы "Гремящий", "Разумный", "Разъяренный",
"Жгучий", "Дерзкий" и "Доблестный". Командиром второго отряда был
 1 Вайнер Б. Л. Северный флот в Великой Отечественной войне.
Военнзлат, 1964, с 365.
2 Там же, с. 279.
капитан 1-го ранга А. И. Гурин. Отряд вышел навстречу конвою из Иоканги
в 2 часа ночи 18 ноября.
Погодные условия сложились неблагоприятно. Вначале пурга закрывала все
кругом, а чуть позже ее сменил густой туман. Потом все повторилось сначала.
Крепчал и ветер. Термометры показывали 18 градусов ниже нуля.
Я был на мостике. Порывистый ветер бросал в лицо сотни ледяных игл, от
уколов которых не спасал даже шерстяной подшлемник. До смены оставались
считанные минуты, но они тянулись необычно долго. Сменившись с вахты, я
зашел в кают-компанию погреться у электрического камина. Был поздний час, но
здесь я застал Гончарова и Никольского. Штурман в походах почти не вылезал
из рубки и только изредка спускался вниз выпить чашку чая. У его ног уютно
мурлыкала об-шая любимица команды кошка Мэри.
Кошки, я слышал, очень чувствительны к магнетизму, и на кораблях не
приживаются, но наша, очевидно, была исключением. Когда она ловила крыс,
никто не знал, хотя ежедневно мы обнаруживали по нескольку задавленных
грызунов. Крысы причиняли много неприятностей: таскали у матросов воротнички
и носки,
1 Вайнер Б. Л. Северный флот в Великой Отечественной войне.
Военнзлат, 1964, с 365.
2 Там же, с. 279.
капитан 1-го ранга А. И. Гурин. Отряд вышел навстречу конвою из Иоканги
в 2 часа ночи 18 ноября.
Погодные условия сложились неблагоприятно. Вначале пурга закрывала все
кругом, а чуть позже ее сменил густой туман. Потом все повторилось сначала.
Крепчал и ветер. Термометры показывали 18 градусов ниже нуля.
Я был на мостике. Порывистый ветер бросал в лицо сотни ледяных игл, от
уколов которых не спасал даже шерстяной подшлемник. До смены оставались
считанные минуты, но они тянулись необычно долго. Сменившись с вахты, я
зашел в кают-компанию погреться у электрического камина. Был поздний час, но
здесь я застал Гончарова и Никольского. Штурман в походах почти не вылезал
из рубки и только изредка спускался вниз выпить чашку чая. У его ног уютно
мурлыкала об-шая любимица команды кошка Мэри.
Кошки, я слышал, очень чувствительны к магнетизму, и на кораблях не
приживаются, но наша, очевидно, была исключением. Когда она ловила крыс,
никто не знал, хотя ежедневно мы обнаруживали по нескольку задавленных
грызунов. Крысы причиняли много неприятностей: таскали у матросов воротнички
и носки,
 грызли у офицеров погоны. А однажды они даже повредили свинцовый
кабель, выведя из строя размагничивающую противоминную обмотку. С грызунами
на корабле вели борьбу все -- делали силки на трубопроводах и других
коммуникациях, ставили капканы, но избавиться от крыс не удавалось.
Никольский любил заглянуть в кают-компанию просто так, "на огонек".
Здесь всегда можно было услышать новости походной жизни, узнать обстановку
"наверху".
Не успели мы перекинуться и парой фраз, как раздался сигнал боевой
тревоги. Быстро взбежав на мостик, я сразу понял причину: крупные волны одна
за другой перекатывались через низкий борт эсминца, доставали до надстроек.
На сильном морозе водяные струп сразу же замерзали, покрывая все сплошной
ледяной коркой. Льдом обросли мачты, палубы, мостик, орудия. От его тяжести
погнулись леерные стойки. Появился сильный крен, корабль плохо слушался
руля. На околку льда были брошены все силы.
грызли у офицеров погоны. А однажды они даже повредили свинцовый
кабель, выведя из строя размагничивающую противоминную обмотку. С грызунами
на корабле вели борьбу все -- делали силки на трубопроводах и других
коммуникациях, ставили капканы, но избавиться от крыс не удавалось.
Никольский любил заглянуть в кают-компанию просто так, "на огонек".
Здесь всегда можно было услышать новости походной жизни, узнать обстановку
"наверху".
Не успели мы перекинуться и парой фраз, как раздался сигнал боевой
тревоги. Быстро взбежав на мостик, я сразу понял причину: крупные волны одна
за другой перекатывались через низкий борт эсминца, доставали до надстроек.
На сильном морозе водяные струп сразу же замерзали, покрывая все сплошной
ледяной коркой. Льдом обросли мачты, палубы, мостик, орудия. От его тяжести
погнулись леерные стойки. Появился сильный крен, корабль плохо слушался
руля. На околку льда были брошены все силы.
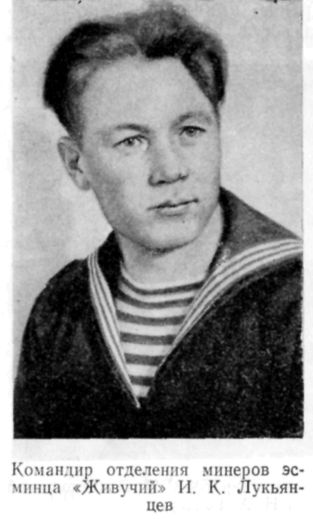 На шаткой и скользкой палубе, обдаваемые ледяными брызгами, моряки
ломами и лопатами бились со льдом. Труднее всех пришлось минерам. Волны все
чаще докатывались до кормы. Начали обмерзать в стеллажах глубинные бомбы.
Боеготовность кормового боевого поста оказалась под угрозой. Понятно, что
ломы здесь не могли пригодиться. Что же делать? Выход нашелся. Коммунист
Лукьянцев предложил отпаривать бомбы горячей водой. Минеры по очереди
спускались в котельное помещение и возвращались на ют с окутанными паром
ведрами в руках.
В тот день обледенение причинило нашим кораблям много хлопот. Позднее
мы уже подстраховывались на такой случай. Кочегары эсминца "Достойный"
внесли рацпредложение, которое сразу же стало достоянием всех кораблей.
Новшество оказалось довольно простым: вывели на корму гибкие шланги,
подключили их к паровому отоплению. При необходимости можно было паром
"резать" лед, как масло.
Наш отряд приближался к назначенному месту встречи. На экране локатора
засветилась береговая черта. Это Новая Земля. Через несколько минут появился
в поле зрения и конвой.
В 11 часов 19 ноября у выхода из Карских Ворот эсминцы второго отряда
вступили в охранение. Вскоре разыгрался девятибалльный шторм. Стихия
буквально бесновалась, волны свободно перекатывались через борт. Ходить по
палубе без риска быть смытым уже было нельзя. Выручали натянутые
заблаговременно штормовые леера. О подводной опасности больше не думали --
атаки лодок вряд ли возможны в такой кутерьме. Окалывали лед одной рукой,
второй надо было держаться за леер или надстройку. Люди выбивались из
последних сил, но, немного передохнув и обогревшись в кубрике, снова
выходили на палубу.
Шторм не унимался четверо суток. Когда конвой вошел в Белое море, даже
не верилось, что все позади. В порт корабли пришли изрядно потрепанными,
некоторые даже с поломками, но главное было сделано -- конвой прибыл к месту
назначения без потерь.
Примерно в то же время с Диксона в Иокангу шел другой конвой -- три
транспорта и танкер в охранении эсминца "Достойный", тральщиков и "больших
охотников". На их долю выпали еще большие испытания. Оказавшись в густом
тумане, который потом сменился частыми снежными зарядами, транспорты и
корабли эскорта потеряли друг друга. Ордер распался, суда остались без
охранения. А это было опасно.
Конвоем командовал командир эсминца "Достойный" капитан 3-го ранга Н.
И. Никольский1, опытнейший офицер и замечательный моряк. Двумя
годами раньше он, будучи командиром эсминца "Разъярен-
На шаткой и скользкой палубе, обдаваемые ледяными брызгами, моряки
ломами и лопатами бились со льдом. Труднее всех пришлось минерам. Волны все
чаще докатывались до кормы. Начали обмерзать в стеллажах глубинные бомбы.
Боеготовность кормового боевого поста оказалась под угрозой. Понятно, что
ломы здесь не могли пригодиться. Что же делать? Выход нашелся. Коммунист
Лукьянцев предложил отпаривать бомбы горячей водой. Минеры по очереди
спускались в котельное помещение и возвращались на ют с окутанными паром
ведрами в руках.
В тот день обледенение причинило нашим кораблям много хлопот. Позднее
мы уже подстраховывались на такой случай. Кочегары эсминца "Достойный"
внесли рацпредложение, которое сразу же стало достоянием всех кораблей.
Новшество оказалось довольно простым: вывели на корму гибкие шланги,
подключили их к паровому отоплению. При необходимости можно было паром
"резать" лед, как масло.
Наш отряд приближался к назначенному месту встречи. На экране локатора
засветилась береговая черта. Это Новая Земля. Через несколько минут появился
в поле зрения и конвой.
В 11 часов 19 ноября у выхода из Карских Ворот эсминцы второго отряда
вступили в охранение. Вскоре разыгрался девятибалльный шторм. Стихия
буквально бесновалась, волны свободно перекатывались через борт. Ходить по
палубе без риска быть смытым уже было нельзя. Выручали натянутые
заблаговременно штормовые леера. О подводной опасности больше не думали --
атаки лодок вряд ли возможны в такой кутерьме. Окалывали лед одной рукой,
второй надо было держаться за леер или надстройку. Люди выбивались из
последних сил, но, немного передохнув и обогревшись в кубрике, снова
выходили на палубу.
Шторм не унимался четверо суток. Когда конвой вошел в Белое море, даже
не верилось, что все позади. В порт корабли пришли изрядно потрепанными,
некоторые даже с поломками, но главное было сделано -- конвой прибыл к месту
назначения без потерь.
Примерно в то же время с Диксона в Иокангу шел другой конвой -- три
транспорта и танкер в охранении эсминца "Достойный", тральщиков и "больших
охотников". На их долю выпали еще большие испытания. Оказавшись в густом
тумане, который потом сменился частыми снежными зарядами, транспорты и
корабли эскорта потеряли друг друга. Ордер распался, суда остались без
охранения. А это было опасно.
Конвоем командовал командир эсминца "Достойный" капитан 3-го ранга Н.
И. Никольский1, опытнейший офицер и замечательный моряк. Двумя
годами раньше он, будучи командиром эсминца "Разъярен-
 1 Командир "Достойного" Николай Иванович Никольский
однофамилец и тезка командира БЧ-V "Живучего".
ный", совершил вместе с лидером "Баку" и эсминцем "Разумный"
беспримерный переход из Владивостока в Мурманск Северным морским путем.
Используя радиолокацию и радиостанцию внутриэс-кадренной связи,
Никольский сумел собрать конвой и повел его дальше. Погода ухудшалась,
участились снежные заряды, крупнее стала волна. Командир конвоя трое суток
не покидал мостика: транспорты и корабли охранения не раз сходили с курса и
терялись в зарядах. Никольского это нервировало, но, переговариваясь по
рации с капитанами, он держался корректно.
Когда ветер от норда усилился до девяти баллов, началось обледенение.
Быстрее других начал покрываться ледовым панцирем тральщик "Т-109". Почти
весь его экипаж, вооружившись ломиками и лопатами, упорно противостоял
стихии. Но корабль все больше кренился, уменьшился ход. Тральщик начал
отставать. Волны одна за другой перекатывались через его низкий борт, во
внутренние помещения стала проникать вода. Когда она попала в
аккумуляторную, произошел взрыв. Положение "Т-109" стало критическим, и его
командир запросил помощи.
К терпящему бедствие кораблю в район острова Колгуев направился
"Достойный". Тем временем, исчерпав все возможности спасти тральщик,
командир приказал спустить шлюпки. Команда покинула корабль, который на ее
глазах вскоре перевернулся и затонул.
Шторм не утихал, и многие из экипажа оказались в воде. Только через два
часа "Достойный" отыскал район гибели тральщика. В уцелевшей шлюпке
оказались три моряка: старшина 2-й статьи М. П. Разживин, старший
краснофлотец Л. А. Новосельцев и краснофлотец Ю. Л. Меликов. Немного в
стороне были обнаружены еще несколько человек, плававших на поверхности.
Обвязавшись пеньковыми тросами, моряки "Достойного" спускались за борт и
извлекали из воды окоченевших людей. Но все они оказались без признаков
жизни, и ничто им уже помочь не могло. Случилось это 22 ноября.
Пока "Достойный" оказывал помощь, суда конвоя и корабли эскорта снова
потеряли друг друга. Но это было уже в последний раз.
Конвой прибыл к месту назначения, потеряв тральщик почти со всем
экипажем.
На следующий день лидер "Баку", четыре эсминца, семь тральщиков и
"больших охотников" эскортировала из Белого моря в Кольский залив шесть
американских транспортов и три танкера. На подходе к заливу Лумбовского с
"Живучего" заметили, что "Деятельный" круто отвернул вправо и начал
сбрасывать глубинные бомбы. Контакт, видимо, был надежный, потому что
эсминец сделал еще два захода. Одна из атак оказалась удачной -- на
поверхности появилось огромное соляровое пятно.
Тогда же боевой успех сопутствовал и "Достойному". Вместе с эсминцем
"Дерзкий", тральщиками и "большими охотниками" он шел в охранении,
сопровождая два транспорта и танкер из Индиги в Иокангу. Первым обнаружил
врага "Дерзкий", а чуть позже -- "Достойный". После атаки глубинными бомбами
и реактивными минами на воде появились воздушные пузыри и соляр. Лодка
наверняка была повреждена или потоплена.
Немало хлопот доставляли кораблям плавающие мины. Наблюдение за ними
велось со всех верхних боевых постов. Считалось, что любой замеченный на
воде предмет -- плавающая мина.
Помнится, как после вахты у зенитного автомата в кубрик спустился
старший краснофлотец Клименко. Сбросив с плеч тяжелый полушубок и щурясь от
яркого света, пожаловался мне:
-- На транспортах моряки только на грех наводят -- сбрасывают за борт
всякую дрянь, море засоряют...
И с улыбкой рассказал, как обнаружил "мину", которая при ближайшем
рассмотрении оказалась ящиком из-под апельсинов. Рассказанный Клименко
случай оживленно обсуждался присутствующими. Пришли к заключению, что
плавающие мины все-таки встречаются чаще, чем ящики.
К началу зимнего периода часть эсминцев стала на ремонт. Нагрузка на
корабли эскадры, оставшиеся в строю, еще больше возросла. Декабрь в
Заполярье -- месяц, когда все ночь да сумерки и ни минуты дня. Только луна
порой, выглянув в разрывы облаков, высветит участок моря, взгорбленный
свинцовыми волнами. Не случайно гитлеровцы избрали этот месяц для активных
боевых действий.
В начале декабря они предприняли настоящий штурм морских коммуникаций
Северного флота. Отказавшись от преследования конвоев в открытом море,
адмирал Дениц решил направить подводные корабли к нашему побережью. Он
надеялся добиться больших результатов, да и считал, что здесь лодкам будет
безопаснее. На фоне скалистых берегов их труднее обнаружить
радиолокационными и гидроакустическими станциями кораблей, а также
визуально, когда они будут всплывать для зарядки аккумуляторных батарей.
Основным районом боевых действий вражеских подводных лодок стал
прибрежный участок морских коммуникаций от полуострова Рыбачий до мыса
Святой Нос. В отдельные дни у Кольского полуострова действовало до
двенадцати фашистских лодок1.
Добычей гитлеровцев становились даже рыбацкие мотоботы, промышлявшие у
побережья. Помнится, как вражеская подводная лодка пиратски напала на
мотобот в районе острова Нокуев, сначала обстреляв его артиллерией, а затем,
подойдя вплотную, опрокинула ударом в борт. Вражеские лодки неоднократно
обнаруживались на Кильдинском плесе и у входа в Кольский залив.
К борьбе с подводной опасностью командование флотом привлекло надводные
корабли, подводные лодки, самолеты, береговые радиолокационные и
гидроакустические станции, посты наблюдения и связи.
Политическое управление призвало коммунистов направить свою работу на
повышение боевой активности противолодочных сил, а также на усиление
бдительности дозорной, дежурной и вахтенной служб, на расширение пропаганды
боевого опыта, словом --- на политическое обеспечение морских операций. В
помощь агитаторам была выпущена брошюра "Очистим Баренцево море от
фашистских подводных лодок". В те дни на "Живучем" состоялось партийное
собрание, на котором были обсуждены новые задачи. В кубриках чаще стали
проводиться беседы о тактике подводного противника, разборы боевых
столкновений наших кораблей с вражескими лодками.
Поступали заявления о приеме в партию. Командир боевой части наблюдения
и связи эсминца "Живучий"
1 Командир "Достойного" Николай Иванович Никольский
однофамилец и тезка командира БЧ-V "Живучего".
ный", совершил вместе с лидером "Баку" и эсминцем "Разумный"
беспримерный переход из Владивостока в Мурманск Северным морским путем.
Используя радиолокацию и радиостанцию внутриэс-кадренной связи,
Никольский сумел собрать конвой и повел его дальше. Погода ухудшалась,
участились снежные заряды, крупнее стала волна. Командир конвоя трое суток
не покидал мостика: транспорты и корабли охранения не раз сходили с курса и
терялись в зарядах. Никольского это нервировало, но, переговариваясь по
рации с капитанами, он держался корректно.
Когда ветер от норда усилился до девяти баллов, началось обледенение.
Быстрее других начал покрываться ледовым панцирем тральщик "Т-109". Почти
весь его экипаж, вооружившись ломиками и лопатами, упорно противостоял
стихии. Но корабль все больше кренился, уменьшился ход. Тральщик начал
отставать. Волны одна за другой перекатывались через его низкий борт, во
внутренние помещения стала проникать вода. Когда она попала в
аккумуляторную, произошел взрыв. Положение "Т-109" стало критическим, и его
командир запросил помощи.
К терпящему бедствие кораблю в район острова Колгуев направился
"Достойный". Тем временем, исчерпав все возможности спасти тральщик,
командир приказал спустить шлюпки. Команда покинула корабль, который на ее
глазах вскоре перевернулся и затонул.
Шторм не утихал, и многие из экипажа оказались в воде. Только через два
часа "Достойный" отыскал район гибели тральщика. В уцелевшей шлюпке
оказались три моряка: старшина 2-й статьи М. П. Разживин, старший
краснофлотец Л. А. Новосельцев и краснофлотец Ю. Л. Меликов. Немного в
стороне были обнаружены еще несколько человек, плававших на поверхности.
Обвязавшись пеньковыми тросами, моряки "Достойного" спускались за борт и
извлекали из воды окоченевших людей. Но все они оказались без признаков
жизни, и ничто им уже помочь не могло. Случилось это 22 ноября.
Пока "Достойный" оказывал помощь, суда конвоя и корабли эскорта снова
потеряли друг друга. Но это было уже в последний раз.
Конвой прибыл к месту назначения, потеряв тральщик почти со всем
экипажем.
На следующий день лидер "Баку", четыре эсминца, семь тральщиков и
"больших охотников" эскортировала из Белого моря в Кольский залив шесть
американских транспортов и три танкера. На подходе к заливу Лумбовского с
"Живучего" заметили, что "Деятельный" круто отвернул вправо и начал
сбрасывать глубинные бомбы. Контакт, видимо, был надежный, потому что
эсминец сделал еще два захода. Одна из атак оказалась удачной -- на
поверхности появилось огромное соляровое пятно.
Тогда же боевой успех сопутствовал и "Достойному". Вместе с эсминцем
"Дерзкий", тральщиками и "большими охотниками" он шел в охранении,
сопровождая два транспорта и танкер из Индиги в Иокангу. Первым обнаружил
врага "Дерзкий", а чуть позже -- "Достойный". После атаки глубинными бомбами
и реактивными минами на воде появились воздушные пузыри и соляр. Лодка
наверняка была повреждена или потоплена.
Немало хлопот доставляли кораблям плавающие мины. Наблюдение за ними
велось со всех верхних боевых постов. Считалось, что любой замеченный на
воде предмет -- плавающая мина.
Помнится, как после вахты у зенитного автомата в кубрик спустился
старший краснофлотец Клименко. Сбросив с плеч тяжелый полушубок и щурясь от
яркого света, пожаловался мне:
-- На транспортах моряки только на грех наводят -- сбрасывают за борт
всякую дрянь, море засоряют...
И с улыбкой рассказал, как обнаружил "мину", которая при ближайшем
рассмотрении оказалась ящиком из-под апельсинов. Рассказанный Клименко
случай оживленно обсуждался присутствующими. Пришли к заключению, что
плавающие мины все-таки встречаются чаще, чем ящики.
К началу зимнего периода часть эсминцев стала на ремонт. Нагрузка на
корабли эскадры, оставшиеся в строю, еще больше возросла. Декабрь в
Заполярье -- месяц, когда все ночь да сумерки и ни минуты дня. Только луна
порой, выглянув в разрывы облаков, высветит участок моря, взгорбленный
свинцовыми волнами. Не случайно гитлеровцы избрали этот месяц для активных
боевых действий.
В начале декабря они предприняли настоящий штурм морских коммуникаций
Северного флота. Отказавшись от преследования конвоев в открытом море,
адмирал Дениц решил направить подводные корабли к нашему побережью. Он
надеялся добиться больших результатов, да и считал, что здесь лодкам будет
безопаснее. На фоне скалистых берегов их труднее обнаружить
радиолокационными и гидроакустическими станциями кораблей, а также
визуально, когда они будут всплывать для зарядки аккумуляторных батарей.
Основным районом боевых действий вражеских подводных лодок стал
прибрежный участок морских коммуникаций от полуострова Рыбачий до мыса
Святой Нос. В отдельные дни у Кольского полуострова действовало до
двенадцати фашистских лодок1.
Добычей гитлеровцев становились даже рыбацкие мотоботы, промышлявшие у
побережья. Помнится, как вражеская подводная лодка пиратски напала на
мотобот в районе острова Нокуев, сначала обстреляв его артиллерией, а затем,
подойдя вплотную, опрокинула ударом в борт. Вражеские лодки неоднократно
обнаруживались на Кильдинском плесе и у входа в Кольский залив.
К борьбе с подводной опасностью командование флотом привлекло надводные
корабли, подводные лодки, самолеты, береговые радиолокационные и
гидроакустические станции, посты наблюдения и связи.
Политическое управление призвало коммунистов направить свою работу на
повышение боевой активности противолодочных сил, а также на усиление
бдительности дозорной, дежурной и вахтенной служб, на расширение пропаганды
боевого опыта, словом --- на политическое обеспечение морских операций. В
помощь агитаторам была выпущена брошюра "Очистим Баренцево море от
фашистских подводных лодок". В те дни на "Живучем" состоялось партийное
собрание, на котором были обсуждены новые задачи. В кубриках чаще стали
проводиться беседы о тактике подводного противника, разборы боевых
столкновений наших кораблей с вражескими лодками.
Поступали заявления о приеме в партию. Командир боевой части наблюдения
и связи эсминца "Живучий"
 1 О ЦВМ А, ф. 254, д. 37804, л. 13.
старший лейтенант Николай Васильев в заявлении писал: "Хочу на поиске и
уничтожении фашистских подводных лодок быть коммунистом".
Надо сказать, что Васильев с первых дней прихода на "Живучий" обратил
на себя внимание энергией и инициативностью. Быстро ознакомившись с
иностранной техникой, он постоянно придумывал разные усовершенствования,
помогавшие эффективнее использовать ее в бою.
По его предложению и под его руководством на корабле радиофицировали
каюты (у англичан радиотрансляция была только в кают-компании и кубриках --
для передачи команд и боевых распоряжений). Проблему динамиков Васильев
решил просто: использовал неисправные трофейные радиоприемники, раздобытые
им же.
Высокое звание коммуниста Васильев оправдал с честью. Радиометристы и
сигнальщики его боевой части несли службу четко, а средства связи работали
надежно.
Планы гитлеровцев были сорваны. Все попытки подводных лодок проникнуть
в Кольский залив и другие пункты базирования флота оказались тщетными.
Малоэффективными были и их действия против наших судов.
Активным противолодочным кораблем эскадры зарекомендовал себя эсминец
"Деятельный". Командовал им капитан 3-го ранга Пантелеймон Максимович
Гончар, старый североморец, имевший большой служебный и боевой опыт. Нашему
"Живучему" много раз приходилось вместе с "Деятельным" участвовать в
выполнении боевых заданий. Один из таких совместных походов мне хорошо
запомнился.
3 декабря стояли мы в Полярном. Я заступил на вахту. Только начали
приводить корабль после похода в порядок -- командира вызвали в штаб.
Не прошло и часа, как вахтенный дал три звонка: возвращается командир.
Выбегаю из дежурной рубки встречать, но Рябченко, махнув рукой (дескать, не
до этикета), бросил на ходу:
-- Все работы прекратить, выходим в море. Баржа с мазутом на подходе,
глубинные бомбы и продукты сейчас подвезут. Организуйте погрузку. Старпома и
командира БЧ-V ко мне!
...В тяжелых штормовых условиях северо-западнее Канина Носа у
транспорта "Вологда" кончилось топливо. Его взял на буксир тральщик No 37.
Суда направлялись в Иокангу. Лучшей добычи для вражеских лодок, чем эти две
малоподвижные цели, не могло и быть. Командование флотом решило срочно
выслать на помощь "Живучий" и "Деятельный".
Котлы не успели еще остыть, и в топках снова загудели форсунки. Быстро
шла приемка мазута. Комендоры и минеры катили по шкафуту тяжелые глубинные
бомбы. Расходное отделение заканчивало погрузку продуктов.
По радиотрансляции дали команду:
-- Походной вахте заступить!
Загудели турбовентиляторы, послышались короткие звонки -- проверялась
аварийная сигнализация. В 21 час оба эсминца вышли из Кольского залива.
Впереди -- "Деятельный". Ход 20 узлов. По трансляции старпом Проничкин
объявил:
--• Боевая готовность No 2. Очередной боевой смене заступить.
Поднявшись на мостик и подождав немного, пока глаза привыкнут к
темноте, я стал принимать вахту. Высокая встречная волна закрывала обзор,
заливала бак, окатывала ледяными брызгами. По курсу то и дело возникали
снежные заряды, резко уменьшавшие видимость. Вся надежда была на
радиометристов. Подошли уже к расчетной точке, а на экранах радиолокаторов
по-прежнему чисто. Сигнальщики тщетно вглядывались в ночную темень.
Прошло не меньше часа, прежде чем мы обнаружили тральщик, с трудом
тащивший на буксире транспорт.
Заняв места в охранном ордере, резко сбавили ход. Скорость буксировки
была малой, и эсминцы едва слушались руля. Только к середине следующего дня
все четыре корабля подошли к Иоканге. Но у самого входа едва не случилась
беда: гидроакустик Рыжиков, заступивший на вахту, прямо по курсу обнаружил
две мины. Только вчера здесь тральщики очистили фарватер от вражеских мин, а
они появились снова. Значит, где-то рядом скрывается подводная лодка, следит
за действиями наших кораблей, выставляет мины. Обнаружить ее пока не
удавалось.
118
В Иоканге нас ожидало новое задание --• следовать навстречу конвою
в район Савахи для усиления эскорта.
Пока тральщики уничтожали мины, нам удалось пополнить запасы. И снова
привычная команда:
-- По местам стоять, со швартовов сниматься!
И снова эсминцы в море.
В составе конвоя были два транспорта и три тральщика. Встреча с ними
состоялась вскоре по выходе из базы. И на этот раз суда мы довели
благополучно.
Но постоять в базе так и не пришлось. В ночь на 5 декабря "Живучий" и
"Деятельный" вышли на поиск подводных лодок. Район патрулирования -- вдоль
побережья Святого Носа до Кольского залива.
В этом походе удалось обнаружить и атаковать несколько вражеских
субмарин. Шли в левом уступе. Ведущим -- "Деятельный". Видимость постепенно
улучшалась. В просветах облаков иногда появлялась луна. В эти минуты
сигнальщики старались осмотреть возможно большую часть моря. Стрелки часов
показывали один час тридцать пять минут.
-- Слева 10 -- силуэты! -- доложил краснофлотец
Фролов. Капитан 3-го ранга Гончар приказал осветить
цель. Орудие старшины 2-й статьи Михайлова произве
ло выстрел. Яркий свет "фонарей" озарил море, и стояв
шие на мостике эсминца отчетливо увидели две подвод
ные лодки. Одна из них тут же начала погружаться,
а вторая продолжала сближаться с "Деятельным". Эс
минец устремился на вражескую лодку, намереваясь
таранить ее.
Почуяв опасность, фашисты стали срочно погружаться. Вначале скрылся нос
лодки, но до нее оставалось еще метров двести, а ход на пределе. Когда вода
сомкнулась над рубкой, форштевень эсминца был в каких-нибудь 20--30 метрах.
Какая досада!
Минеры корабля под руководством мичмана Рыжова уже подготовили большую
серию глубинных бомб. Когда по команде с мостика краснофлотцы Панченко,
Морозов и Пастушок сбросили их, за кормой раздался взрыв. Столб дыма и
пламени поднялся на месте погружения вражеской лодки. Подоспел наш "Живучий"
и тоже сбросил большую серию глубинных бомб. Развернувшийся тем временем
"Деятельный" еще раз "проутюжил" то место, где, по предположениям, находился
враг. Наблюдатели заметили метрах в десяти
119
спасательный буй с подводной лодки, а чуть дальше -- какие-то плавающие
предметы и большое соляровое пятно. Контакт был потерян, поиск продолжался.
Заняв места в строю, эсминцы следовали курсом на вест. Наступило утро,
по-прежнему было темно. На вахту заступила очередная боевая смена. Впереди
уже угадывался Кильдин.
Скоро попорот в базу. Там желанный отдых, письма, встречи с друзьями.
Когда эсминцы вышли на Кильдинский плес, с мостика "Деятельного"
старшина 2-й статьи Крайнов первым заметил едва различимый силуэт. Сомнений
не было: вражеская лодка заряжает аккумуляторы. Прозвучал сигнал боевой
тревоги. Увеличив ход, эсминец пошел на сближение с подводной лодкой. Враг
заметил это и срочно начал уходить под воду. Но тут не растерялись зенитчики
краснофлотцы Шелегов и Козлов. Они открыли огонь из автоматических пушек.
Одна из трасс угодила прямо в рубку подводной лодки. Ночную мглу озарило
бледно-голубое пламя, вскоре исчезнувшее вместе с погрузившейся лодкой. А
вслед ей полетели бомбы.
Сбросил серию и наш "Живучий". Казалось, лодка потоплена.
Обнаружение эсминцами в небольшом районе трех вражеских подводных лодок
в надводном положении -- редкий случай. Командующий флотом решил с этим
лично разобраться и вызвал к себе на командный пункт командиров эсминцев с
кальками маневрирования и журналами.
Как проходила та встреча с командующим флотом, рассказал Николай
Дмитриевич Рябченко.
По длинному коридору в сопровождении дежурного шел он с капитаном 3-го
ранга Гончаром и думал, как их действия оценит адмирал, как примет, что
скажет. Для Рябченко это была первая встреча с А. Г. Головко. О доступности
и личном обаянии адмирала на флоте знали многие. Не раз возвратившись из
похода, мы видели командующего на пирсе у кораблей, встречали его и в Доме
флота.
Многим запомнился такой случай. Как-то вечером в Доме флота адмирал
Головко играл в домино с молодыми офицерами. Партнером комфлота был
вице-адмирал Николаев. Их противники -- лейтенанты чувствова-
120
1 О ЦВМ А, ф. 254, д. 37804, л. 13.
старший лейтенант Николай Васильев в заявлении писал: "Хочу на поиске и
уничтожении фашистских подводных лодок быть коммунистом".
Надо сказать, что Васильев с первых дней прихода на "Живучий" обратил
на себя внимание энергией и инициативностью. Быстро ознакомившись с
иностранной техникой, он постоянно придумывал разные усовершенствования,
помогавшие эффективнее использовать ее в бою.
По его предложению и под его руководством на корабле радиофицировали
каюты (у англичан радиотрансляция была только в кают-компании и кубриках --
для передачи команд и боевых распоряжений). Проблему динамиков Васильев
решил просто: использовал неисправные трофейные радиоприемники, раздобытые
им же.
Высокое звание коммуниста Васильев оправдал с честью. Радиометристы и
сигнальщики его боевой части несли службу четко, а средства связи работали
надежно.
Планы гитлеровцев были сорваны. Все попытки подводных лодок проникнуть
в Кольский залив и другие пункты базирования флота оказались тщетными.
Малоэффективными были и их действия против наших судов.
Активным противолодочным кораблем эскадры зарекомендовал себя эсминец
"Деятельный". Командовал им капитан 3-го ранга Пантелеймон Максимович
Гончар, старый североморец, имевший большой служебный и боевой опыт. Нашему
"Живучему" много раз приходилось вместе с "Деятельным" участвовать в
выполнении боевых заданий. Один из таких совместных походов мне хорошо
запомнился.
3 декабря стояли мы в Полярном. Я заступил на вахту. Только начали
приводить корабль после похода в порядок -- командира вызвали в штаб.
Не прошло и часа, как вахтенный дал три звонка: возвращается командир.
Выбегаю из дежурной рубки встречать, но Рябченко, махнув рукой (дескать, не
до этикета), бросил на ходу:
-- Все работы прекратить, выходим в море. Баржа с мазутом на подходе,
глубинные бомбы и продукты сейчас подвезут. Организуйте погрузку. Старпома и
командира БЧ-V ко мне!
...В тяжелых штормовых условиях северо-западнее Канина Носа у
транспорта "Вологда" кончилось топливо. Его взял на буксир тральщик No 37.
Суда направлялись в Иокангу. Лучшей добычи для вражеских лодок, чем эти две
малоподвижные цели, не могло и быть. Командование флотом решило срочно
выслать на помощь "Живучий" и "Деятельный".
Котлы не успели еще остыть, и в топках снова загудели форсунки. Быстро
шла приемка мазута. Комендоры и минеры катили по шкафуту тяжелые глубинные
бомбы. Расходное отделение заканчивало погрузку продуктов.
По радиотрансляции дали команду:
-- Походной вахте заступить!
Загудели турбовентиляторы, послышались короткие звонки -- проверялась
аварийная сигнализация. В 21 час оба эсминца вышли из Кольского залива.
Впереди -- "Деятельный". Ход 20 узлов. По трансляции старпом Проничкин
объявил:
--• Боевая готовность No 2. Очередной боевой смене заступить.
Поднявшись на мостик и подождав немного, пока глаза привыкнут к
темноте, я стал принимать вахту. Высокая встречная волна закрывала обзор,
заливала бак, окатывала ледяными брызгами. По курсу то и дело возникали
снежные заряды, резко уменьшавшие видимость. Вся надежда была на
радиометристов. Подошли уже к расчетной точке, а на экранах радиолокаторов
по-прежнему чисто. Сигнальщики тщетно вглядывались в ночную темень.
Прошло не меньше часа, прежде чем мы обнаружили тральщик, с трудом
тащивший на буксире транспорт.
Заняв места в охранном ордере, резко сбавили ход. Скорость буксировки
была малой, и эсминцы едва слушались руля. Только к середине следующего дня
все четыре корабля подошли к Иоканге. Но у самого входа едва не случилась
беда: гидроакустик Рыжиков, заступивший на вахту, прямо по курсу обнаружил
две мины. Только вчера здесь тральщики очистили фарватер от вражеских мин, а
они появились снова. Значит, где-то рядом скрывается подводная лодка, следит
за действиями наших кораблей, выставляет мины. Обнаружить ее пока не
удавалось.
118
В Иоканге нас ожидало новое задание --• следовать навстречу конвою
в район Савахи для усиления эскорта.
Пока тральщики уничтожали мины, нам удалось пополнить запасы. И снова
привычная команда:
-- По местам стоять, со швартовов сниматься!
И снова эсминцы в море.
В составе конвоя были два транспорта и три тральщика. Встреча с ними
состоялась вскоре по выходе из базы. И на этот раз суда мы довели
благополучно.
Но постоять в базе так и не пришлось. В ночь на 5 декабря "Живучий" и
"Деятельный" вышли на поиск подводных лодок. Район патрулирования -- вдоль
побережья Святого Носа до Кольского залива.
В этом походе удалось обнаружить и атаковать несколько вражеских
субмарин. Шли в левом уступе. Ведущим -- "Деятельный". Видимость постепенно
улучшалась. В просветах облаков иногда появлялась луна. В эти минуты
сигнальщики старались осмотреть возможно большую часть моря. Стрелки часов
показывали один час тридцать пять минут.
-- Слева 10 -- силуэты! -- доложил краснофлотец
Фролов. Капитан 3-го ранга Гончар приказал осветить
цель. Орудие старшины 2-й статьи Михайлова произве
ло выстрел. Яркий свет "фонарей" озарил море, и стояв
шие на мостике эсминца отчетливо увидели две подвод
ные лодки. Одна из них тут же начала погружаться,
а вторая продолжала сближаться с "Деятельным". Эс
минец устремился на вражескую лодку, намереваясь
таранить ее.
Почуяв опасность, фашисты стали срочно погружаться. Вначале скрылся нос
лодки, но до нее оставалось еще метров двести, а ход на пределе. Когда вода
сомкнулась над рубкой, форштевень эсминца был в каких-нибудь 20--30 метрах.
Какая досада!
Минеры корабля под руководством мичмана Рыжова уже подготовили большую
серию глубинных бомб. Когда по команде с мостика краснофлотцы Панченко,
Морозов и Пастушок сбросили их, за кормой раздался взрыв. Столб дыма и
пламени поднялся на месте погружения вражеской лодки. Подоспел наш "Живучий"
и тоже сбросил большую серию глубинных бомб. Развернувшийся тем временем
"Деятельный" еще раз "проутюжил" то место, где, по предположениям, находился
враг. Наблюдатели заметили метрах в десяти
119
спасательный буй с подводной лодки, а чуть дальше -- какие-то плавающие
предметы и большое соляровое пятно. Контакт был потерян, поиск продолжался.
Заняв места в строю, эсминцы следовали курсом на вест. Наступило утро,
по-прежнему было темно. На вахту заступила очередная боевая смена. Впереди
уже угадывался Кильдин.
Скоро попорот в базу. Там желанный отдых, письма, встречи с друзьями.
Когда эсминцы вышли на Кильдинский плес, с мостика "Деятельного"
старшина 2-й статьи Крайнов первым заметил едва различимый силуэт. Сомнений
не было: вражеская лодка заряжает аккумуляторы. Прозвучал сигнал боевой
тревоги. Увеличив ход, эсминец пошел на сближение с подводной лодкой. Враг
заметил это и срочно начал уходить под воду. Но тут не растерялись зенитчики
краснофлотцы Шелегов и Козлов. Они открыли огонь из автоматических пушек.
Одна из трасс угодила прямо в рубку подводной лодки. Ночную мглу озарило
бледно-голубое пламя, вскоре исчезнувшее вместе с погрузившейся лодкой. А
вслед ей полетели бомбы.
Сбросил серию и наш "Живучий". Казалось, лодка потоплена.
Обнаружение эсминцами в небольшом районе трех вражеских подводных лодок
в надводном положении -- редкий случай. Командующий флотом решил с этим
лично разобраться и вызвал к себе на командный пункт командиров эсминцев с
кальками маневрирования и журналами.
Как проходила та встреча с командующим флотом, рассказал Николай
Дмитриевич Рябченко.
По длинному коридору в сопровождении дежурного шел он с капитаном 3-го
ранга Гончаром и думал, как их действия оценит адмирал, как примет, что
скажет. Для Рябченко это была первая встреча с А. Г. Головко. О доступности
и личном обаянии адмирала на флоте знали многие. Не раз возвратившись из
похода, мы видели командующего на пирсе у кораблей, встречали его и в Доме
флота.
Многим запомнился такой случай. Как-то вечером в Доме флота адмирал
Головко играл в домино с молодыми офицерами. Партнером комфлота был
вице-адмирал Николаев. Их противники -- лейтенанты чувствова-
120
 ли себя вначале скованно, напряженно, играли молча. Но адмиралы
держались очень просто, и вскоре лейтенанты повеселели и стали по ходу игры
бросать реплики, острить. Под конец партии они так "разошлись", что
почувствовали себя совсем свободно, а один из них, войдя в азарт, даже
переступил черту дозволенного.
-- Силен, бродяга! --
восхитился он очередным
"каверзным" ходом вице-
адмирала Николаева. Го
ловко, не спеша, мягко
приставил свою костяш
ку и с расстановкой,
четко произнес:
-- Не бродяга, а член
Военного совета!
Тут только лейтенант спохватился, что допустил бестактность. С краской
на лице он вскочил, принял положение "Смирно" и удрученно произнес:
Виноват, товарищ адмирал!
Ничего, бывает! Садитесь, но в следующий раз
увлекаться не следует, -- произнес Головко. Николаев
промолчал.
Игра продолжалась.
По окончании партии Головко и Николаев тепло распрощались со своими
молодыми партнерами. Для последних это был урок на всю жизнь. Эпизод с
лейтенантами и вспомнил Рябченко, идя по штабному коридору вдоль множества
дверей.
Дежурный подвел офицеров к кабинету командующего н, козырнув, удалился.
Адмирал Головко, немного сутулясь, встал из-за стола и тепло
поздоровался с вошедшими. Пригласив командиров сесть и опустившись в кресло,
мягко, но с легкой укоризной произнес:
-- Как же это вы упустили фрицев?
121
ли себя вначале скованно, напряженно, играли молча. Но адмиралы
держались очень просто, и вскоре лейтенанты повеселели и стали по ходу игры
бросать реплики, острить. Под конец партии они так "разошлись", что
почувствовали себя совсем свободно, а один из них, войдя в азарт, даже
переступил черту дозволенного.
-- Силен, бродяга! --
восхитился он очередным
"каверзным" ходом вице-
адмирала Николаева. Го
ловко, не спеша, мягко
приставил свою костяш
ку и с расстановкой,
четко произнес:
-- Не бродяга, а член
Военного совета!
Тут только лейтенант спохватился, что допустил бестактность. С краской
на лице он вскочил, принял положение "Смирно" и удрученно произнес:
Виноват, товарищ адмирал!
Ничего, бывает! Садитесь, но в следующий раз
увлекаться не следует, -- произнес Головко. Николаев
промолчал.
Игра продолжалась.
По окончании партии Головко и Николаев тепло распрощались со своими
молодыми партнерами. Для последних это был урок на всю жизнь. Эпизод с
лейтенантами и вспомнил Рябченко, идя по штабному коридору вдоль множества
дверей.
Дежурный подвел офицеров к кабинету командующего н, козырнув, удалился.
Адмирал Головко, немного сутулясь, встал из-за стола и тепло
поздоровался с вошедшими. Пригласив командиров сесть и опустившись в кресло,
мягко, но с легкой укоризной произнес:
-- Как же это вы упустили фрицев?
121
 Выслушав Гончара, а затем Рябченко, командующий начал внимательно
просматривать кальки маневрирования и записи в журналах боевых действий.
Затем, отложив в сторону документы и немного подумав, сказал, что
гитлеровские лодки имеют теперь новые технические средства обнаружения. Это
позволяет им своевременно уклоняться от атак кораблей срочным погружением.
Поэтому нужна очень высокая бдительность и четкость в действиях всего
личного состава. Надо еще решительнее атаковать врага.
В конце беседы, обращаясь к капитану 3-го ранга Гончару, Головко
сказал:
-- А лодку эту я Вам пока не засчитываю. Уверен
ности в ее уничтожении у меня нет.
В конце войны к вопросу оценки боевых потерь противника высшее
командование стало относиться строже. Только после получения подтверждений
из нескольких источников, после тщательного изучения документов командующий
подписывал заключение.
Видя огорчение на лицах собеседников, Арсений Григорьевич улыбнулся и,
показав на вазу с апельсинами, произнес:
-- Подарок из Грузии, угощайтесь.
Потом пригласил командиров к столу.
Комфлота налил себе вина в маленькую рюмку и жестом пригласил гостей к
самообслуживанию. Рябченко и Гончар наполнили свои рюмки.
В это время вошел адъютант с телеграммой в руке.
-- А вот и тост есть хороший! -- воскликнул адми
рал, едва пробежав по листку глазами. -- Сегодня
Выслушав Гончара, а затем Рябченко, командующий начал внимательно
просматривать кальки маневрирования и записи в журналах боевых действий.
Затем, отложив в сторону документы и немного подумав, сказал, что
гитлеровские лодки имеют теперь новые технические средства обнаружения. Это
позволяет им своевременно уклоняться от атак кораблей срочным погружением.
Поэтому нужна очень высокая бдительность и четкость в действиях всего
личного состава. Надо еще решительнее атаковать врага.
В конце беседы, обращаясь к капитану 3-го ранга Гончару, Головко
сказал:
-- А лодку эту я Вам пока не засчитываю. Уверен
ности в ее уничтожении у меня нет.
В конце войны к вопросу оценки боевых потерь противника высшее
командование стало относиться строже. Только после получения подтверждений
из нескольких источников, после тщательного изучения документов командующий
подписывал заключение.
Видя огорчение на лицах собеседников, Арсений Григорьевич улыбнулся и,
показав на вазу с апельсинами, произнес:
-- Подарок из Грузии, угощайтесь.
Потом пригласил командиров к столу.
Комфлота налил себе вина в маленькую рюмку и жестом пригласил гостей к
самообслуживанию. Рябченко и Гончар наполнили свои рюмки.
В это время вошел адъютант с телеграммой в руке.
-- А вот и тост есть хороший! -- воскликнул адми
рал, едва пробежав по листку глазами. -- Сегодня
 Президиум Верховного Совета учредил медаль "За оборону Советского
Заполярья". Военный совет Карельского фронта поздравляет личный состав
Северного флота с награждением участников обороны Советского Заполярья
медалью.
Затем командующий зачитал весь поздравительный текст, который
заканчивался словами: "Да здравствуют моряки Северного военно-морского
флота! Да здравствует боевая дружба Военно-Морского Флота и сухопутных сил
Красной Армии!"
-- Да, за это стоит
выпить, -- произнес Го
ловко и поднял свою
рюмку. -- За ваши боевые успехи, за наш замечательный личный состав!
Оба командира были взволнованы вестью. Поставив рюмку на стол, комфлота
встал из-за стола, дав понять, что встреча окончена.
-- А ваши материалы я еще проанализирую, --
сказал Головко на прощанье.
Весть об учреждении медали "За оборону Советского Заполярья" с
быстротой молнии облетела все корабли. Моряки были горды высокой оценкой,
данной Советским правительством, деятельности участников героической обороны
Советского Заполярья, самоотверженной борьбы воинов Красной Армии и
Военно-Морского Флота против немецко-фашистских захватчиков на крайнем
правом фланге Великой Отечественной войны.
С самого первого дня вероломного нападения на нашу Родину гитлеровские
захватчики протянули хищные Щупальца к Советскому Заполярью. Они направили
на Север отборные части и огромное количество боевой
техники, намереваясь с ходу захватить Мурманск. Враг понимал, что,
захватив Советское Заполярье, он лишит нашу страну важнейших коммуникаций,
связывающих ее с союзниками. Однако надежды Гитлера разбились о стойкость
воинов Карельского фронта и Северного флота.
Радуясь успехам, достигнутым моряками-североморцами в борьбе с
захватчиками, мы тем не менее хорошо понимали, что война еще не окончена,
что впереди тяжелые походы и грозные схватки с гитлеровскими подводными
лодками. К ним мы готовились каждодневно.
В условиях полярной ночи и частых снежных зарядов все большее признание
получала радиолокация. Но были еще и такие, кто сомневался в ее
возможностях. Этим грешили даже вахтенные офицеры. Они по старинке наседали
на сигнальщиков: зрение казалось надежнее. Но со временем от недоверия к
новой технике не осталось и следа. Радиолокация часто выручала нас в трудный
момент.
Помнится такой эпизод. Для эскортирования беломорской группы союзных
транспортов командующий флотом назначил лидер "Баку", семь эсминцев и четыре
"больших охотника". В составе эскорта был и "Живучий".
Вышли мы 6 декабря утром с расчетом встретить конвой в 13 часов.
Видимость временами доходила до полкабельтова. Прибыв в расчетную точку,
начали радиолокационный поиск. Два часа экран был чист, а затем на нем
появились какие-то цели. После обмена опознавательными оказалось, что это
английские эскортные корабли. С них передали, что конвой уклонялся от атак
подводных лодок и теперь находится 15 милями южнее. Вскоре установили
радиолокационный контакт и с конвоем. На экране радара отчетливо
обозначились три крайние колонны транспортов и охранение левого борта.
Командир велел всем офицерам внимательно рассмотреть это изображение и
зарисовать его, чтобы потом сличить с визуальным.
Поскольку получить по радио необходимые сведения от командира
английского эскорта не удалось, а запрашивать световыми средствами не
разрешалось (мы были в зоне действия вражеских лодок), контрадмирал Фокин,
находившийся на "Баку", решил момент отделения беломорской группы от
мурманской
124
определить по локатору. Дело в том, что отделившуюся часть судов мы
должны были сразу же взять под защиту и сопровождать до порта.
Прошло некоторое время. Радиометрист Александр Петров доложил: "Группа
целей отделилась от конвоя и повернула на восток". Сигнал, переданный с
флагманского корабля, подтвердил это. "Живучий" увеличил ход и стал занимать
свое место в эскорте.
С "Баку" то и дело поступали распоряжения кораблям -- одному сократить
дистанцию, другому изменить курс, третьему снизить скорость: на выносном
индикаторе кругового обзора, выведенном на мостик лидера, весь конвой был
как на ладони.
Наступила полночь. Сменилась вахта. Подозрительных целей на экранах
локаторов не обнаруживалось. Молчала и гидроакустическая рубка. Но
наблюдение за надводной обстановкой и подводной средой ни на минуту не
ослабевало.
Затишье оказалось временным. В 2 часа ночи на "Деятельном" прозвучал
сигнал боевой тревоги. Минеры Рыжов, Панченко, Морозов и Филиппов давно
ждали его. Перед выходом в море, приняв новый комплект боезапаса, они на
глубинных бомбах вывели краской: "За транспорт „Революция"!", "За
транспорт „Пролетарий"!" Оба эти стареньких парохода были потоплены
гитлеровской подводной лодкой в начале месяца. Моряки жаждали встречи с
врагом, чтобы отомстить за гибель транспортов.
Лодка поджидала добычу, находясь в надводном положении. Наши комендоры
открыли по ней огонь, и она стала быстро погружаться. Эсминец сделал резкий
отворот для бомбометания. Когда секундомер отсчитал нужный момент, минеры
сбросили смертоносный груз на подводных пиратов. Атака врага была сорвана.
Вторую попытку гитлеровцев напасть на конвой отразил эсминец "Разумный"
у острова Харлов. Сбросив глубинные бомбы, моряки услышали приглушенный
подводный взрыв. Что сталось с вражеской лодкой и в том и в другом случае --
неизвестно. Уточнять результаты боя не было времени: атаковал лодку и --
снова в строй!
Задачу мы выполнили. Все транспорты с грузами были доставлены в Белое
море без потерь. Поход дал
125
офицерам хорошую практику боевого управления и наблюдения за действиями
кораблей и судов конвоя с помощью новых радиотехнических средств в условиях
малой видимости.
Опыт использования радиолокаторов в походных ордерах тогда же начали
применять и при поиске вражеских подводных лодок.
Раньше обнаружение подводных лодок осуществлялось гидроакустическими и
визуальными средствами. Корабли охранения располагались в 6--12 кабельтовых
от транспортов, то есть в непосредственной близости. Практика показала, что
радиолокатором подводные лодки в надводном положении можно обнаружить на
расстоянии до 60 кабельтовых' независимо от условий видимости. С учетом
этого были внесены изменения в построение эскорта. Впереди транспортов, а
также по бортам выставлялись завесы из кораблей, оснащенных
радиолокационными средствами. Под наблюдением оказывалась зона диаметром не
менее 10 миль.
Такое построение эскорта, конечно, не исключало возможности нападения
подводных лодок, зато позволяло обнаружить их еще до того, как они подойдут
на дистанцию торпедного залпа. В эффективности новой тактики мы очень скоро
имели возможность убедиться.
8 декабря лидер "Баку" и пять эсминцев (наш "Живучий" в том числе),
закончив эскортирование беломорской группы союзных транспортов, возвращались
в Кольский залив. На переходе вели поиск подводных лодок у побережья, где,
по данным радиоразведки, находилось до семи2 субмарин.
Эсминцы разделились на три пары. "Разумный" и "Живучий" шли мористее,
"Баку" и "Дерзкий" -- в центре группы, "Гремящий" и "Доблестный" -- в 7
милях от берега. Держали ход 16 узлов. Расстояние между группами
определялось дальностью обнаружения подводных лодок радиолокатором.
"Баку" шел под флагом командующего эскадрой. На "Гремящем" находился
вице-адмирал Харламов, назначенный начальником управления боевой подготовки
ВМФ. Он прибыл на Северный флот в связи
Президиум Верховного Совета учредил медаль "За оборону Советского
Заполярья". Военный совет Карельского фронта поздравляет личный состав
Северного флота с награждением участников обороны Советского Заполярья
медалью.
Затем командующий зачитал весь поздравительный текст, который
заканчивался словами: "Да здравствуют моряки Северного военно-морского
флота! Да здравствует боевая дружба Военно-Морского Флота и сухопутных сил
Красной Армии!"
-- Да, за это стоит
выпить, -- произнес Го
ловко и поднял свою
рюмку. -- За ваши боевые успехи, за наш замечательный личный состав!
Оба командира были взволнованы вестью. Поставив рюмку на стол, комфлота
встал из-за стола, дав понять, что встреча окончена.
-- А ваши материалы я еще проанализирую, --
сказал Головко на прощанье.
Весть об учреждении медали "За оборону Советского Заполярья" с
быстротой молнии облетела все корабли. Моряки были горды высокой оценкой,
данной Советским правительством, деятельности участников героической обороны
Советского Заполярья, самоотверженной борьбы воинов Красной Армии и
Военно-Морского Флота против немецко-фашистских захватчиков на крайнем
правом фланге Великой Отечественной войны.
С самого первого дня вероломного нападения на нашу Родину гитлеровские
захватчики протянули хищные Щупальца к Советскому Заполярью. Они направили
на Север отборные части и огромное количество боевой
техники, намереваясь с ходу захватить Мурманск. Враг понимал, что,
захватив Советское Заполярье, он лишит нашу страну важнейших коммуникаций,
связывающих ее с союзниками. Однако надежды Гитлера разбились о стойкость
воинов Карельского фронта и Северного флота.
Радуясь успехам, достигнутым моряками-североморцами в борьбе с
захватчиками, мы тем не менее хорошо понимали, что война еще не окончена,
что впереди тяжелые походы и грозные схватки с гитлеровскими подводными
лодками. К ним мы готовились каждодневно.
В условиях полярной ночи и частых снежных зарядов все большее признание
получала радиолокация. Но были еще и такие, кто сомневался в ее
возможностях. Этим грешили даже вахтенные офицеры. Они по старинке наседали
на сигнальщиков: зрение казалось надежнее. Но со временем от недоверия к
новой технике не осталось и следа. Радиолокация часто выручала нас в трудный
момент.
Помнится такой эпизод. Для эскортирования беломорской группы союзных
транспортов командующий флотом назначил лидер "Баку", семь эсминцев и четыре
"больших охотника". В составе эскорта был и "Живучий".
Вышли мы 6 декабря утром с расчетом встретить конвой в 13 часов.
Видимость временами доходила до полкабельтова. Прибыв в расчетную точку,
начали радиолокационный поиск. Два часа экран был чист, а затем на нем
появились какие-то цели. После обмена опознавательными оказалось, что это
английские эскортные корабли. С них передали, что конвой уклонялся от атак
подводных лодок и теперь находится 15 милями южнее. Вскоре установили
радиолокационный контакт и с конвоем. На экране радара отчетливо
обозначились три крайние колонны транспортов и охранение левого борта.
Командир велел всем офицерам внимательно рассмотреть это изображение и
зарисовать его, чтобы потом сличить с визуальным.
Поскольку получить по радио необходимые сведения от командира
английского эскорта не удалось, а запрашивать световыми средствами не
разрешалось (мы были в зоне действия вражеских лодок), контрадмирал Фокин,
находившийся на "Баку", решил момент отделения беломорской группы от
мурманской
124
определить по локатору. Дело в том, что отделившуюся часть судов мы
должны были сразу же взять под защиту и сопровождать до порта.
Прошло некоторое время. Радиометрист Александр Петров доложил: "Группа
целей отделилась от конвоя и повернула на восток". Сигнал, переданный с
флагманского корабля, подтвердил это. "Живучий" увеличил ход и стал занимать
свое место в эскорте.
С "Баку" то и дело поступали распоряжения кораблям -- одному сократить
дистанцию, другому изменить курс, третьему снизить скорость: на выносном
индикаторе кругового обзора, выведенном на мостик лидера, весь конвой был
как на ладони.
Наступила полночь. Сменилась вахта. Подозрительных целей на экранах
локаторов не обнаруживалось. Молчала и гидроакустическая рубка. Но
наблюдение за надводной обстановкой и подводной средой ни на минуту не
ослабевало.
Затишье оказалось временным. В 2 часа ночи на "Деятельном" прозвучал
сигнал боевой тревоги. Минеры Рыжов, Панченко, Морозов и Филиппов давно
ждали его. Перед выходом в море, приняв новый комплект боезапаса, они на
глубинных бомбах вывели краской: "За транспорт „Революция"!", "За
транспорт „Пролетарий"!" Оба эти стареньких парохода были потоплены
гитлеровской подводной лодкой в начале месяца. Моряки жаждали встречи с
врагом, чтобы отомстить за гибель транспортов.
Лодка поджидала добычу, находясь в надводном положении. Наши комендоры
открыли по ней огонь, и она стала быстро погружаться. Эсминец сделал резкий
отворот для бомбометания. Когда секундомер отсчитал нужный момент, минеры
сбросили смертоносный груз на подводных пиратов. Атака врага была сорвана.
Вторую попытку гитлеровцев напасть на конвой отразил эсминец "Разумный"
у острова Харлов. Сбросив глубинные бомбы, моряки услышали приглушенный
подводный взрыв. Что сталось с вражеской лодкой и в том и в другом случае --
неизвестно. Уточнять результаты боя не было времени: атаковал лодку и --
снова в строй!
Задачу мы выполнили. Все транспорты с грузами были доставлены в Белое
море без потерь. Поход дал
125
офицерам хорошую практику боевого управления и наблюдения за действиями
кораблей и судов конвоя с помощью новых радиотехнических средств в условиях
малой видимости.
Опыт использования радиолокаторов в походных ордерах тогда же начали
применять и при поиске вражеских подводных лодок.
Раньше обнаружение подводных лодок осуществлялось гидроакустическими и
визуальными средствами. Корабли охранения располагались в 6--12 кабельтовых
от транспортов, то есть в непосредственной близости. Практика показала, что
радиолокатором подводные лодки в надводном положении можно обнаружить на
расстоянии до 60 кабельтовых' независимо от условий видимости. С учетом
этого были внесены изменения в построение эскорта. Впереди транспортов, а
также по бортам выставлялись завесы из кораблей, оснащенных
радиолокационными средствами. Под наблюдением оказывалась зона диаметром не
менее 10 миль.
Такое построение эскорта, конечно, не исключало возможности нападения
подводных лодок, зато позволяло обнаружить их еще до того, как они подойдут
на дистанцию торпедного залпа. В эффективности новой тактики мы очень скоро
имели возможность убедиться.
8 декабря лидер "Баку" и пять эсминцев (наш "Живучий" в том числе),
закончив эскортирование беломорской группы союзных транспортов, возвращались
в Кольский залив. На переходе вели поиск подводных лодок у побережья, где,
по данным радиоразведки, находилось до семи2 субмарин.
Эсминцы разделились на три пары. "Разумный" и "Живучий" шли мористее,
"Баку" и "Дерзкий" -- в центре группы, "Гремящий" и "Доблестный" -- в 7
милях от берега. Держали ход 16 узлов. Расстояние между группами
определялось дальностью обнаружения подводных лодок радиолокатором.
"Баку" шел под флагом командующего эскадрой. На "Гремящем" находился
вице-адмирал Харламов, назначенный начальником управления боевой подготовки
ВМФ. Он прибыл на Северный флот в связи
 1 ОЦВМА, ф. 254, д 37804, л. 13.
2 Там же, л. 16.
с отказом англичан отправлять конвои в наши северные порты, который они
мотивировали активизацией немецких подводных лодок на коммуникациях в
Баренцевом море и якобы неспособностью наших противолодочных сил
противостоять им. Чтобы доказать несостоятельность этих "аргументов",
вице-адмирал Харламов и должен был на месте изучить обстановку и объективно
доложить о ней в Москву.
Все шесть кораблей находились друг от друга вне визуальной видимости.
Стояла безлунная полярная ночь. Только светящиеся точки на экранах локаторов
обозначали места эсминцев. Связь между кораблями осуществлялась по радио.
Присутствие в поисковой группе представителей высшего командования
накладывало особую ответственность на каждого члена экипажа. Люди еще больше
подтянулись, старались быть собраннее, действовали четче. Чаще обычного
поднимался на мостик Никольский: нет ли претензий к БЧ-V? Особенно зорко
следил он за работой кочегаров. Подадут в форсунки чуть меньше мазута -- из
трубы искры летят, прибавят больше -- валит черный дым. И то и другое де-
маскирует корабль.
Никольскому приходилось нелегко. Месяца два назад с корабля убыл на
линкор "Архангельск" капитан- лейтенант-инженер Дубовов, и обязанности
командира машинно-котельной группы легли на его плечи. А перед самым выходом
эсминца в море к нам прислали выпускника "Дзержинки" лейтенанта-инженера А.
Е. Яковлева -- дублером командира БЧ-V, очень скромного и исполнительного
офицера.
Заметив малейшую оплошность кочегаров, Николай Иванович говорил своему
дублеру: "Александр Евгеньевич! Опять труба (называл какая) заискрила!" И
тот немедленно наводил порядок.
На мостике все были предельно сосредоточены. Никто не произносил ни
слова. Лишь волны гулко ударяли в борт. Прильнул к наушникам гидроакустик
Рыжиков. Неотрывно следил за экраном локатора радиометрист Любимкин. В
полной боевой готовности застыли у пушек, зенитных автоматов и бомбометов
вахтенные.
Первыми обнаружили надводную цель радиометристы "Дерзкого", но вскоре
цель исчезла. Значит, это
127
была подводная лодка, которая потом погрузилась. Через полтора часа с
"Дерзкого" снова увидели малую цель. И снова она быстро исчезла.
Потом "Разумный", шедший в паре с нами, тоже "поймал" малую цель,
наблюдал ее две минуты. Похоже было, что мы наткнулись на группу подводных
лодок, действовавших по методу "волчьей стаи".
Вечером за чаем в кают-компании "Живучего" собрались почти все офицеры.
Необычный все мы имели вид: на груди у каждого поверх кителя был надет
надувной спасательный пояс. Гончаров тихонько ворчал:
И зачем мне эта бандура? Если рванет, так и
пояс не поможет; только цепляешься за двери этой
"колбасой"...
А ты знаешь, сколько подводных лодок подсте
регает нас? -- спросил замполит Фомин. •--• Кстати,
пояса надеть приказал командующий эскадрой...
Последние слова Ефим Антонович произнес со значением. Смысл их поняли
все. Разговоры о поясах прекратились.
А поздно вечером (если быть точнее, это случилось 8 декабря в 22 часа
42 минуты) наш старший радиометрист Любимкин заметил на экране локатора
небольшое светящееся пятно.
Быстро уточнив параметры цели, он немедленно доложил на мостик:
-- Малая цель. Правый борт, 10, дистанция 42 ка
бельтова. Идет вправо!
Вахтенный офицер Лисовский нажал педаль сигнала боевой тревоги, и
десятки матросских ног застучали по железным трапам и палубе.
На мостике уже был командир корабля. Оценив на ходу обстановку, он тут
же приказал:
-- Полный вперед! Пять градусов право руля!
"Живучий" содрогнулся всем корпусом и полным
ходом помчался навстречу врагу. Рулевой Папушин удерживал корабль на
курсе по пеленгу радиолокатора. На боевых постах и на мостике царила тишина,
нарушаемая лишь мерными всплесками волн, шумом турбовентиляторов да поиском
"Асдика".
Когда расстояние до цели сократилось, Рябченко приказал Лисовскому:
•-- Осветить цель!
128
Выстрел носового орудия на мгновение высветил в полярной ночи небольшой
участок моря.
-- Подводная лодка, правый борт, 10, дистанция
три кабельтова! -- доложил старшина 2-й статьи Го
ловин.
Никто из стоявших на мостике в те доли секунды не успел увидеть врага.
Это оказалось под силу лишь тренированному глазу опытного сигнальщика. Глядя
в направлении, указанном старшиной, я заметил' на воде два фосфоресцирующих
пузыря -- враг выпустил торпеды.
От пузырей начинались светящиеся в воде пунктиры, нацеленные прямо в
корпус эсминца.
Очевидно, это увидел и командир.
-- Право на борт! На таран! -- тут же скомандо
вал он.
От резкого поворота, произведенного на больщой скорости, корабль сильно
накренился. Ледяные горько-соленые брызги полетели в лица стоявших на
мостике:
Раздался звонок с кормового поста:
-- Две торпеды прошли в 3--5 метрах от борта!
Еще через мгновение -- два резких и сильных толчка. Я падаю, цепляясь
за переговорную трубу. Затем треск и скрежет металла: эсминец форштевнем
пробил корпус лодки и на несколько метров "влез" на нее. Придавив лодку
тысячетонной громадой, наш корабль накренился на левый борт и потерял ход.
На мостике хорошо были слышны панические возгласы, доносившиеся с вражеской
лодки.
-- Полный назад! -- скомандовал Рябченко. Эс
минец начал медленно отходить назад. Протараненная
фашистская лодка, прижатая волной и ветром к наше
му борту, двигалась вместе с кораблем, скрежеща
рваным бортом.
На мостике всех охватил азарт боя, и ощущение необычности
происходящего. Нам еще не приходилось вот так вплотную, буквально "нос к
носу", встречаться с подводным противником.
-- Бейте фашистскую гадину! -- выкрикнул капи
тан-лейтенант Фомин, тоже прибежавший на мостик.
Но чем бить? Стрелять из орудий нельзя -- лодка У самого нашего борта.
-- Эх, гранату бы! -- с тоской произнес кто-то на
баке.
5 Г. Г. Поляков 129
1 ОЦВМА, ф. 254, д 37804, л. 13.
2 Там же, л. 16.
с отказом англичан отправлять конвои в наши северные порты, который они
мотивировали активизацией немецких подводных лодок на коммуникациях в
Баренцевом море и якобы неспособностью наших противолодочных сил
противостоять им. Чтобы доказать несостоятельность этих "аргументов",
вице-адмирал Харламов и должен был на месте изучить обстановку и объективно
доложить о ней в Москву.
Все шесть кораблей находились друг от друга вне визуальной видимости.
Стояла безлунная полярная ночь. Только светящиеся точки на экранах локаторов
обозначали места эсминцев. Связь между кораблями осуществлялась по радио.
Присутствие в поисковой группе представителей высшего командования
накладывало особую ответственность на каждого члена экипажа. Люди еще больше
подтянулись, старались быть собраннее, действовали четче. Чаще обычного
поднимался на мостик Никольский: нет ли претензий к БЧ-V? Особенно зорко
следил он за работой кочегаров. Подадут в форсунки чуть меньше мазута -- из
трубы искры летят, прибавят больше -- валит черный дым. И то и другое де-
маскирует корабль.
Никольскому приходилось нелегко. Месяца два назад с корабля убыл на
линкор "Архангельск" капитан- лейтенант-инженер Дубовов, и обязанности
командира машинно-котельной группы легли на его плечи. А перед самым выходом
эсминца в море к нам прислали выпускника "Дзержинки" лейтенанта-инженера А.
Е. Яковлева -- дублером командира БЧ-V, очень скромного и исполнительного
офицера.
Заметив малейшую оплошность кочегаров, Николай Иванович говорил своему
дублеру: "Александр Евгеньевич! Опять труба (называл какая) заискрила!" И
тот немедленно наводил порядок.
На мостике все были предельно сосредоточены. Никто не произносил ни
слова. Лишь волны гулко ударяли в борт. Прильнул к наушникам гидроакустик
Рыжиков. Неотрывно следил за экраном локатора радиометрист Любимкин. В
полной боевой готовности застыли у пушек, зенитных автоматов и бомбометов
вахтенные.
Первыми обнаружили надводную цель радиометристы "Дерзкого", но вскоре
цель исчезла. Значит, это
127
была подводная лодка, которая потом погрузилась. Через полтора часа с
"Дерзкого" снова увидели малую цель. И снова она быстро исчезла.
Потом "Разумный", шедший в паре с нами, тоже "поймал" малую цель,
наблюдал ее две минуты. Похоже было, что мы наткнулись на группу подводных
лодок, действовавших по методу "волчьей стаи".
Вечером за чаем в кают-компании "Живучего" собрались почти все офицеры.
Необычный все мы имели вид: на груди у каждого поверх кителя был надет
надувной спасательный пояс. Гончаров тихонько ворчал:
И зачем мне эта бандура? Если рванет, так и
пояс не поможет; только цепляешься за двери этой
"колбасой"...
А ты знаешь, сколько подводных лодок подсте
регает нас? -- спросил замполит Фомин. •--• Кстати,
пояса надеть приказал командующий эскадрой...
Последние слова Ефим Антонович произнес со значением. Смысл их поняли
все. Разговоры о поясах прекратились.
А поздно вечером (если быть точнее, это случилось 8 декабря в 22 часа
42 минуты) наш старший радиометрист Любимкин заметил на экране локатора
небольшое светящееся пятно.
Быстро уточнив параметры цели, он немедленно доложил на мостик:
-- Малая цель. Правый борт, 10, дистанция 42 ка
бельтова. Идет вправо!
Вахтенный офицер Лисовский нажал педаль сигнала боевой тревоги, и
десятки матросских ног застучали по железным трапам и палубе.
На мостике уже был командир корабля. Оценив на ходу обстановку, он тут
же приказал:
-- Полный вперед! Пять градусов право руля!
"Живучий" содрогнулся всем корпусом и полным
ходом помчался навстречу врагу. Рулевой Папушин удерживал корабль на
курсе по пеленгу радиолокатора. На боевых постах и на мостике царила тишина,
нарушаемая лишь мерными всплесками волн, шумом турбовентиляторов да поиском
"Асдика".
Когда расстояние до цели сократилось, Рябченко приказал Лисовскому:
•-- Осветить цель!
128
Выстрел носового орудия на мгновение высветил в полярной ночи небольшой
участок моря.
-- Подводная лодка, правый борт, 10, дистанция
три кабельтова! -- доложил старшина 2-й статьи Го
ловин.
Никто из стоявших на мостике в те доли секунды не успел увидеть врага.
Это оказалось под силу лишь тренированному глазу опытного сигнальщика. Глядя
в направлении, указанном старшиной, я заметил' на воде два фосфоресцирующих
пузыря -- враг выпустил торпеды.
От пузырей начинались светящиеся в воде пунктиры, нацеленные прямо в
корпус эсминца.
Очевидно, это увидел и командир.
-- Право на борт! На таран! -- тут же скомандо
вал он.
От резкого поворота, произведенного на больщой скорости, корабль сильно
накренился. Ледяные горько-соленые брызги полетели в лица стоявших на
мостике:
Раздался звонок с кормового поста:
-- Две торпеды прошли в 3--5 метрах от борта!
Еще через мгновение -- два резких и сильных толчка. Я падаю, цепляясь
за переговорную трубу. Затем треск и скрежет металла: эсминец форштевнем
пробил корпус лодки и на несколько метров "влез" на нее. Придавив лодку
тысячетонной громадой, наш корабль накренился на левый борт и потерял ход.
На мостике хорошо были слышны панические возгласы, доносившиеся с вражеской
лодки.
-- Полный назад! -- скомандовал Рябченко. Эс
минец начал медленно отходить назад. Протараненная
фашистская лодка, прижатая волной и ветром к наше
му борту, двигалась вместе с кораблем, скрежеща
рваным бортом.
На мостике всех охватил азарт боя, и ощущение необычности
происходящего. Нам еще не приходилось вот так вплотную, буквально "нос к
носу", встречаться с подводным противником.
-- Бейте фашистскую гадину! -- выкрикнул капи
тан-лейтенант Фомин, тоже прибежавший на мостик.
Но чем бить? Стрелять из орудий нельзя -- лодка У самого нашего борта.
-- Эх, гранату бы! -- с тоской произнес кто-то на
баке.
5 Г. Г. Поляков 129
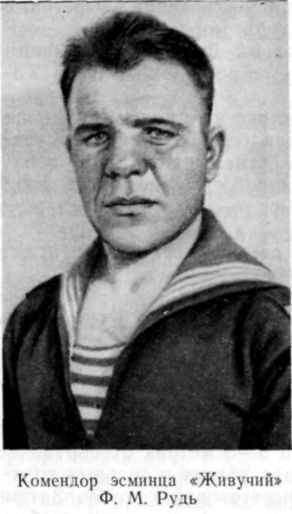 К крикам, доносившимся с лодки, теперь прибавился еще тревожный
металлический стук. Видимо, стучали сверху в задраенный рубочный люк. В
ответ с бака послышалось:
-- Алло, фриц, ауф-видерзеен! -- это комендор носового орудия Федор
Рудь вступил в "диалог" с гитлеровцами.
Когда "Живучий" дал задний ход, поврежденная лодка пыталась еще
ускользнуть -- рванула полным ходом вперед. Но не тут-то было. Как только
она вышла из "мертвого пространства", носовое орудие коммуниста старшины 1-й
статьи Толкачева открыло по
ней огонь прямой наводкой. Первый же снаряд угодил в рубку, за ним еще
несколько.
"Вот когда пригодились быстрота и слаженность действий, которых мы
добивались на тренировках", -- промелькнула у меня мысль.
Кормовое орудие вело огонь, чередуя осветительные снаряды с фугасными.
Затем к нему присоединились зенитные автоматы старшины 2-й статьи Сегиня,
краснофлотцев Свитнева и Смирнова. В этом бою комсорг второй боевой части
Александр Ссгинь показал пример воинского мастерства. Когда кончился
боезапас у автомата левого борта, он перешел к правому и успешно вел огонь
через узкое пространство между дымовыми трубами.
Таранный удар, прямые попадания снарядов сделали свое дело: фашистская
подводная лодка начала быстро оседать на корму и вскоре скрылась в морской
пучине.
-- Большая серия бомб -- товсь! -- раздалась знакомая команда.
130
На голову агонизирующего врага посыпались бомбы, сброшенные минерами
Иваном Лукьянцевым, Ме-фодием Никитиным и Гавриилом Скибой. За первой серией
последовали следующие. За кормой послышались мощные взрывы, и на том месте,
где только что был подводный хищник, вздыбились огромные водяные столбы.
В этом необычном бою эсминец израсходовал 27 трех- и четырехдюймовых
снарядов, 210 снарядов зенитных автоматов и 30 больших глубинных
бомб1.
Осветив прожектором район гибели вражеской лодки, мы увидели много
обломков, плававших в густом соляре. Так была потоплена фашистская лодка
"U-387" 2.
На "Живучем" от таранного удара разошлись стальные листы обшивки в
носовой части, вышли из строя два передатчика и радиолокационная станция. Из
личного состава пострадал котельный машинист Иван Пастухов -- он получил
сильный ожог, упав при ударе на стенку котла.
После отбоя тревоги командир приказал мне, Никольскому и Васильеву
осмотреть нижние помещения носовой части корабля. Выполнив поручение и не
обнаружив ничего существенного, мы направились в кают-компанию. Здесь уже
собралось человек семь офицеров. У всех возбужденные лица, приподнятое
настроение. Вестовой Клименко подал свежезаваренный ароматный чай. Вошел
командир.
-- Ну что, товарищи, выпьем за победу... по ста
кану чая? -- с улыбкой пробасил он и добавил: --
А "ста граммами" отметим, когда вернемся в базу.
Только что получена шифровка. По данным радиораз
ведки, у нас по курсу еще три гитлеровские подводные
лодки и праздновать победу еще...
Сигнал боевой тревоги прервал командира. Выскочили на мостик.
-- Товарищ капитан 3-го ранга! Обнаружена под
водная лодка, -- доложил вахтенный офицер.
Невдалеке уже слышались взрывы: это действовал "Разумный", наш
напарник. Его атака тоже была успешной -- после бомбежки на поверхности моря
по-
К крикам, доносившимся с лодки, теперь прибавился еще тревожный
металлический стук. Видимо, стучали сверху в задраенный рубочный люк. В
ответ с бака послышалось:
-- Алло, фриц, ауф-видерзеен! -- это комендор носового орудия Федор
Рудь вступил в "диалог" с гитлеровцами.
Когда "Живучий" дал задний ход, поврежденная лодка пыталась еще
ускользнуть -- рванула полным ходом вперед. Но не тут-то было. Как только
она вышла из "мертвого пространства", носовое орудие коммуниста старшины 1-й
статьи Толкачева открыло по
ней огонь прямой наводкой. Первый же снаряд угодил в рубку, за ним еще
несколько.
"Вот когда пригодились быстрота и слаженность действий, которых мы
добивались на тренировках", -- промелькнула у меня мысль.
Кормовое орудие вело огонь, чередуя осветительные снаряды с фугасными.
Затем к нему присоединились зенитные автоматы старшины 2-й статьи Сегиня,
краснофлотцев Свитнева и Смирнова. В этом бою комсорг второй боевой части
Александр Ссгинь показал пример воинского мастерства. Когда кончился
боезапас у автомата левого борта, он перешел к правому и успешно вел огонь
через узкое пространство между дымовыми трубами.
Таранный удар, прямые попадания снарядов сделали свое дело: фашистская
подводная лодка начала быстро оседать на корму и вскоре скрылась в морской
пучине.
-- Большая серия бомб -- товсь! -- раздалась знакомая команда.
130
На голову агонизирующего врага посыпались бомбы, сброшенные минерами
Иваном Лукьянцевым, Ме-фодием Никитиным и Гавриилом Скибой. За первой серией
последовали следующие. За кормой послышались мощные взрывы, и на том месте,
где только что был подводный хищник, вздыбились огромные водяные столбы.
В этом необычном бою эсминец израсходовал 27 трех- и четырехдюймовых
снарядов, 210 снарядов зенитных автоматов и 30 больших глубинных
бомб1.
Осветив прожектором район гибели вражеской лодки, мы увидели много
обломков, плававших в густом соляре. Так была потоплена фашистская лодка
"U-387" 2.
На "Живучем" от таранного удара разошлись стальные листы обшивки в
носовой части, вышли из строя два передатчика и радиолокационная станция. Из
личного состава пострадал котельный машинист Иван Пастухов -- он получил
сильный ожог, упав при ударе на стенку котла.
После отбоя тревоги командир приказал мне, Никольскому и Васильеву
осмотреть нижние помещения носовой части корабля. Выполнив поручение и не
обнаружив ничего существенного, мы направились в кают-компанию. Здесь уже
собралось человек семь офицеров. У всех возбужденные лица, приподнятое
настроение. Вестовой Клименко подал свежезаваренный ароматный чай. Вошел
командир.
-- Ну что, товарищи, выпьем за победу... по ста
кану чая? -- с улыбкой пробасил он и добавил: --
А "ста граммами" отметим, когда вернемся в базу.
Только что получена шифровка. По данным радиораз
ведки, у нас по курсу еще три гитлеровские подводные
лодки и праздновать победу еще...
Сигнал боевой тревоги прервал командира. Выскочили на мостик.
-- Товарищ капитан 3-го ранга! Обнаружена под
водная лодка, -- доложил вахтенный офицер.
Невдалеке уже слышались взрывы: это действовал "Разумный", наш
напарник. Его атака тоже была успешной -- после бомбежки на поверхности моря
по-
 1 ОЦВМА. ф. 254, д. 29816, л. 262, 263.
2 Там же, д. 13721, .1. 12.
явился большой воздушный пузырь. В свете прожектора мы увидели много
предметов, плававших в густом соляре. Еще одна фашистская субмарина
прекратила свое существование.
До базы оставалось три часа хода. Мы знали, что у входа в Кольский
залив,нас подстерегают вражеские лодки. Боевая готовность была повышена.
Лидер "Баку" первым обнаружил радиолокатором малую цель. Через минуту цель
пропала. Дело в том, что на немецких лодках имелись устройства,
регистрировавшие работу других радиолокаторов. Это позволяло гитлеровцам
своевременно производить погружение.
У самого Кильдина "Разумный" тоже обнаружил цель. С дистанции 17
кабельтовых осветил ее снарядом. Лодка погрузилась. Через 20 минут
гидроакустики получили надежный контакт. Когда эсминец оказался над лодкой,
командир корабля капитан 2-го ранга Козлов приказал сбросить глубинные
бомбы. К атаке присоединился и "Живучий". Сбросив серию бомб, "Разумный"
продолжал удерживать гидроакустический контакт. А мы, сделав три захода на
бомбометание и израсходовав оставшийся боезапас, начали подворачивать ко
входу в залив.
Вдруг раздался возглас наблюдателя:
-- Торпеда по левому борту!
Резко повернувшись, я увидел метрах в ста от нашего борта светящийся на
темной поверхности след мчащегося прямо на нас сигарообразного тела. В душе
похолодело.
-- Лево на борт! -- спокойно скомандовал Ряб-
ченко.
Корабль резко отвернул, и торпеда прошла в нескольких метрах от борта.
К счастью, она не была акустической.
Вскоре точно такая же история повторилась и с "Разумным".
Много лет спустя в западногерманской "Хронике войны на море" я
прочитал: "9 декабря подводная лодка "U-997" безрезультатно атаковала
"Живучий" и "Разумный" '. Спасибо, как говорится, и на том.
Утром 9 декабря все корабли, участвовавшие в поиске, благополучно
прибыли в базу. Потом Совинформ-
1 ОЦВМА. ф. 254, д. 29816, л. 262, 263.
2 Там же, д. 13721, .1. 12.
явился большой воздушный пузырь. В свете прожектора мы увидели много
предметов, плававших в густом соляре. Еще одна фашистская субмарина
прекратила свое существование.
До базы оставалось три часа хода. Мы знали, что у входа в Кольский
залив,нас подстерегают вражеские лодки. Боевая готовность была повышена.
Лидер "Баку" первым обнаружил радиолокатором малую цель. Через минуту цель
пропала. Дело в том, что на немецких лодках имелись устройства,
регистрировавшие работу других радиолокаторов. Это позволяло гитлеровцам
своевременно производить погружение.
У самого Кильдина "Разумный" тоже обнаружил цель. С дистанции 17
кабельтовых осветил ее снарядом. Лодка погрузилась. Через 20 минут
гидроакустики получили надежный контакт. Когда эсминец оказался над лодкой,
командир корабля капитан 2-го ранга Козлов приказал сбросить глубинные
бомбы. К атаке присоединился и "Живучий". Сбросив серию бомб, "Разумный"
продолжал удерживать гидроакустический контакт. А мы, сделав три захода на
бомбометание и израсходовав оставшийся боезапас, начали подворачивать ко
входу в залив.
Вдруг раздался возглас наблюдателя:
-- Торпеда по левому борту!
Резко повернувшись, я увидел метрах в ста от нашего борта светящийся на
темной поверхности след мчащегося прямо на нас сигарообразного тела. В душе
похолодело.
-- Лево на борт! -- спокойно скомандовал Ряб-
ченко.
Корабль резко отвернул, и торпеда прошла в нескольких метрах от борта.
К счастью, она не была акустической.
Вскоре точно такая же история повторилась и с "Разумным".
Много лет спустя в западногерманской "Хронике войны на море" я
прочитал: "9 декабря подводная лодка "U-997" безрезультатно атаковала
"Живучий" и "Разумный" '. Спасибо, как говорится, и на том.
Утром 9 декабря все корабли, участвовавшие в поиске, благополучно
прибыли в базу. Потом Совинформ-
 1 Rohwer, Iiirgen und Hummelchen. Gerald Chronick des
Seek-rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 504.
бюро передало сообщение, в котором упоминалось об уничтожении в
Баренцевом море двух немецких подводных лодок. Жена Никольского услышала эту
сводку у себя в Архангельске, в частности, то, что эсминец под командованием
капитана 3-го ранга Рябченко та-ранИл и потопил одну из них. Смысл слова
"таран" жена военного моряка хорошо понимала, знала она также и то, что в
этом случае могут погибнуть оба корабля. В сводке же сообщалось лишь о
судьбе подводной лодки. Можно представить, с каким нетерпением и тревогой
ждала она весточки от мужа (между супругами был уговор: после каждого
возвращения с боевого похода Никольский шлет жене коротенькую телеграмму --
всего три слова: "Жив, здоров. Николай").
Такую телеграмму Полина получила вовремя.
...Победу над фашистской лодкой мы отметили в базе. Между тостами
обменивались впечатлениями, заново переживая все перипетии боя.
Во время тарана я был в машинном отделении.
От резкого толчка и потери скорости едва не полетел
с ног, -- вспоминал Никольский. -- Решил было, что
крепко сели на мель.
Когда лодка оказалась прижатой к борту, я бро
сился на бак к носовому орудию, -- вступал в разговор
Лисовский. -- Вижу, корабль медленно сползает с лод
ки. "Неужели уйдет гад", -- думаю про себя. Но стре
лять из пушки бесполезно -- лодка ниже бака,
в "мертвом пространстве". Пока вспоминал анекдот
"про кривое ружье", лодка заработала винтами и ста
ла удирать. Решаю стрелять прямой наводкой. Толка
чев открыл орудийный замок, а я навожу через ствол...
Николай Дмитриевич, помнишь, как ты еще в
Англии шутя сказал, что главное у этих "шипов" --
кованый киль? -- улыбаясь спросил Фомин. -- Отку
да ты знал тогда, что он выручит нас при таране?
Так я ведь диалектик, -- не очень понятно отшу
тился Рябченко.
В разговор включился лейтенант Мотиенко, командир минно-торпедной
боевой части.
-- Вижу -- две торпеды мчатся прямо на нас, и глаз
не могу отвести. А на душе -- никакого страха, одно
любопытство: зацепят... не зацепят... А как взрывают
ся торпеды, я-то знаю, видел...
133
-- Все равно мы не потонули бы, -- улыбнулся Ряб-
ченко. -- Во-первых, в рынде' корабля чиф-инженер
"Ричмонда" крестил свою дочь, а этот обряд у англи
чан считается доброй приметой. Во-вторых, не даром
же наш эсминец называется "Живучим", в-третьих,
бортовой номер его "тринадцать", а это число для ме
ня всегда счастливое.
И уже всерьез, заключая беседу, добавил:
-- Командующий эскадрой доволен нами. Приказал
представить к правительственным наградам отличив
шихся. Мы с замполитом готовим наградные листы на
офицеров, а командиров боевых частей и начальников
служб прошу представить списки на старшин и крас
нофлотцев.
В базе водолазы тщательно осмотрели днище корабля, эсминец поставили в
плавучий док, где за сутки ему сменили заклепки в носовой части, приварили
сорванный боковой киль, выполнили другие корпусные работы.
Слухи о боевом столкновении эсминца "Живучий" с фашистской подводной
лодкой дошли и до местных жителей, но в сильно искаженном виде. Краснофлотец
Александр Петров рассказывал, как повстречавшаяся ему на берегу знакомая
девушка не поверила своим глазам, увидев его: считала, что "Живучий"
затонул. Это была уже третья "утка" о гибели нашего эсминца.
Приказами командующего Северным флотом и командующего эскадрой за
мужество и отвагу, проявленные личным составом эсминца в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, 40 членов нашего экипажа были награждены
орденами и медалями. В передовой статье "Изгнать врага с нашего моря",
помещенной во флотской газете 20 декабря 1944 года, говорилось: "Командир
миноносца ("Живучий". -- Г. П.), выходя в атаку, был уверен в том, что
экипаж корабля точно выполнит любое приказание, и личный состав полностью
оправдал надежды своего командира".
А вскорости боевого успеха добился экипаж эсминца "Достойный".
Эскортируя три транспорта из Лина-хамари в Кольский залив, "Достойный"
обнаружил вражескую подводную лодку, шедшую прямо на конвой. Капитан 3-го
ранга Никольский умелым маневром
1 Rohwer, Iiirgen und Hummelchen. Gerald Chronick des
Seek-rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 504.
бюро передало сообщение, в котором упоминалось об уничтожении в
Баренцевом море двух немецких подводных лодок. Жена Никольского услышала эту
сводку у себя в Архангельске, в частности, то, что эсминец под командованием
капитана 3-го ранга Рябченко та-ранИл и потопил одну из них. Смысл слова
"таран" жена военного моряка хорошо понимала, знала она также и то, что в
этом случае могут погибнуть оба корабля. В сводке же сообщалось лишь о
судьбе подводной лодки. Можно представить, с каким нетерпением и тревогой
ждала она весточки от мужа (между супругами был уговор: после каждого
возвращения с боевого похода Никольский шлет жене коротенькую телеграмму --
всего три слова: "Жив, здоров. Николай").
Такую телеграмму Полина получила вовремя.
...Победу над фашистской лодкой мы отметили в базе. Между тостами
обменивались впечатлениями, заново переживая все перипетии боя.
Во время тарана я был в машинном отделении.
От резкого толчка и потери скорости едва не полетел
с ног, -- вспоминал Никольский. -- Решил было, что
крепко сели на мель.
Когда лодка оказалась прижатой к борту, я бро
сился на бак к носовому орудию, -- вступал в разговор
Лисовский. -- Вижу, корабль медленно сползает с лод
ки. "Неужели уйдет гад", -- думаю про себя. Но стре
лять из пушки бесполезно -- лодка ниже бака,
в "мертвом пространстве". Пока вспоминал анекдот
"про кривое ружье", лодка заработала винтами и ста
ла удирать. Решаю стрелять прямой наводкой. Толка
чев открыл орудийный замок, а я навожу через ствол...
Николай Дмитриевич, помнишь, как ты еще в
Англии шутя сказал, что главное у этих "шипов" --
кованый киль? -- улыбаясь спросил Фомин. -- Отку
да ты знал тогда, что он выручит нас при таране?
Так я ведь диалектик, -- не очень понятно отшу
тился Рябченко.
В разговор включился лейтенант Мотиенко, командир минно-торпедной
боевой части.
-- Вижу -- две торпеды мчатся прямо на нас, и глаз
не могу отвести. А на душе -- никакого страха, одно
любопытство: зацепят... не зацепят... А как взрывают
ся торпеды, я-то знаю, видел...
133
-- Все равно мы не потонули бы, -- улыбнулся Ряб-
ченко. -- Во-первых, в рынде' корабля чиф-инженер
"Ричмонда" крестил свою дочь, а этот обряд у англи
чан считается доброй приметой. Во-вторых, не даром
же наш эсминец называется "Живучим", в-третьих,
бортовой номер его "тринадцать", а это число для ме
ня всегда счастливое.
И уже всерьез, заключая беседу, добавил:
-- Командующий эскадрой доволен нами. Приказал
представить к правительственным наградам отличив
шихся. Мы с замполитом готовим наградные листы на
офицеров, а командиров боевых частей и начальников
служб прошу представить списки на старшин и крас
нофлотцев.
В базе водолазы тщательно осмотрели днище корабля, эсминец поставили в
плавучий док, где за сутки ему сменили заклепки в носовой части, приварили
сорванный боковой киль, выполнили другие корпусные работы.
Слухи о боевом столкновении эсминца "Живучий" с фашистской подводной
лодкой дошли и до местных жителей, но в сильно искаженном виде. Краснофлотец
Александр Петров рассказывал, как повстречавшаяся ему на берегу знакомая
девушка не поверила своим глазам, увидев его: считала, что "Живучий"
затонул. Это была уже третья "утка" о гибели нашего эсминца.
Приказами командующего Северным флотом и командующего эскадрой за
мужество и отвагу, проявленные личным составом эсминца в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, 40 членов нашего экипажа были награждены
орденами и медалями. В передовой статье "Изгнать врага с нашего моря",
помещенной во флотской газете 20 декабря 1944 года, говорилось: "Командир
миноносца ("Живучий". -- Г. П.), выходя в атаку, был уверен в том, что
экипаж корабля точно выполнит любое приказание, и личный состав полностью
оправдал надежды своего командира".
А вскорости боевого успеха добился экипаж эсминца "Достойный".
Эскортируя три транспорта из Лина-хамари в Кольский залив, "Достойный"
обнаружил вражескую подводную лодку, шедшую прямо на конвой. Капитан 3-го
ранга Никольский умелым маневром
 1 Рында -- корабельный колокол.
упредил врага. Мины, выпущенные из носовой реактивной установки "Еж" с
интервалами в доли секунды, накрыли впереди эсминца большой эллипс водной
поверхности. Из-под воды послышался взрыв. Потом минеры обрушили на врага
большую серию глубинных бомб. На поверхности появились воздушные пузыри,
всплыли какие-то обломки и растеклось большое масляное пятно'.
Три победы за несколько дней показали, что сомнения англичан в
способности североморцев защитить союзные конвои в своей операционной зоне
необоснованны.
С фронтов поступали вести о новых успехах Крас-,ной Армии. Минула
неделя с того времени, как Советские войска вклинились в Восточную Пруссию.
Германское военное командование всеми мерами стремилось не допустить или
хотя бы отсрочить вторжение Красной Армии на территорию рейха. Но эти
попытки гитлеровцев были тщетными.
В кают-компании и кубриках эсминца оживленно обсуждались фронтовые
новости. Было ясно, что враг обречен. Но подобно загнанному зверю он еще
яростно огрызался. Не складывал он оружия и на море. В этих условиях нельзя
было расслабляться, проявлять благодушие и самоуспокоенность.
30 декабря "Живучий" возвратился в Полярное после очередного поиска
подводных лодок. Выхода в ближайшие сутки не предполагалось, и экипаж
надеялся встретить Новый год в базе. Мы с Никольским собирались пойти в Дом
флота. Сигнал аврала, прозвучавший после полуночи, был для всех
неожиданностью.
%-- Корабль к походу и бою экстренно изготовить! -- объявил по
трансляции старпом Проничкин. На "Жестком", стоявшем у нашего борта, также
готовились к выходу в море.
...Транспорт "Тбилиси" (типа "Либерти") в восьмибалльный шторм шел из
Мурманска в Печенгу с отрядом бойцов и грузом, остро необходимым фронту. В
красном уголке свободные от вахты моряки наряжали елку. Транспорт в
охранении двух тральщиков и четырех "больших охотников" проходил у
полуострова Рыбачий, когда у правого борта раздался сильный взрыв.
1 Рында -- корабельный колокол.
упредил врага. Мины, выпущенные из носовой реактивной установки "Еж" с
интервалами в доли секунды, накрыли впереди эсминца большой эллипс водной
поверхности. Из-под воды послышался взрыв. Потом минеры обрушили на врага
большую серию глубинных бомб. На поверхности появились воздушные пузыри,
всплыли какие-то обломки и растеклось большое масляное пятно'.
Три победы за несколько дней показали, что сомнения англичан в
способности североморцев защитить союзные конвои в своей операционной зоне
необоснованны.
С фронтов поступали вести о новых успехах Крас-,ной Армии. Минула
неделя с того времени, как Советские войска вклинились в Восточную Пруссию.
Германское военное командование всеми мерами стремилось не допустить или
хотя бы отсрочить вторжение Красной Армии на территорию рейха. Но эти
попытки гитлеровцев были тщетными.
В кают-компании и кубриках эсминца оживленно обсуждались фронтовые
новости. Было ясно, что враг обречен. Но подобно загнанному зверю он еще
яростно огрызался. Не складывал он оружия и на море. В этих условиях нельзя
было расслабляться, проявлять благодушие и самоуспокоенность.
30 декабря "Живучий" возвратился в Полярное после очередного поиска
подводных лодок. Выхода в ближайшие сутки не предполагалось, и экипаж
надеялся встретить Новый год в базе. Мы с Никольским собирались пойти в Дом
флота. Сигнал аврала, прозвучавший после полуночи, был для всех
неожиданностью.
%-- Корабль к походу и бою экстренно изготовить! -- объявил по
трансляции старпом Проничкин. На "Жестком", стоявшем у нашего борта, также
готовились к выходу в море.
...Транспорт "Тбилиси" (типа "Либерти") в восьмибалльный шторм шел из
Мурманска в Печенгу с отрядом бойцов и грузом, остро необходимым фронту. В
красном уголке свободные от вахты моряки наряжали елку. Транспорт в
охранении двух тральщиков и четырех "больших охотников" проходил у
полуострова Рыбачий, когда у правого борта раздался сильный взрыв.
 1 ОЦВМА, ф. 254, д. 20713, л. 6.
135
В пробоину между вторым и третьим трюмами хлынула вода. Носовая часть
стала быстро погружаться. Затем последовал сильный толчок, и пароход
разломился пополам.
Кормовая часть оставалась на плаву, но на ней вспыхнул пожар:
загорелись сено, мазут, начали взрываться бочки с бензином. Положение
экипажа и пассажиров оказалось критическим. Спасаясь от огня и взрывов, люди
прыгали за борт в ледяную воду.
Корабли охранения подойти к аварийному судну не могли: шторм -- до 9
баллов, волна -- 7 баллов. "Большому охотнику" удалось поднять из воды
€1 человека. Оставшиеся на судне моряки и бойцы сумели ликвидировать
пожар. Лишь с четвертой попытки тральщику "АМ-115" удалось подойти к
уцелевшей части транспорта с подветренной стороны. Гигантские волны бросали
неуправляемое судно на тральщик. От ударов на "АМ-115" разошлись швы в
средней части корпуса, а вскоре он получил пробоину в машинном отделении.
Ведя борьбу за живучесть корабля, экипаж тральщика продолжал снимать с
"Тбилиси" пострадавших. Сняв 77 человек, "АМ-115" занял место в охранении.
Корма транспорта, покинутого экипажем, продолжала дрейфовать вдоль
берега. В двух ее трюмах находился ценный груз. В корме размещалась и
главная машина. Все это нужно было спасти. "Жесткому" и "Живучему"
предстояло разыскать и прибуксировать в базу уцелевшую часть судна.
Эсминцы вышли в залив глубокой ночью. На экране радиолокатора четко
обозначались скалистые берега, а впереди слева •-- остров Торос. Чем
больше удалялись от берега, тем сильнее ощущался шторм. Крен доходил до 40
градусов. Корабли вели поиск строем фронта. Через два часа в семи милях к
северу от Цып-Наволока радиолокатором обнаружили три цели -- аварийное судно
и два тральщика. Приблизились к "Тбилиси".
Транспорт имел большой крен, и волны свободно гуляли по его разорванной
палубе. Начальник штаба эскадры А. М. Румянцев, руководивший операцией,
приказал выделить пять добровольцев с "Жесткого" для высадки на "Тбилиси" --
нужно было кому-то принять буксирные концы.
136
Добровольцев оказалось немало. Выбор пал на артиллеристов Игоря
Раздерова, Михаила Фетисова и Николая Матукина, а также торпедиста Геннадия
Волкова и марсового Владимира Опарина. Собрав добровольцев на юте, А. М.
Румянцев сказал:
-- Важно выбрать момент для прыжка. Не торопитесь, но и не ждите, пока
стукнемся бортами. В случае гибели транспорта примем все меры к вашему
спасению.
Александр Михайлович пожелал удачи смельчакам, попрощался с каждым.
Пятеро моряков, одетых в меховые куртки, поднялись на ростры. Оттуда им
предстояло прыгать. Опасное маневрирование продолжалось уже пять часов.
"Живучий" следовал рядом. Я хорошо запомнил все, что видел. Когда "Жесткий"
подымало на гребень, транспорт оказывался далеко внизу, а потом высокий,
огромный, взлетал над эсминцем, грозя раздавить его.
После нескольких неудачных попыток "Жесткому" удалось-таки приблизиться
к аварийному судну, и добровольцы перескочили на корму "Тбилиси". Десятки
глаз с напряжением следили за их акробатическими прыжками через пучину.
"Жесткий" тут же отошел, но правые ростры оказались смятыми.
Каждый из эсминцев имел конкретную задачу: "Живучему" надлежало
обеспечить противолодочное охранение, "Жесткому" -- буксировку.
Мокрые с головы до ног, закоченевшие на пронизывающем ветру, смельчаки
приняли с эсминца буксирный конец и закрепили за кнехт, "Жесткий" дал ход и
начал буксировку. На мостике "Живучего" вздохнули с облегчением: первая
задача решена. Но не прошло и 20 минут, как буксирный трос лопнул. Пока
убирали обрывок и готовили новый буксир, аварийное судно волной и ветром
отнесло в сторону.
"Жесткий" снова приблизился к "Тбилиси", на транспорт полетел груз с
тонким проводником, на втором конце которого был закреплен стальной трос.
Выбирать тяжелый конец, балансируя на перекошенной, скользкой от льда
палубе, добровольцам было очень нелегко. В бинокль я видел их напряженные
ли-ца, их неверные, скованные обледеневшей одеждой движения. Наконец трос
закреплен и подан сигнал: "Можно давать ход".
137
А стихия не хотела покоряться. Едва начинали буксировку, как стальной
трос рвался, словно нитка. Начинали все заново, и снова трос обрывался. И
так десять (!) раз...
"Тбилиси" дрейфовал к юго-востоку вдоль северного побережья Кильдина, и
остановить этот дрейф не удавалось.
Так прошел целый день. Наступила ночь. Снежные заряды усилились.
Спасательные работы пришлось отложить до утра.
Новогоднюю ночь пятеро моряков провели на дрейфующем судне, не смыкая
глаз. Они закрепили крышки грузовых люков, подкрепили переборки.
Принайтовали крепко гусеничный трактор, грузовую автомашину и другое
крупногабаритное имущество, находившееся на верхней палубе.
Не спали в ту ночь и на "Живучем". У радиолокатора и гидроакустической
станции, в машинных и котельных отделениях бдительно несли вахту моряки.
Взрывы один за другим грохали по корпусу корабля -- это минеры "Живучего"
периодически сбрасывали за борт сковывающие серии глубинных бомб.
1 ОЦВМА, ф. 254, д. 20713, л. 6.
135
В пробоину между вторым и третьим трюмами хлынула вода. Носовая часть
стала быстро погружаться. Затем последовал сильный толчок, и пароход
разломился пополам.
Кормовая часть оставалась на плаву, но на ней вспыхнул пожар:
загорелись сено, мазут, начали взрываться бочки с бензином. Положение
экипажа и пассажиров оказалось критическим. Спасаясь от огня и взрывов, люди
прыгали за борт в ледяную воду.
Корабли охранения подойти к аварийному судну не могли: шторм -- до 9
баллов, волна -- 7 баллов. "Большому охотнику" удалось поднять из воды
€1 человека. Оставшиеся на судне моряки и бойцы сумели ликвидировать
пожар. Лишь с четвертой попытки тральщику "АМ-115" удалось подойти к
уцелевшей части транспорта с подветренной стороны. Гигантские волны бросали
неуправляемое судно на тральщик. От ударов на "АМ-115" разошлись швы в
средней части корпуса, а вскоре он получил пробоину в машинном отделении.
Ведя борьбу за живучесть корабля, экипаж тральщика продолжал снимать с
"Тбилиси" пострадавших. Сняв 77 человек, "АМ-115" занял место в охранении.
Корма транспорта, покинутого экипажем, продолжала дрейфовать вдоль
берега. В двух ее трюмах находился ценный груз. В корме размещалась и
главная машина. Все это нужно было спасти. "Жесткому" и "Живучему"
предстояло разыскать и прибуксировать в базу уцелевшую часть судна.
Эсминцы вышли в залив глубокой ночью. На экране радиолокатора четко
обозначались скалистые берега, а впереди слева •-- остров Торос. Чем
больше удалялись от берега, тем сильнее ощущался шторм. Крен доходил до 40
градусов. Корабли вели поиск строем фронта. Через два часа в семи милях к
северу от Цып-Наволока радиолокатором обнаружили три цели -- аварийное судно
и два тральщика. Приблизились к "Тбилиси".
Транспорт имел большой крен, и волны свободно гуляли по его разорванной
палубе. Начальник штаба эскадры А. М. Румянцев, руководивший операцией,
приказал выделить пять добровольцев с "Жесткого" для высадки на "Тбилиси" --
нужно было кому-то принять буксирные концы.
136
Добровольцев оказалось немало. Выбор пал на артиллеристов Игоря
Раздерова, Михаила Фетисова и Николая Матукина, а также торпедиста Геннадия
Волкова и марсового Владимира Опарина. Собрав добровольцев на юте, А. М.
Румянцев сказал:
-- Важно выбрать момент для прыжка. Не торопитесь, но и не ждите, пока
стукнемся бортами. В случае гибели транспорта примем все меры к вашему
спасению.
Александр Михайлович пожелал удачи смельчакам, попрощался с каждым.
Пятеро моряков, одетых в меховые куртки, поднялись на ростры. Оттуда им
предстояло прыгать. Опасное маневрирование продолжалось уже пять часов.
"Живучий" следовал рядом. Я хорошо запомнил все, что видел. Когда "Жесткий"
подымало на гребень, транспорт оказывался далеко внизу, а потом высокий,
огромный, взлетал над эсминцем, грозя раздавить его.
После нескольких неудачных попыток "Жесткому" удалось-таки приблизиться
к аварийному судну, и добровольцы перескочили на корму "Тбилиси". Десятки
глаз с напряжением следили за их акробатическими прыжками через пучину.
"Жесткий" тут же отошел, но правые ростры оказались смятыми.
Каждый из эсминцев имел конкретную задачу: "Живучему" надлежало
обеспечить противолодочное охранение, "Жесткому" -- буксировку.
Мокрые с головы до ног, закоченевшие на пронизывающем ветру, смельчаки
приняли с эсминца буксирный конец и закрепили за кнехт, "Жесткий" дал ход и
начал буксировку. На мостике "Живучего" вздохнули с облегчением: первая
задача решена. Но не прошло и 20 минут, как буксирный трос лопнул. Пока
убирали обрывок и готовили новый буксир, аварийное судно волной и ветром
отнесло в сторону.
"Жесткий" снова приблизился к "Тбилиси", на транспорт полетел груз с
тонким проводником, на втором конце которого был закреплен стальной трос.
Выбирать тяжелый конец, балансируя на перекошенной, скользкой от льда
палубе, добровольцам было очень нелегко. В бинокль я видел их напряженные
ли-ца, их неверные, скованные обледеневшей одеждой движения. Наконец трос
закреплен и подан сигнал: "Можно давать ход".
137
А стихия не хотела покоряться. Едва начинали буксировку, как стальной
трос рвался, словно нитка. Начинали все заново, и снова трос обрывался. И
так десять (!) раз...
"Тбилиси" дрейфовал к юго-востоку вдоль северного побережья Кильдина, и
остановить этот дрейф не удавалось.
Так прошел целый день. Наступила ночь. Снежные заряды усилились.
Спасательные работы пришлось отложить до утра.
Новогоднюю ночь пятеро моряков провели на дрейфующем судне, не смыкая
глаз. Они закрепили крышки грузовых люков, подкрепили переборки.
Принайтовали крепко гусеничный трактор, грузовую автомашину и другое
крупногабаритное имущество, находившееся на верхней палубе.
Не спали в ту ночь и на "Живучем". У радиолокатора и гидроакустической
станции, в машинных и котельных отделениях бдительно несли вахту моряки.
Взрывы один за другим грохали по корпусу корабля -- это минеры "Живучего"
периодически сбрасывали за борт сковывающие серии глубинных бомб.
 От частых взрывов, а может быть, от штормовых сотрясений на "Живучем
вышла из строя радиолокационная станция -- отскочил верхний конец фидера.
Необходимо было припаять его. Плексигласовый колпак антенны возвышался над
мостиком. Днем на ликвидацию неисправности ушло бы несколько минут, а в
темноте при такой качке не то что паять, подняться по скоб-трапу рискованно.
Да и освещение включать не разрешалось. Но радиометрист Александр Петров все
же сумел устранить поломку. Он достал
парусиновый чехол от антенны и, рискуя сорваться, поднялся с ним
наверх. Краснофлотец Баринов помог ему накрыть этим чехлом купол антенны
радиолокатора. Светомаскировка была обеспечена. Петров быстро припаял кончик
фидера, и через несколько минут корабль стал "зрячим".
Утром спасательные работы были возобновлены. А ветер не стихал -- 8
баллов и крупная зыбь с норда. Тральщики заливало водой, и их отпустили в
базу.
Аварийное судно за ночь сдрейфовало к Кильдину, до берега оставалось
всего пять кабельтовых. Подойти к нему эсминец не мог. Вскоре на помощь
подоспели буксиры "М-2" и "М-12" с мощными буксирными устройствами и лидер
"Баку". В небе появились два противолодочных самолета. Общими усилиями
эсминцев и буксиров корма транспорта в начале суток 2 января была приведена
в Териберку.
Пятеро отважных моряков, выполнив задание, благополучно вернулись на
корабль. Они провели на "Тбилиси" 40 часов 15 минут1. Позднее все
они были награждены боевыми орденами.
От частых взрывов, а может быть, от штормовых сотрясений на "Живучем
вышла из строя радиолокационная станция -- отскочил верхний конец фидера.
Необходимо было припаять его. Плексигласовый колпак антенны возвышался над
мостиком. Днем на ликвидацию неисправности ушло бы несколько минут, а в
темноте при такой качке не то что паять, подняться по скоб-трапу рискованно.
Да и освещение включать не разрешалось. Но радиометрист Александр Петров все
же сумел устранить поломку. Он достал
парусиновый чехол от антенны и, рискуя сорваться, поднялся с ним
наверх. Краснофлотец Баринов помог ему накрыть этим чехлом купол антенны
радиолокатора. Светомаскировка была обеспечена. Петров быстро припаял кончик
фидера, и через несколько минут корабль стал "зрячим".
Утром спасательные работы были возобновлены. А ветер не стихал -- 8
баллов и крупная зыбь с норда. Тральщики заливало водой, и их отпустили в
базу.
Аварийное судно за ночь сдрейфовало к Кильдину, до берега оставалось
всего пять кабельтовых. Подойти к нему эсминец не мог. Вскоре на помощь
подоспели буксиры "М-2" и "М-12" с мощными буксирными устройствами и лидер
"Баку". В небе появились два противолодочных самолета. Общими усилиями
эсминцев и буксиров корма транспорта в начале суток 2 января была приведена
в Териберку.
Пятеро отважных моряков, выполнив задание, благополучно вернулись на
корабль. Они провели на "Тбилиси" 40 часов 15 минут1. Позднее все
они были награждены боевыми орденами.

1 ОЦВМЛ, ф. 254, д. 33938, л. 9-10.
середине января 1945 года началось мощное наступление советских войск.
Весь фронт -- от Балтийского моря до Карпат -- пришел в движение. Победный
гром орудий гремел на территории Восточной Пруссии, в Западной Польше, в
немецкой Силезии, в Чехословакии, Венгрии.
Североморцы вместе со всеми советскими людьми радовались каждой новой
победе Красной Армии. У всех было приподнятое настроение. Моряки горели
желанием внести свой вклад в дело разгрома врага.
В результате успешного наступления войск Карельского фронта,
поддерживаемых Северным флотом, осенью 1944 года обстановка на Северном
морском театре в корне изменилась. Немецко-фашистские войска потеряли многие
свои позиции. Авиация гитлеровцев, лишенная аэродромов, расположенных вблизи
наших баз, перешла теперь главным образом на ведение разведки. Надводные
корабли немцев были малочисленны и обеспечивали в основном дозорную службу и
эвакуацию. Последний их крупный корабль -- линкор "Тир-пиц" был потоплен в
фиорде 12 ноября 1944 года английскими бомбардировщиками1.
Казалось бы, боевая деятельность Северного флота должна заметно
снизиться, но в действительности этого не произошло. Немецкое морское
командование, не-
 1 Вайнер Б. А. Северный флот в Великой Отечественной войне.
М, Воениздат, 1964, с 364.
140
смотря на безнадежность дальнейшей борьбы, не отказалось от намерений
нарушить наше судоходство на Севере, считая, что в победах Красной Армии
большую роль играет помощь союзников. С этой целью в базы Норвегии из других
районов были дополнительно переброшены подводные лодки, численность которых
к началу 1945 года была доведена до 100 единиц1.
Позиции вражеских лодок, как и в конце 1944 года, располагались вдоль
побережья и у входов в базы Северного флота. Там в узких стесненных районах
подводные хищники подстерегали "добычу", нападая на корабли поодиночке и
группами. Наиболее опасным в этом отношении районом был Кильдинский плес.
Подводные лодки действовали здесь в непосредственной близости от берега,
атакуя корабли с больших дистанций самонаводящимися торпедами.
Возросла и минная опасность. Вражеские подводники минировали фарватеры
и узкости в Баренцевом и Белом морях, применяя мины с различными
взрывателями. Нагрузка на противолодочные силы возросла. Многие корабли
работали на износ. Личный состав эсминцев проявлял буквально чудеса
изобретательности, чтобы приспособить устаревшее оборудование к потребностям
сложившейся обстановки. Любое новшество становилось достоянием всех
экипажей.
Основным оружием в борьбе с подводными лодками были глубинные бом'бы и
реактивные мины, расход которых от похода к походу возрастал. Для пополнения
противолодочного боезапаса корабли вынуждены были заходить в базу. Минеры
разработали усовершенствование, позволившее комплект больших глубинных бомб
довести до 150, а реактивных мин до 144 штук, то есть увеличить почти в два
раза. А это уже что-то значило!
Но больше всех смекалки по-прежнему требовалось от личного состава
электромеханической боевой части. И надо сказать, наши ребята были
неистощимы на выдумку. Приведу такой пример. В начале января эсминцы
эскортировали из Белого моря в Кольский залив 15 союзных транспортов. Когда
переход приближался к концу, разыгрался шторм. В один из трюмов
1 Вайнер Б. А. Северный флот в Великой Отечественной войне.
М, Воениздат, 1964, с 364.
140
смотря на безнадежность дальнейшей борьбы, не отказалось от намерений
нарушить наше судоходство на Севере, считая, что в победах Красной Армии
большую роль играет помощь союзников. С этой целью в базы Норвегии из других
районов были дополнительно переброшены подводные лодки, численность которых
к началу 1945 года была доведена до 100 единиц1.
Позиции вражеских лодок, как и в конце 1944 года, располагались вдоль
побережья и у входов в базы Северного флота. Там в узких стесненных районах
подводные хищники подстерегали "добычу", нападая на корабли поодиночке и
группами. Наиболее опасным в этом отношении районом был Кильдинский плес.
Подводные лодки действовали здесь в непосредственной близости от берега,
атакуя корабли с больших дистанций самонаводящимися торпедами.
Возросла и минная опасность. Вражеские подводники минировали фарватеры
и узкости в Баренцевом и Белом морях, применяя мины с различными
взрывателями. Нагрузка на противолодочные силы возросла. Многие корабли
работали на износ. Личный состав эсминцев проявлял буквально чудеса
изобретательности, чтобы приспособить устаревшее оборудование к потребностям
сложившейся обстановки. Любое новшество становилось достоянием всех
экипажей.
Основным оружием в борьбе с подводными лодками были глубинные бом'бы и
реактивные мины, расход которых от похода к походу возрастал. Для пополнения
противолодочного боезапаса корабли вынуждены были заходить в базу. Минеры
разработали усовершенствование, позволившее комплект больших глубинных бомб
довести до 150, а реактивных мин до 144 штук, то есть увеличить почти в два
раза. А это уже что-то значило!
Но больше всех смекалки по-прежнему требовалось от личного состава
электромеханической боевой части. И надо сказать, наши ребята были
неистощимы на выдумку. Приведу такой пример. В начале января эсминцы
эскортировали из Белого моря в Кольский залив 15 союзных транспортов. Когда
переход приближался к концу, разыгрался шторм. В один из трюмов
 1 Хроника Великой Отечественной войны на Северном морском
театре. Вып. 8, 1945, с. 7.
t41
"Деятельного" стала поступать вода. Нужно было срочно устранить течь.
Краснофлотцы Кондрашев и Акимов сделали небольшие углубления вокруг трещины
и попытались залить их цементом. Но цемент не затвердевал в забортной воде.
Тогда по предложению инженера-механика Зуева трюмные вырезали парусиновую
заплату, покрыли смесью (песок и цемент, замешанные на кузбасс-лаке), в
отверстие продели медную трубку, вставив ее одним концом в трещину, и
наложили заплату на поврежденное место. Парусина плотно пристала к кромке
днища, а воду несложно было отвести через трубку. Потом трубку заглушили
пробкой, и течь была устранена окончательно. Подобных примеров
изобретательности наших моряков можно привести сколько угодно.
В последние месяцы войны немецкие подводные пираты стали действовать
дерзко, с отчаянием обреченных. В связи с этим наше командование приняло ряд
дополнительных мер для усиления противолодочной обороны. Число кораблей
эскорта непрерывно росло. Если в кампании 1944 года на каждый транспорт в
среднем приходилось два эскортных корабля, то в январе 1945 года -- уже
четыре, а в феврале число их достигало восьми. Противолодочную оборону
транспортов нередко организовывали из двух линий кругового охранения.
Гитлеровские подводники прибегали к различным ухищрениям, чтобы ввести
в заблуждение наших гидроакустиков. Они применяли, например, имитационные
патроны, выстреливая их далеко в сторону от своего курса и создавая тем
самым эффект присутствия подводной лодки там, где ее нет. Но эта уловка
врага быстро была разгадана. Наши акустики научились распознавать, где
лодка, а где имитатор, научились уклоняться от прямоидущих торпед.
Но эффективных средств борьбы с самонаводящимися торпедами у нас не
было. И немцы пользовались этим своим преимуществом. 16 января гитлеровской
подводной лодке удалось потопить эсминец "Деятельный", а спустя четыре дня
нанести серьезные повреждения эсминцу "Разъяренный".
Я беседовал со многими участниками того похода, изучал архивные
документы, встречался со спасшимися членами экипажа "Деятельного", кое-что
видел и
142
слышал сам. Все это помогло мне восстановить весь ход событий. Вот как
они развивались.
...В Кольском заливе на якорях стояли шесть транспортов типа "Либерти"
и два танкера беломорской группы союзного конвоя. Для эскортирования их были
выделены семь эсминцев и четыре "больших охотника". В море вторые сутки
бушевал шторм, и на ближайшие дни прогноз был неутешительным. Поэтому, чтобы
не задерживать надолго иностранные суда с грузами, которые необходимо было
доставить в беломорские порты, командующий флотом распорядился отправить
конвой под охраной одних эсминцев ("большие охотники" в штормовых условиях
использовать было нельзя), добавив в состав эскорта еще два
эсминца1.
Перед выходом в море командир конвоя капитан 1-го ранга А. М. Румянцев,
ставя задачу командирам эсминцев, сказал:
-- На судах конвоя 60 тысяч тонн важного груза. Он нужен фронту.
Необходимо суда провести без потерь. Для выполнения этой ответственной
задачи нам выделено девять кораблей. Это меньше тактической нормы, но
другого выхода нет. Полагаюсь на ваш опыт и боевую выучку личного состава.
16 января в 13 часов 30 минут конвой "КБ-1" в составе восьми судов,
эскортируемых лидером "Баку", эсминцами "Грозный", "Разумный", "Деятельный",
"Живучий", "Дерзкий", "Доблестный", "Достойный" и "Жесткий", вышел из
Кольского залива в Белое море. Над заливом стелилась туманная морозная мгла.
На подходах к Кильдину конвой попал в полосу снежных зарядов. Видимость
исчезла. Только временами проглядывались сквозь снежную пелену мачты и трубы
кораблей.
На экране радиолокатора "Живучего" обозначился походный порядок. Мы с
Васильевым зарисовываем изображение и несем командиру схему. Сличаем с
выданной ранее схемой -- точно. Головной -- "Баку". Позади, в миле от лидера
-- три кильватерных колонны транспортов (в двух первых по три, в последней
-- два судна). Со стороны берега, на расстоянии полутора миль от судов,
охранение несли "Разумный", "Дерзкий" и "Деятельный". По левому борту конвоя
распо-
1 Хроника Великой Отечественной войны на Северном морском
театре. Вып. 8, 1945, с. 7.
t41
"Деятельного" стала поступать вода. Нужно было срочно устранить течь.
Краснофлотцы Кондрашев и Акимов сделали небольшие углубления вокруг трещины
и попытались залить их цементом. Но цемент не затвердевал в забортной воде.
Тогда по предложению инженера-механика Зуева трюмные вырезали парусиновую
заплату, покрыли смесью (песок и цемент, замешанные на кузбасс-лаке), в
отверстие продели медную трубку, вставив ее одним концом в трещину, и
наложили заплату на поврежденное место. Парусина плотно пристала к кромке
днища, а воду несложно было отвести через трубку. Потом трубку заглушили
пробкой, и течь была устранена окончательно. Подобных примеров
изобретательности наших моряков можно привести сколько угодно.
В последние месяцы войны немецкие подводные пираты стали действовать
дерзко, с отчаянием обреченных. В связи с этим наше командование приняло ряд
дополнительных мер для усиления противолодочной обороны. Число кораблей
эскорта непрерывно росло. Если в кампании 1944 года на каждый транспорт в
среднем приходилось два эскортных корабля, то в январе 1945 года -- уже
четыре, а в феврале число их достигало восьми. Противолодочную оборону
транспортов нередко организовывали из двух линий кругового охранения.
Гитлеровские подводники прибегали к различным ухищрениям, чтобы ввести
в заблуждение наших гидроакустиков. Они применяли, например, имитационные
патроны, выстреливая их далеко в сторону от своего курса и создавая тем
самым эффект присутствия подводной лодки там, где ее нет. Но эта уловка
врага быстро была разгадана. Наши акустики научились распознавать, где
лодка, а где имитатор, научились уклоняться от прямоидущих торпед.
Но эффективных средств борьбы с самонаводящимися торпедами у нас не
было. И немцы пользовались этим своим преимуществом. 16 января гитлеровской
подводной лодке удалось потопить эсминец "Деятельный", а спустя четыре дня
нанести серьезные повреждения эсминцу "Разъяренный".
Я беседовал со многими участниками того похода, изучал архивные
документы, встречался со спасшимися членами экипажа "Деятельного", кое-что
видел и
142
слышал сам. Все это помогло мне восстановить весь ход событий. Вот как
они развивались.
...В Кольском заливе на якорях стояли шесть транспортов типа "Либерти"
и два танкера беломорской группы союзного конвоя. Для эскортирования их были
выделены семь эсминцев и четыре "больших охотника". В море вторые сутки
бушевал шторм, и на ближайшие дни прогноз был неутешительным. Поэтому, чтобы
не задерживать надолго иностранные суда с грузами, которые необходимо было
доставить в беломорские порты, командующий флотом распорядился отправить
конвой под охраной одних эсминцев ("большие охотники" в штормовых условиях
использовать было нельзя), добавив в состав эскорта еще два
эсминца1.
Перед выходом в море командир конвоя капитан 1-го ранга А. М. Румянцев,
ставя задачу командирам эсминцев, сказал:
-- На судах конвоя 60 тысяч тонн важного груза. Он нужен фронту.
Необходимо суда провести без потерь. Для выполнения этой ответственной
задачи нам выделено девять кораблей. Это меньше тактической нормы, но
другого выхода нет. Полагаюсь на ваш опыт и боевую выучку личного состава.
16 января в 13 часов 30 минут конвой "КБ-1" в составе восьми судов,
эскортируемых лидером "Баку", эсминцами "Грозный", "Разумный", "Деятельный",
"Живучий", "Дерзкий", "Доблестный", "Достойный" и "Жесткий", вышел из
Кольского залива в Белое море. Над заливом стелилась туманная морозная мгла.
На подходах к Кильдину конвой попал в полосу снежных зарядов. Видимость
исчезла. Только временами проглядывались сквозь снежную пелену мачты и трубы
кораблей.
На экране радиолокатора "Живучего" обозначился походный порядок. Мы с
Васильевым зарисовываем изображение и несем командиру схему. Сличаем с
выданной ранее схемой -- точно. Головной -- "Баку". Позади, в миле от лидера
-- три кильватерных колонны транспортов (в двух первых по три, в последней
-- два судна). Со стороны берега, на расстоянии полутора миль от судов,
охранение несли "Разумный", "Дерзкий" и "Деятельный". По левому борту конвоя
распо-
 1 О ЦВМ А, ф. 254, д. 40152, л. 57.
143
лагались соответственно "Грозный", "Жесткий" и "Живучий". "Доблестный"
и "Достойный" несли подвижной противолодочный дозор.
А погода все ухудшалась. Ветер усилился до девяти баллов, температура
воздуха понизилась, над поверхностью воды заметно усилилось парение. Корабли
начали обмерзать. Сменившись с вахты, люди обвязывались концами и начинали
окалывать лед, но ледовый панцирь появлялся снова.
Наступила ночь. На верхнем мостике "Живучего", где стояли вахту офицер
и два сигнальщика, было невмоготу от холода -- леденящий ветер пронизывал
насквозь и полушубки, и плотные шерстяные подшлемники. А в котельных и
машинных отделениях, задраенных наглухо, чтобы вода не проникала через
вентиляционные грибки, нечем было дышать от жары и духоты. Где было легче,
сказать трудно.
Приняв рапорт о смене вахты, командир корабля капитан 3-го ранга
Шумиловi спустился в штурманскую рубку погреться. Но не успел он
даже выпить стакана чая, как с мостика доложили:
-- Впереди по курсу слышны глухие взрывы!
Вскоре в динамике рации послышался голос капи
тана 3-го ранга Щербакова -- командира "Жесткого":
Имею контакт с подводной лодкой. Атакую глу
бинными бомбами.
Вахтенный офицер! Объявите боевую тревогу!
Акустикам и радиометристам усилить наблюдение в
левом секторе! -- приказал Шумилов.
Через полчаса последовал отбой -- целей не обнаружили.
Конвой продолжал идти заданным курсом.
В 21.00 справа от "Живучего", в 30--40 кабельтовых, послышались взрывы,
выстрелы, а затем трассы малокалиберных снарядов прочертили небо. Аварийный
сигнал исходил от эскортного корабля.
-- Там место "Деятельного", -- уточнил вахтенный
офицер.
Я спустился к Гончарову в штурманскую. Конвой находился на меридиане
бухты Рында.
1 О ЦВМ А, ф. 254, д. 40152, л. 57.
143
лагались соответственно "Грозный", "Жесткий" и "Живучий". "Доблестный"
и "Достойный" несли подвижной противолодочный дозор.
А погода все ухудшалась. Ветер усилился до девяти баллов, температура
воздуха понизилась, над поверхностью воды заметно усилилось парение. Корабли
начали обмерзать. Сменившись с вахты, люди обвязывались концами и начинали
окалывать лед, но ледовый панцирь появлялся снова.
Наступила ночь. На верхнем мостике "Живучего", где стояли вахту офицер
и два сигнальщика, было невмоготу от холода -- леденящий ветер пронизывал
насквозь и полушубки, и плотные шерстяные подшлемники. А в котельных и
машинных отделениях, задраенных наглухо, чтобы вода не проникала через
вентиляционные грибки, нечем было дышать от жары и духоты. Где было легче,
сказать трудно.
Приняв рапорт о смене вахты, командир корабля капитан 3-го ранга
Шумиловi спустился в штурманскую рубку погреться. Но не успел он
даже выпить стакана чая, как с мостика доложили:
-- Впереди по курсу слышны глухие взрывы!
Вскоре в динамике рации послышался голос капи
тана 3-го ранга Щербакова -- командира "Жесткого":
Имею контакт с подводной лодкой. Атакую глу
бинными бомбами.
Вахтенный офицер! Объявите боевую тревогу!
Акустикам и радиометристам усилить наблюдение в
левом секторе! -- приказал Шумилов.
Через полчаса последовал отбой -- целей не обнаружили.
Конвой продолжал идти заданным курсом.
В 21.00 справа от "Живучего", в 30--40 кабельтовых, послышались взрывы,
выстрелы, а затем трассы малокалиберных снарядов прочертили небо. Аварийный
сигнал исходил от эскортного корабля.
-- Там место "Деятельного", -- уточнил вахтенный
офицер.
Я спустился к Гончарову в штурманскую. Конвой находился на меридиане
бухты Рында.
 1 В конце декабря капитан 3-го ранга Н. Д. Рябченко убыл на
Черноморский флот на новый эсминец, вместо него назначили Алексея Ивановича
Шумилова, ранее командовавшего тральщиком.
1 В конце декабря капитан 3-го ранга Н. Д. Рябченко убыл на
Черноморский флот на новый эсминец, вместо него назначили Алексея Ивановича
Шумилова, ранее командовавшего тральщиком.
 Что случилось, пока никто не знал. Все же на "Живучем" объявили боевую
тревогу, продолжая удерживать назначенное место в ордере. В 21.10 -- радио
от командира конвоя:
-- "Рулет-18"1 торпедирован, "Дерзкому" и "Жи
вучему" оказать помощь.
Резко отвернули вправо. Корабль сильно накренился, бак скрылся в
волнах.
Пять градусов право руля! -- приказал Шу
милов.
Руль право пять! -- отрепетовал Папушин через
переговорную трубу и начал отводить руль. Корабль
немного выровнялся -- поворот проходил более плав
но. Когда легли на курс и увеличили ход, радиометрист
доложил:
Левый борт 10, дистанция 49 кабельтовых, цель
и правый борт 17, дистанция 65 кабельтовых, вторая
цель!
Ближе к нам -- "Дерзкий", справа -- "Деятель
ный", -- вслух прокомментировал Шумилов и назна
чил рулевому новый курс. В 21.40 на экране локатора
наблюдались две цели: "Дерзкий" уже подходил к ава
рийному кораблю2. Его командир капитан 3-го ранга
Максимов передал по радио:
Приступаю к спасению людей. "Живучему" обе
спечивать противолодочную оборону.
Через пять минут "Живучий" начал описывать циркуляцию вокруг двух
кораблей, сбрасывая сковывающие серии глубинных бомб. В 21.47 радиометрист
Лю-бимкин доложил:
-- Вторая цель исчезла!3
Этот доклад словно обухом по голове ударил каждого из стоявших на
мостике. Все поняли -- "Деятельный" пошел ко дну. Такой быстрой развязки
никто из нас не ожидал.
Продолжая поиск подводных лодок, "Живучий" пошел на сближение с
"Дерзким". Осветив прожектором место гибели "Деятельного", мы увидели на
воде масляные пятна и горящий патрон Гольмса. Около часа мы ходили
переменными галсами, но больше ничего
Что случилось, пока никто не знал. Все же на "Живучем" объявили боевую
тревогу, продолжая удерживать назначенное место в ордере. В 21.10 -- радио
от командира конвоя:
-- "Рулет-18"1 торпедирован, "Дерзкому" и "Жи
вучему" оказать помощь.
Резко отвернули вправо. Корабль сильно накренился, бак скрылся в
волнах.
Пять градусов право руля! -- приказал Шу
милов.
Руль право пять! -- отрепетовал Папушин через
переговорную трубу и начал отводить руль. Корабль
немного выровнялся -- поворот проходил более плав
но. Когда легли на курс и увеличили ход, радиометрист
доложил:
Левый борт 10, дистанция 49 кабельтовых, цель
и правый борт 17, дистанция 65 кабельтовых, вторая
цель!
Ближе к нам -- "Дерзкий", справа -- "Деятель
ный", -- вслух прокомментировал Шумилов и назна
чил рулевому новый курс. В 21.40 на экране локатора
наблюдались две цели: "Дерзкий" уже подходил к ава
рийному кораблю2. Его командир капитан 3-го ранга
Максимов передал по радио:
Приступаю к спасению людей. "Живучему" обе
спечивать противолодочную оборону.
Через пять минут "Живучий" начал описывать циркуляцию вокруг двух
кораблей, сбрасывая сковывающие серии глубинных бомб. В 21.47 радиометрист
Лю-бимкин доложил:
-- Вторая цель исчезла!3
Этот доклад словно обухом по голове ударил каждого из стоявших на
мостике. Все поняли -- "Деятельный" пошел ко дну. Такой быстрой развязки
никто из нас не ожидал.
Продолжая поиск подводных лодок, "Живучий" пошел на сближение с
"Дерзким". Осветив прожектором место гибели "Деятельного", мы увидели на
воде масляные пятна и горящий патрон Гольмса. Около часа мы ходили
переменными галсами, но больше ничего
 1 Позывной эсминца "Деятельный"
2 ОЦВМА, ф. 47, д 31711, лл 43--44
3 Там же, л. 44
145
1 Позывной эсминца "Деятельный"
2 ОЦВМА, ф. 47, д 31711, лл 43--44
3 Там же, л. 44
145

 не обнаружили и повернули вслед за "Дерзким" догонять конвой. Надо ли
говорить, что было на душе у каждого?
В полночь "Живучий" и "Дерзкий" заняли места в эскорте. У ледовой
кромки горла Белого моря конвой был расформирован: во льды подводные лодки
врага не заходили. Под проводкой ледоколов транспорты благополучно прибыли к
месту назначения.
Но вернемся к обстоятельствам гибели "Деятельного". Получив приказание
командира конвоя, "Дерзкий" вышел из ордера на помощь "Деятельному",
попавшему в беду. В 21.20 неподалеку
от аварийного корабля гидроакустик "Дерзкого" обнаружил вражескую
подводную лодку. Сбросив на нее глубинные бомбы, эсминец лег на курс. Через
12 минут вновь обнаружили лодку в подводном положении, и опять на нее
сбросили большую серию глубинных бомб. Все бомбы взорвались. Результаты
атаки не известны. Наблюдение за "Деятельным" было непрерывным.
В 21.46 радиометристы "Дерзкого" на экране локатора зафиксировали
исчезновение "Деятельного", а сигнальщики увидели на воде большое пламя.
Через три минуты "Дерзкий" подошел к месту погружения эсминца. Застопорил
машины, чтобы корпусом и винтами не побить людей, плававших на воде, и
приступил к спасательной операции. По левому борту была обнаружена резиновая
шлюпка с людьми, с правого борта -- полузатопленный катер. На нем что-то
тлело. Через минуту катер затонул1.
не обнаружили и повернули вслед за "Дерзким" догонять конвой. Надо ли
говорить, что было на душе у каждого?
В полночь "Живучий" и "Дерзкий" заняли места в эскорте. У ледовой
кромки горла Белого моря конвой был расформирован: во льды подводные лодки
врага не заходили. Под проводкой ледоколов транспорты благополучно прибыли к
месту назначения.
Но вернемся к обстоятельствам гибели "Деятельного". Получив приказание
командира конвоя, "Дерзкий" вышел из ордера на помощь "Деятельному",
попавшему в беду. В 21.20 неподалеку
от аварийного корабля гидроакустик "Дерзкого" обнаружил вражескую
подводную лодку. Сбросив на нее глубинные бомбы, эсминец лег на курс. Через
12 минут вновь обнаружили лодку в подводном положении, и опять на нее
сбросили большую серию глубинных бомб. Все бомбы взорвались. Результаты
атаки не известны. Наблюдение за "Деятельным" было непрерывным.
В 21.46 радиометристы "Дерзкого" на экране локатора зафиксировали
исчезновение "Деятельного", а сигнальщики увидели на воде большое пламя.
Через три минуты "Дерзкий" подошел к месту погружения эсминца. Застопорил
машины, чтобы корпусом и винтами не побить людей, плававших на воде, и
приступил к спасательной операции. По левому борту была обнаружена резиновая
шлюпка с людьми, с правого борта -- полузатопленный катер. На нем что-то
тлело. Через минуту катер затонул1.
 ОЦВМЛ, ф. 254, д. 29820, л. 93.
146
С эсминца спустили штормтрап и подали на шлюпку бросательный конец,
чтобы подтянуть ее к борту. Но переполненная шлюпка опрокинулась на крутой
волне, и все люди очутились в ледяной воде. С "Дерзкого" были сброшены пять
спасательных кругов и пробковый плот, но ими никто не сумел воспользоваться.
В 22.04 из воды подняли на борт семерых окоченевших моряков. Им тут же
была оказана медицинская помощь. Среди спасенных был старпом старший
лейтенант О. М. Мачинский.
Продолжая освещать место гибели корабля, "Дерзкий" не прекращал
гидроакустический поиск. Яркий свет прожектора привлек внимание вражеской
подводной лодки, затаившейся неподалеку.
-- Торпеда справа 15! -- доложил гидроакустик
Волков.
-- Право на борт, аварийный вперед! -- приказал
Максимов.
Корабль накренился и задрожал, набирая обороты. Через несколько секунд
на эсминце увидели фосфоресцирующий след торпеды. Она шла навстречу кораблю,
чуть правее. Повернет на винты или не повернет?--думал в те секунды каждый.
Ведь торпеда могла быть акустической.
Тем временем минеры сбросили на лодку серию глубинных бомб. За кормой
раздались взрывы. Только они стихли, как послышался еще один -- отдаленный
-- взрыв1. Торпеда оказалась прямоидущей (не акустической).
Спасенные члены экипажа "Деятельного" рассказа-ли о драматических
событиях, развернувшихся той ночью на их корабле.
В 20 часов 30 минут радиометрист Крайнов обнаружил радиолокатором малую
цель справа со стороны берега. Импульс был размытый, нечеткий. Иногда он
вовсе исчезал, скрываемый гребнями волн. Когда на экране вновь появился
небольшой "зайчик", старшина обратил внимание, что он стал чуть ближе к
кораблю, и доложил на мостик:
-- Справа 30, дистанция 28 кабельтовых, малая
цель идет на сближение!
ОЦВМЛ, ф. 254, д. 29820, л. 93.
146
С эсминца спустили штормтрап и подали на шлюпку бросательный конец,
чтобы подтянуть ее к борту. Но переполненная шлюпка опрокинулась на крутой
волне, и все люди очутились в ледяной воде. С "Дерзкого" были сброшены пять
спасательных кругов и пробковый плот, но ими никто не сумел воспользоваться.
В 22.04 из воды подняли на борт семерых окоченевших моряков. Им тут же
была оказана медицинская помощь. Среди спасенных был старпом старший
лейтенант О. М. Мачинский.
Продолжая освещать место гибели корабля, "Дерзкий" не прекращал
гидроакустический поиск. Яркий свет прожектора привлек внимание вражеской
подводной лодки, затаившейся неподалеку.
-- Торпеда справа 15! -- доложил гидроакустик
Волков.
-- Право на борт, аварийный вперед! -- приказал
Максимов.
Корабль накренился и задрожал, набирая обороты. Через несколько секунд
на эсминце увидели фосфоресцирующий след торпеды. Она шла навстречу кораблю,
чуть правее. Повернет на винты или не повернет?--думал в те секунды каждый.
Ведь торпеда могла быть акустической.
Тем временем минеры сбросили на лодку серию глубинных бомб. За кормой
раздались взрывы. Только они стихли, как послышался еще один -- отдаленный
-- взрыв1. Торпеда оказалась прямоидущей (не акустической).
Спасенные члены экипажа "Деятельного" рассказа-ли о драматических
событиях, развернувшихся той ночью на их корабле.
В 20 часов 30 минут радиометрист Крайнов обнаружил радиолокатором малую
цель справа со стороны берега. Импульс был размытый, нечеткий. Иногда он
вовсе исчезал, скрываемый гребнями волн. Когда на экране вновь появился
небольшой "зайчик", старшина обратил внимание, что он стал чуть ближе к
кораблю, и доложил на мостик:
-- Справа 30, дистанция 28 кабельтовых, малая
цель идет на сближение!
 1 На некоторых торпедах имелись приборы-самоликвидаторы,
взрывавшие торпеду после прохождения заданной дистанции.
1 На некоторых торпедах имелись приборы-самоликвидаторы,
взрывавшие торпеду после прохождения заданной дистанции.

 Вахтенный офицер старший лейтенант М. Ф. Тур-ланов объявил боевую
тревогу. На мостик вбежал командир корабля капитан-лейтенант К. А.
Кравченко, месяц назад сменивший на этом посту П. М. Гончара'. Прежде он был
старпомом на эсминце "Жесткий".
Намерения врага командиру были ясны; решив преградить субмарине путь к
транспортам, он сразу скомандовал:
-- Полный ход, право руль!
Когда расстояние до цели сократилось, в фосфоресцирующем буруне с
мостика опознали лодку, шедшую на погружение. Эсминец устремился к буруну,
но лодка ужо ушла на глубину. Вслед ей полетели бомбы. Пока минеры готовили
новую серию глубинных бомб, корабль разворачивался на обратный курс для
повторной атаки. Когда эсминец уже заканчивал циркуляцию, в корме раздался
взрыв. Случилось это в 20 часов 55 минут. Корабль вздрогнул, осел на корму
Вахтенный офицер старший лейтенант М. Ф. Тур-ланов объявил боевую
тревогу. На мостик вбежал командир корабля капитан-лейтенант К. А.
Кравченко, месяц назад сменивший на этом посту П. М. Гончара'. Прежде он был
старпомом на эсминце "Жесткий".
Намерения врага командиру были ясны; решив преградить субмарине путь к
транспортам, он сразу скомандовал:
-- Полный ход, право руль!
Когда расстояние до цели сократилось, в фосфоресцирующем буруне с
мостика опознали лодку, шедшую на погружение. Эсминец устремился к буруну,
но лодка ужо ушла на глубину. Вслед ей полетели бомбы. Пока минеры готовили
новую серию глубинных бомб, корабль разворачивался на обратный курс для
повторной атаки. Когда эсминец уже заканчивал циркуляцию, в корме раздался
взрыв. Случилось это в 20 часов 55 минут. Корабль вздрогнул, осел на корму
 1 Капитан 3-го ранга П. М. Гончар был назначен командиром
лидера "Баку".
148
1 Капитан 3-го ранга П. М. Гончар был назначен командиром
лидера "Баку".
148
 и потерял ход. Через несколько секунд последовал второй взрыв по силе
чуть меньше первого -- это взорвались глубинные бомбы, скатившиеся за
борт1.
Кравченко приказал осмотреться и доложить о повреждениях. Ют на
телефонный вызов не отвечал. Молчали и оба машинных отделения. От сильного
сотрясения корпуса нарушилась радиосвязь.
-- Акустикам произ
вести поиск целей, ра
диометристам осмотреть
горизонт! -- распорядил
ся командир.
Минут через пять после взрыва на мостик доложили из первой (носовой)
машины:
-- Вторую машину заливает водой, у меня все в по
рядке!
Но на приказание командира дать исправной машине средний ход вперед
последовал доклад:
-- Машина работает "вразнос".
Это означало, что оторваны винты.
Положение сложилось тяжелое, необходимо было немедленно доложить о
случившемся командиру конвоя, но рация не работала... Спокойным голосом
Кравченко отдал приказание на "эрликоны" -- стрелять вверх трассирующими.
Через несколько минут доложили, что исправлен передатчик УКВ. Кравченко
передал в эфир:
-- Я торпедирован. Обе машины затоплены, мед
ленно погружаюсь. Имею крен на правый борт. Ста
раюсь его выровнять. Принимаю меры к спасению ко
рабля.
Ответа не было -- приемник так и не удалось отремонтировать.
и потерял ход. Через несколько секунд последовал второй взрыв по силе
чуть меньше первого -- это взорвались глубинные бомбы, скатившиеся за
борт1.
Кравченко приказал осмотреться и доложить о повреждениях. Ют на
телефонный вызов не отвечал. Молчали и оба машинных отделения. От сильного
сотрясения корпуса нарушилась радиосвязь.
-- Акустикам произ
вести поиск целей, ра
диометристам осмотреть
горизонт! -- распорядил
ся командир.
Минут через пять после взрыва на мостик доложили из первой (носовой)
машины:
-- Вторую машину заливает водой, у меня все в по
рядке!
Но на приказание командира дать исправной машине средний ход вперед
последовал доклад:
-- Машина работает "вразнос".
Это означало, что оторваны винты.
Положение сложилось тяжелое, необходимо было немедленно доложить о
случившемся командиру конвоя, но рация не работала... Спокойным голосом
Кравченко отдал приказание на "эрликоны" -- стрелять вверх трассирующими.
Через несколько минут доложили, что исправлен передатчик УКВ. Кравченко
передал в эфир:
-- Я торпедирован. Обе машины затоплены, мед
ленно погружаюсь. Имею крен на правый борт. Ста
раюсь его выровнять. Принимаю меры к спасению ко
рабля.
Ответа не было -- приемник так и не удалось отремонтировать.
 1 OЦBMA, ф. 254, л. 29820, л. 190.
Доложив флагману обстановку, Кравченко оставил на мостике старпома, а
сам спустился вниз осмотреть повреждения.
Вскоре к Мачинскому подошли шифровальщик Карманов и писарь Нешитов, оба
коммунисты. Их волновал вопрос -- как быть с корабельными документами.
Нельзя допустить, чтобы они попали в руки противника. Старпом распорядился
подготовить их к затоплению.
Сигнальщики тем временем выпустили серию сигнальных ракет, означавших
"терплю бедствие, нуждаюсь в помощи".
Через 6--8 минут на мостик вернулся командир.
-- Я не смог пройти в корму -- завален шкафут, в темноте трудно понять,
что произошло, -- сказал он старпому. -- Идите, Олег Макарович, вниз,
готовьте спасательные средства.
В машинных отделениях шла непрерывная борьба за живучесть корабля.
Больше всего пострадала вторая машина: там сильно деформировалась переборка,
у подволока образовался разрыв, и огромный стальной лист угрожающе повис над
головами людей. Из топливной цистерны хлестал мазут, заливая машинистов.
Погиб командир машины старшина 1-й статьи Рогожин, старший краснофлотец
Тулузаров получил ранение в голову. Трюмные выбивались из сил, откачивая
воду за борт. Действовали они без суеты, четко, слаженно. Но все было
бесполезно, вода прибывала, и насосы не успевали ее откачивать. Оставаться в
машине было уже нельзя, и личный состав, выключив освещение, покинул ее,
выйдя через люк на верхнюю палубу.
Тем временем в первой машине ставили подпоры, укрепляли переборку,
разделяющую ее со второй машиной. Но усилия моряков оказались тщетными:
переборка не выдержала сильного напора, в нижней ее части прорвало
полуметровое отверстие, в которое хлынули мазут и вода. Люди не растерялись,
включили водоотливные средства. Когда кормовая переборка еще больше
подалась, стало ясно, что с поступлением забортной воды не справиться.
Личный состав, исчерпав все возможности, покинул первую машину. Еще во время
взрыва там погиб командир электриков Козлов -- взрывной волной его отбросило
на оголившиеся контакты; получил ранение трюмный машинист Лопатин.
Продолжая осмотр корабля, старпом остановился в коридоре правого борта
-- выход на палубу был завален. Рядом искрили провода, металлические
конструкции оказались под напряжением. Мачинский лег на палубу и
"по-пластунски" пролез под завалом на шкафут. Осмотревшись, увидел: на месте
третьей дымовой трубы зияла дыра, на рострах лежало перевернутое кормовое
орудие --• пролетев по воздуху около 30 метров, пушка сбила дымовую
трубу и обрушила ростры. Юта и кормовой надстройки не было вообще. Палуба в
районе кормовой части погрузилась в воду. Совки труб торпедного аппарата
покрылись льдом, через них свободно перекатывались волны. Спасательная
шлюпка правого борта висела на кормовых талях, носовые были оборваны, нос
шлюпки разбит. У моторного катера Мачинский увидел небольшую группу людей,
пытавшихся спустить его на воду. Кто-то орудовал топором, заваливая бортовые
леера. Стойки и трос обледенели и плохо поддавались. Одну леерную стойку так
и не удалось убрать. Моряки начали отдавать штормовое крепление, а старпом
направился на бак. В носовой части аварийная партия готовила к спуску
резиновую шлюпку и спасательные плотики.
Пока старпом обходил корабль, крен заметно увеличился, корма еще больше
просела, нос вышел из воды. Поднявшись на мостик, Мачинский, доложил
командиру результаты осмотра. Кравченко отдал приказание готовиться к
буксировке на мелкое место. Голос его был обычным, ровным. Потом из
радиорубки передали сообщение флагмана, что на помощь вышли эсминцы
"Дерзкий" и "Живучий" (приемник все-таки удалось исправить). Вскоре на
экране радара появилось отчетливое изображение -- две цели, приближающиеся к
"Деятельному". Одна из них была уже близко. И тут снова тревожный доклад:
затопило первую машину, вода подступила к котельным. Кравченко приказал
погасить третий котел (четвертый был выведен ранее).
В 21.15 командир вторично доложил флагману обстановку. Положение
корабля и его экипажа продолжало осложняться. Когда турбодинамо оказалось в
воде, прекратилась подача электроэнергии, но люди оставались на боевых
постах, действуя по боевым инструкциям.
151
-- Снято питание с гирокомпаса, перешел на бата
реи! -- доложил штурманский электрик Павел Агеев
(его пост находился ниже ватерлинии). Командир при
казал ему покинуть гиропост, обойти нижние помеще
ния, предупредить оставшихся, чтобы все поднимались
на верхнюю палубу.
В 21.30 слева но носу возник силуэт корабля. Это был "Дерзкий".
Кравченко приказал сигнальщику передать на эсминец: "Приготовьте буксирные
средства, берите меня на буксир, нуждаюсь в срочной буксировке на мелкое
место".
"Дерзкий" в это время выходил в атаку на подводную лодку, и узкий луч
аккумуляторного фонаря на нем не заметили.
Корма "Деятельного" все больше уходила в воду, крен достиг 26 градусов.
Из труб валил едкий дым. Стало тяжело дышать, и командир приказал всем
покинуть корабль. С мостика медленно сошли вахтенный офицер Турланов и
сигнальщик Корябин. Старшина прихватил с собой бинокль и сигнальный фонарь,
заметив:
-- Еще пригодятся!
На мостике оставались двое. О чем думали командир и старпом в эти
минуты, трудно сказать. Оба молодые, здоровые -- вся жизнь впереди. Совсем
недавно Кравченко послал вызов своей жене на приезд в Мурманск (она жила во
Владивостоке): война заканчивается, и пора кончать с разлукой...
-- Прыгайте, Олег Макарович, а то будет поздно,--
спокойно произнес Кравченко.
-- А как же вы, Константин Афанасьевич?
...Вынырнув на поверхность, Мачинский услышал
позади грохот и треск: эсминец стремительно уходил в воду. А вместе с
ним -- его командир капитан-лейтенант Кравченко.
В воде Мачинского контузило взрывом глубинной бомбы. Придя в себя, он
увидел неподалеку резиновую шлюпку, до отказа заполненную людьми. Поплыл к
ней и сразу наткнулся на пробковый плотик, на котором находились Д. Ф.
Корябин и П. С. Агеев. Вслед за Мачинским на плотик забрался боцман Б. В.
Тормозов. Всех их вскоре подняли на борт "Дерзкого". Еще троих -- командира
отделения мотористов М. А. Ко-шелева, машиниста-турбиниста В. В. Шестопалова
и
152
командира первой машины Н. И. Лебедева подобрали чуть позже. Из всего
экипажа спаслось лишь семь человек. (Несколько человек находились в отпусках
и в последнем походе не участвовали. Среди них -- заместитель командира
корабля по политчасти П. И. Патрушев и командир боевой части наблюдения и
связи П. А. Обрезумов.)
Часть людей (30--35 человек) погибла еще во время взрыва -- это
находившиеся в корме минеры, торпедисты, комендоры, личный состав кормовой
аварийной партии и несколько человек из электромеханической боевой части.
Ушли вместе с кораблем под воду 20--25 человек -- в основном те, кто
оставался на нижнем мостике. Около 60--65 человек пытались спастись на
спущенных с корабля плавсредствах. На моторном катере было 10--15 человек,
среди них командир пятой боевой части А. Зуев. Это он распорядился облить
со-ляром и поджечь овчинный полушубок, чтобы привлечь внимание спасателей.
Однако пробоина в борту катера оказалась серьезной, катер затонул. Человек
тридцать было на большой резиновой шлюпке, которая перевернулась при попытке
"Дерзкого" подтянуть ее к борту. Оказавшиеся в ледяной воде моряки погибли
от переохлаждения.
На "Деятельном" у каждого из нас были друзья: гибель их все мы
переживали очень тяжело. Я хорошо знал Александра Масленникова -- начальника
интендантской службы "Деятельного", энергичного офицера, комсомольца. С ним
мы впервые встретились в сорок первом на Ораниенбаумском плацдарме в морской
пехоте. Обоих нас тогда ранило. Через три года мы вновь встретились,
принимая корабли в Англии. Саша Масленников первый среди начальников служб
сдал экзамен на вахтенного офицера. За безупречное выполнение обязанностей в
боевых условиях и проявленное при этом мужество Масленников был награжден
орденом Красной Звезды.
Николай Иванович Никольский потерял двух близких ему людей. С одним из
них -- командиром электромеханической боевой части, старшим
лейтенантом-инженером Анатолием Зуевым он учился в Высшем военно-морском
инженерном училище имени Дзержинского, вместе окончили его в июне сорок
первого. Через; три года вновь встретились на Севере.
153
Перед последним походом друзья долго беседовали в каюте Никольского.
Анатолий поделился с Николаем радостью -- к нему на днях должна приехать
жена Мария. Зуев был хорошим спортсменом, прекрасным пловцом. Когда катер
пошел ко дну, Зуев вместе с другими поплыл к "Дерзкому". Он был уже у самого
борта эсминца и даже ухватился за брошенный с корабля пеньковый трос, но
кто-то из моряков, потеряв последние силы, крепко уцепился за него.
Окоченевшие пальцы Анатолия разжались...
Большой утратой для Никольского была также гибель старшего краснофлотца
Семена Циолковского -- бывшего парторга пятой боевой части "Живучего".
Только накануне этого трагического похода Семен Алексеевич перешел на
эсминец "Деятельный" на должность парторга корабля. Прощаясь с лучшим своим
специалистом, партийным вожаком подразделения, Никольский не думал, что так
скоро оборвется жизнь этого замечательного коммуниста.
Нового командира "Деятельного" капитан-лейтенанта К. А. Кравченко на
"Живучем" знали все. На Тихоокеанском флоте он служил старпомом на эсминце
"Редкий", вместе с нами добирался в эшелоне из Владивостока на Север. При
приеме кораблей в Англии Константин Афанасьевич был старпомом на эсминце
"Жесткий". Наши корабли в ходе приемки нередко стояли борт о борт, и я часто
встречался по делам с Кравченко. Это был симпатичный и обаятельный человек.
Родился он в Днепропетровске, детство и юность провел в небольшом рабочем
поселке близ Макеевки. Четырнадцатилетним мальчишкой стал к токарному
станку. Потом учился в горном рабфаке. Очень любил радиотехнику, постоянно
мастерил самодельные приемники. Но больше всего он любил море, мечтал стать
моряком. Поступил в Военно-морское Краснознаменное училище имени М. В.
Фрунзе. После окончания училища попросился на Тихоокеанский флот, где и
застала его война. Константин очень любил свою мать. Марфа Дмитриевна была
малограмотной женщиной, но сумела привить своим детям -- а их было четверо
-- любовь к Родине, воспитать в них чувство ответственности за свои
поступки. "Костя был смелый, умел постоять за себя и за правду", --
вспоминает сестра Кравченко -- Валентина Афанасьевна.
Когда эсминец был торпедирован, Кравченко руководил борьбой за
живучесть корабля, действовал четко и хладнокровно, принимал все меры к
спасению личного состава. Отдав приказание экипажу покинуть корабль, сам он
до последней минуты оставался на командном мостике.
Единственный офицер, спасшийся с погибшего корабля, Олег Макарович
Мачинский писал в своем донесении командующему эскадрой: "С гордостью могу
доложить, что весь офицерский и рядовой состав с честью и до конца выполнил
свой воинский долг. Атакуя вражескую подводную лодку, эсминец "Деятельный"
не допустил ее к конвою. На корабле не было ни тени страха и паники, слез и
прощаний. Все погибли, как герои-моряки" '.
О геройской гибели "Деятельного" многим не известно. А мужественный
экипаж этого корабля достоин памяти поколений. Все оставшиеся в живых моряки
эсминца за мужество и героизм, проявленные в борьбе с вражескими подводными
лодками, были награждены орденами и медалями Советского Союза. Несколько
погибших членов экипажа были посмертно удостоены ордена Отечественной войны
I степени. Это командир корабля капитан-лейтенант К. А. Кравченко, штурман
лейтенант Н. В. Корнилов, главный боцман мичман Н. А. Блинов, трюмный
машинист старшина 1-й статьи В. М. Федоров, машинист-турбинист старший
краснофлотец Л. И. Тулузаров, минер старший краснофлотец Ю. В. Филиппов,
машинист-турбинист старший краснофлотец В. М. Поляков.
Спустя много лет после войны я узнал, что эсминец "Деятельный" потопила
немецкая подводная лодка "U-997"2, та самая, которая 9 декабря
безрезультатно атаковала "Живучий" и "Разумный" на Кильдинском плесе.
Анализ обстоятельства гибели "Деятельного" показал, что, будь на нем
исправные водонепроницаемые переборки, такой трагедии могло бы и не
произойти. Вскоре многие из нас укрепились в этом выводе: через четыре дня
(20 января) на переходе из Кольского залива в Линахамари гитлеровской
подводной лодкой
1 OЦBMA, ф. 254, л. 29820, л. 190.
Доложив флагману обстановку, Кравченко оставил на мостике старпома, а
сам спустился вниз осмотреть повреждения.
Вскоре к Мачинскому подошли шифровальщик Карманов и писарь Нешитов, оба
коммунисты. Их волновал вопрос -- как быть с корабельными документами.
Нельзя допустить, чтобы они попали в руки противника. Старпом распорядился
подготовить их к затоплению.
Сигнальщики тем временем выпустили серию сигнальных ракет, означавших
"терплю бедствие, нуждаюсь в помощи".
Через 6--8 минут на мостик вернулся командир.
-- Я не смог пройти в корму -- завален шкафут, в темноте трудно понять,
что произошло, -- сказал он старпому. -- Идите, Олег Макарович, вниз,
готовьте спасательные средства.
В машинных отделениях шла непрерывная борьба за живучесть корабля.
Больше всего пострадала вторая машина: там сильно деформировалась переборка,
у подволока образовался разрыв, и огромный стальной лист угрожающе повис над
головами людей. Из топливной цистерны хлестал мазут, заливая машинистов.
Погиб командир машины старшина 1-й статьи Рогожин, старший краснофлотец
Тулузаров получил ранение в голову. Трюмные выбивались из сил, откачивая
воду за борт. Действовали они без суеты, четко, слаженно. Но все было
бесполезно, вода прибывала, и насосы не успевали ее откачивать. Оставаться в
машине было уже нельзя, и личный состав, выключив освещение, покинул ее,
выйдя через люк на верхнюю палубу.
Тем временем в первой машине ставили подпоры, укрепляли переборку,
разделяющую ее со второй машиной. Но усилия моряков оказались тщетными:
переборка не выдержала сильного напора, в нижней ее части прорвало
полуметровое отверстие, в которое хлынули мазут и вода. Люди не растерялись,
включили водоотливные средства. Когда кормовая переборка еще больше
подалась, стало ясно, что с поступлением забортной воды не справиться.
Личный состав, исчерпав все возможности, покинул первую машину. Еще во время
взрыва там погиб командир электриков Козлов -- взрывной волной его отбросило
на оголившиеся контакты; получил ранение трюмный машинист Лопатин.
Продолжая осмотр корабля, старпом остановился в коридоре правого борта
-- выход на палубу был завален. Рядом искрили провода, металлические
конструкции оказались под напряжением. Мачинский лег на палубу и
"по-пластунски" пролез под завалом на шкафут. Осмотревшись, увидел: на месте
третьей дымовой трубы зияла дыра, на рострах лежало перевернутое кормовое
орудие --• пролетев по воздуху около 30 метров, пушка сбила дымовую
трубу и обрушила ростры. Юта и кормовой надстройки не было вообще. Палуба в
районе кормовой части погрузилась в воду. Совки труб торпедного аппарата
покрылись льдом, через них свободно перекатывались волны. Спасательная
шлюпка правого борта висела на кормовых талях, носовые были оборваны, нос
шлюпки разбит. У моторного катера Мачинский увидел небольшую группу людей,
пытавшихся спустить его на воду. Кто-то орудовал топором, заваливая бортовые
леера. Стойки и трос обледенели и плохо поддавались. Одну леерную стойку так
и не удалось убрать. Моряки начали отдавать штормовое крепление, а старпом
направился на бак. В носовой части аварийная партия готовила к спуску
резиновую шлюпку и спасательные плотики.
Пока старпом обходил корабль, крен заметно увеличился, корма еще больше
просела, нос вышел из воды. Поднявшись на мостик, Мачинский, доложил
командиру результаты осмотра. Кравченко отдал приказание готовиться к
буксировке на мелкое место. Голос его был обычным, ровным. Потом из
радиорубки передали сообщение флагмана, что на помощь вышли эсминцы
"Дерзкий" и "Живучий" (приемник все-таки удалось исправить). Вскоре на
экране радара появилось отчетливое изображение -- две цели, приближающиеся к
"Деятельному". Одна из них была уже близко. И тут снова тревожный доклад:
затопило первую машину, вода подступила к котельным. Кравченко приказал
погасить третий котел (четвертый был выведен ранее).
В 21.15 командир вторично доложил флагману обстановку. Положение
корабля и его экипажа продолжало осложняться. Когда турбодинамо оказалось в
воде, прекратилась подача электроэнергии, но люди оставались на боевых
постах, действуя по боевым инструкциям.
151
-- Снято питание с гирокомпаса, перешел на бата
реи! -- доложил штурманский электрик Павел Агеев
(его пост находился ниже ватерлинии). Командир при
казал ему покинуть гиропост, обойти нижние помеще
ния, предупредить оставшихся, чтобы все поднимались
на верхнюю палубу.
В 21.30 слева но носу возник силуэт корабля. Это был "Дерзкий".
Кравченко приказал сигнальщику передать на эсминец: "Приготовьте буксирные
средства, берите меня на буксир, нуждаюсь в срочной буксировке на мелкое
место".
"Дерзкий" в это время выходил в атаку на подводную лодку, и узкий луч
аккумуляторного фонаря на нем не заметили.
Корма "Деятельного" все больше уходила в воду, крен достиг 26 градусов.
Из труб валил едкий дым. Стало тяжело дышать, и командир приказал всем
покинуть корабль. С мостика медленно сошли вахтенный офицер Турланов и
сигнальщик Корябин. Старшина прихватил с собой бинокль и сигнальный фонарь,
заметив:
-- Еще пригодятся!
На мостике оставались двое. О чем думали командир и старпом в эти
минуты, трудно сказать. Оба молодые, здоровые -- вся жизнь впереди. Совсем
недавно Кравченко послал вызов своей жене на приезд в Мурманск (она жила во
Владивостоке): война заканчивается, и пора кончать с разлукой...
-- Прыгайте, Олег Макарович, а то будет поздно,--
спокойно произнес Кравченко.
-- А как же вы, Константин Афанасьевич?
...Вынырнув на поверхность, Мачинский услышал
позади грохот и треск: эсминец стремительно уходил в воду. А вместе с
ним -- его командир капитан-лейтенант Кравченко.
В воде Мачинского контузило взрывом глубинной бомбы. Придя в себя, он
увидел неподалеку резиновую шлюпку, до отказа заполненную людьми. Поплыл к
ней и сразу наткнулся на пробковый плотик, на котором находились Д. Ф.
Корябин и П. С. Агеев. Вслед за Мачинским на плотик забрался боцман Б. В.
Тормозов. Всех их вскоре подняли на борт "Дерзкого". Еще троих -- командира
отделения мотористов М. А. Ко-шелева, машиниста-турбиниста В. В. Шестопалова
и
152
командира первой машины Н. И. Лебедева подобрали чуть позже. Из всего
экипажа спаслось лишь семь человек. (Несколько человек находились в отпусках
и в последнем походе не участвовали. Среди них -- заместитель командира
корабля по политчасти П. И. Патрушев и командир боевой части наблюдения и
связи П. А. Обрезумов.)
Часть людей (30--35 человек) погибла еще во время взрыва -- это
находившиеся в корме минеры, торпедисты, комендоры, личный состав кормовой
аварийной партии и несколько человек из электромеханической боевой части.
Ушли вместе с кораблем под воду 20--25 человек -- в основном те, кто
оставался на нижнем мостике. Около 60--65 человек пытались спастись на
спущенных с корабля плавсредствах. На моторном катере было 10--15 человек,
среди них командир пятой боевой части А. Зуев. Это он распорядился облить
со-ляром и поджечь овчинный полушубок, чтобы привлечь внимание спасателей.
Однако пробоина в борту катера оказалась серьезной, катер затонул. Человек
тридцать было на большой резиновой шлюпке, которая перевернулась при попытке
"Дерзкого" подтянуть ее к борту. Оказавшиеся в ледяной воде моряки погибли
от переохлаждения.
На "Деятельном" у каждого из нас были друзья: гибель их все мы
переживали очень тяжело. Я хорошо знал Александра Масленникова -- начальника
интендантской службы "Деятельного", энергичного офицера, комсомольца. С ним
мы впервые встретились в сорок первом на Ораниенбаумском плацдарме в морской
пехоте. Обоих нас тогда ранило. Через три года мы вновь встретились,
принимая корабли в Англии. Саша Масленников первый среди начальников служб
сдал экзамен на вахтенного офицера. За безупречное выполнение обязанностей в
боевых условиях и проявленное при этом мужество Масленников был награжден
орденом Красной Звезды.
Николай Иванович Никольский потерял двух близких ему людей. С одним из
них -- командиром электромеханической боевой части, старшим
лейтенантом-инженером Анатолием Зуевым он учился в Высшем военно-морском
инженерном училище имени Дзержинского, вместе окончили его в июне сорок
первого. Через; три года вновь встретились на Севере.
153
Перед последним походом друзья долго беседовали в каюте Никольского.
Анатолий поделился с Николаем радостью -- к нему на днях должна приехать
жена Мария. Зуев был хорошим спортсменом, прекрасным пловцом. Когда катер
пошел ко дну, Зуев вместе с другими поплыл к "Дерзкому". Он был уже у самого
борта эсминца и даже ухватился за брошенный с корабля пеньковый трос, но
кто-то из моряков, потеряв последние силы, крепко уцепился за него.
Окоченевшие пальцы Анатолия разжались...
Большой утратой для Никольского была также гибель старшего краснофлотца
Семена Циолковского -- бывшего парторга пятой боевой части "Живучего".
Только накануне этого трагического похода Семен Алексеевич перешел на
эсминец "Деятельный" на должность парторга корабля. Прощаясь с лучшим своим
специалистом, партийным вожаком подразделения, Никольский не думал, что так
скоро оборвется жизнь этого замечательного коммуниста.
Нового командира "Деятельного" капитан-лейтенанта К. А. Кравченко на
"Живучем" знали все. На Тихоокеанском флоте он служил старпомом на эсминце
"Редкий", вместе с нами добирался в эшелоне из Владивостока на Север. При
приеме кораблей в Англии Константин Афанасьевич был старпомом на эсминце
"Жесткий". Наши корабли в ходе приемки нередко стояли борт о борт, и я часто
встречался по делам с Кравченко. Это был симпатичный и обаятельный человек.
Родился он в Днепропетровске, детство и юность провел в небольшом рабочем
поселке близ Макеевки. Четырнадцатилетним мальчишкой стал к токарному
станку. Потом учился в горном рабфаке. Очень любил радиотехнику, постоянно
мастерил самодельные приемники. Но больше всего он любил море, мечтал стать
моряком. Поступил в Военно-морское Краснознаменное училище имени М. В.
Фрунзе. После окончания училища попросился на Тихоокеанский флот, где и
застала его война. Константин очень любил свою мать. Марфа Дмитриевна была
малограмотной женщиной, но сумела привить своим детям -- а их было четверо
-- любовь к Родине, воспитать в них чувство ответственности за свои
поступки. "Костя был смелый, умел постоять за себя и за правду", --
вспоминает сестра Кравченко -- Валентина Афанасьевна.
Когда эсминец был торпедирован, Кравченко руководил борьбой за
живучесть корабля, действовал четко и хладнокровно, принимал все меры к
спасению личного состава. Отдав приказание экипажу покинуть корабль, сам он
до последней минуты оставался на командном мостике.
Единственный офицер, спасшийся с погибшего корабля, Олег Макарович
Мачинский писал в своем донесении командующему эскадрой: "С гордостью могу
доложить, что весь офицерский и рядовой состав с честью и до конца выполнил
свой воинский долг. Атакуя вражескую подводную лодку, эсминец "Деятельный"
не допустил ее к конвою. На корабле не было ни тени страха и паники, слез и
прощаний. Все погибли, как герои-моряки" '.
О геройской гибели "Деятельного" многим не известно. А мужественный
экипаж этого корабля достоин памяти поколений. Все оставшиеся в живых моряки
эсминца за мужество и героизм, проявленные в борьбе с вражескими подводными
лодками, были награждены орденами и медалями Советского Союза. Несколько
погибших членов экипажа были посмертно удостоены ордена Отечественной войны
I степени. Это командир корабля капитан-лейтенант К. А. Кравченко, штурман
лейтенант Н. В. Корнилов, главный боцман мичман Н. А. Блинов, трюмный
машинист старшина 1-й статьи В. М. Федоров, машинист-турбинист старший
краснофлотец Л. И. Тулузаров, минер старший краснофлотец Ю. В. Филиппов,
машинист-турбинист старший краснофлотец В. М. Поляков.
Спустя много лет после войны я узнал, что эсминец "Деятельный" потопила
немецкая подводная лодка "U-997"2, та самая, которая 9 декабря
безрезультатно атаковала "Живучий" и "Разумный" на Кильдинском плесе.
Анализ обстоятельства гибели "Деятельного" показал, что, будь на нем
исправные водонепроницаемые переборки, такой трагедии могло бы и не
произойти. Вскоре многие из нас укрепились в этом выводе: через четыре дня
(20 января) на переходе из Кольского залива в Линахамари гитлеровской
подводной лодкой
 1 ОЦВМ А, ф. 254, д. 29820, л. 198.
2 Rohwer liirgen und Hummelchen. Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 516.
155
был торпедирован эсминец "Разъяренный". Акустической торпедой и в этом
случае была оторвана корма. Но распространения воды в соседние отсеки не
произошло -- надежность переборок оказалась высокой, корабль остался на
плаву. И потери в личном составе были невелики.
Моряки эскадры поклялись отомстить врагу за гибель боевых товарищей. И
слово свое сдержали.
Вечером 20 января "Живучий", "Доблестный", "Дерзкий" и "Достойный"
производили поиск вражеских подводных лодок на участке Иоканга--Большой
Олений. Гидроакустики "Дерзкого" обнаружили пирата и сбросили на него
глубинные бомбы. Гитлеровцы отвернули резко в сторону и попали в зону
обнаружения "Живучего". И снова подводные взрывы разорвали тишину. Враг был
опытен -- ушел на глубину. Но там его настигли минеры "Дерзкого". Из глубины
моря послышались глухие взрывы, на поверхности появились воздушные пузыри,
много соляра. Успешность атаки сомнений не вызывала.
Спустя четыре дня те же четыре эсминца вели поиск врага по маршруту
Иоканга--Кольский залив. Шли правильным зигзагом строем фронта. "Живучий"
был третьим. Справа от него в 20 кабельтовых находился "Дерзкий", слева --
"Доблестный". На "Достойном", правофланговом, шел командир 2-го дивизиона
эсминцев капитан 2-го ранга Е. А. Козлов. В полночь на кораблях произвели
смену вахт, а вскоре прозвучал сигнал боевой тревоги. Он поступил с
флагманского корабля...
Первым в свете луны подводную лодку заметил вахтенный офицер
"Достойного" Виктор Бабий. Не дремали и сигнальщики -- они тоже обнаружили
прямо по курсу темный силуэт.
По боевой тревоге на мостик поднялся командир корабля капитан 3-го
ранга Н. И. Никольский. Последовала команда: "Полный вперед!"
Остальные корабли тоже увеличили ход. Когда расстояние до цели
сократилось, сомнений в том, что это немецкая лодка, не оставалось. Ближе
всех к ней был "Достойный", и его командир решил идти на таран. Но лодка
увеличила ход, оставляя за собой шлейф дыма. Никольский приказал открыть по
гитлеровцам артиллерийский огонь. Лейтенант Бабий быстро произвел
необходимые расчеты и дал команду носовому орудию. Старшина 2-й статьи
Подденежный и краснофлотцы Шаляпин и Григорьев посылали в немцев снаряд за
снарядом. Фашистская лодка удирала на полном ходу, ведя с кормовой пушки
огонь.
Трассирующие снаряды, словно огненные стрелы, прокалывали сумеречное
небо в обоих направлениях. Шесть снарядов, выпущенных с "Достойного",
вспенили воду у бортов лодки. Длинная очередь, выпущенная краснофлотцем
Панькиным из "эрликона", пришлась точно по цели. Лодка стала срочно
погружаться. Вслед ей "Достойный" сбросил большую серию бомб. Минеры группы
Фирсова действовали четко. Одновременно было усилено наблюдение в секторах.
И не напрасно -- вскоре сигнальщик Кондрыкин обнаружил едва заметный бурун.
-- Торпеда, право 50!
Последовал резкий отворот вправо, и торпеда врага проскользнула вдоль
борта. Уклоняясь от нее, эсминец оказался рядом с позицией стрелявшей лодки.
Гитлеровцы решили воспользоваться этим и атаковать с малой дистанции. Подняв
перископ, враг был уверен, что в такой темени кусочек трубы останется
незамеченным. Но просчитался.
Перископ, левый борт, девяносто, дистанция три
кабельтова! -- доложил сигнальщик Кондрыкин. Одно
временно об этом же поступил доклад и с кормы от
старшины 2-й статьи Чуприкова.
Лево на борт, -- последовала команда, и корабль
полным ходом устремился на врага. Перископ тут же
исчез.
Подводная лодка повернула к норду! -- доложил
гидроакустик Никодимов. Минеры Николаев, Овчинни
ков и Вовк по приказанию с мостика сбросили боль
шую серию глубинных бомб.
Один из взрывов был более мощный, чем остальные. От него содрогнулся
весь корпус эсминца. Сильное сотрясение вывело из строя гидроакустическую
аппаратуру. Лопнули плафоны в кают-компании, в рум-пельной появилась течь,
от боевого прожектора отскочила крышка '. А на поверхности моря появились
мелкие пузыри и маслянистая жидкость.
1 ОЦВМ А, ф. 254, д. 29820, л. 198.
2 Rohwer liirgen und Hummelchen. Gerald Chronick des Seek-
rieges 1939--1945. Oldenburg--Hamburg, Stalling, cop. 1968, S. 516.
155
был торпедирован эсминец "Разъяренный". Акустической торпедой и в этом
случае была оторвана корма. Но распространения воды в соседние отсеки не
произошло -- надежность переборок оказалась высокой, корабль остался на
плаву. И потери в личном составе были невелики.
Моряки эскадры поклялись отомстить врагу за гибель боевых товарищей. И
слово свое сдержали.
Вечером 20 января "Живучий", "Доблестный", "Дерзкий" и "Достойный"
производили поиск вражеских подводных лодок на участке Иоканга--Большой
Олений. Гидроакустики "Дерзкого" обнаружили пирата и сбросили на него
глубинные бомбы. Гитлеровцы отвернули резко в сторону и попали в зону
обнаружения "Живучего". И снова подводные взрывы разорвали тишину. Враг был
опытен -- ушел на глубину. Но там его настигли минеры "Дерзкого". Из глубины
моря послышались глухие взрывы, на поверхности появились воздушные пузыри,
много соляра. Успешность атаки сомнений не вызывала.
Спустя четыре дня те же четыре эсминца вели поиск врага по маршруту
Иоканга--Кольский залив. Шли правильным зигзагом строем фронта. "Живучий"
был третьим. Справа от него в 20 кабельтовых находился "Дерзкий", слева --
"Доблестный". На "Достойном", правофланговом, шел командир 2-го дивизиона
эсминцев капитан 2-го ранга Е. А. Козлов. В полночь на кораблях произвели
смену вахт, а вскоре прозвучал сигнал боевой тревоги. Он поступил с
флагманского корабля...
Первым в свете луны подводную лодку заметил вахтенный офицер
"Достойного" Виктор Бабий. Не дремали и сигнальщики -- они тоже обнаружили
прямо по курсу темный силуэт.
По боевой тревоге на мостик поднялся командир корабля капитан 3-го
ранга Н. И. Никольский. Последовала команда: "Полный вперед!"
Остальные корабли тоже увеличили ход. Когда расстояние до цели
сократилось, сомнений в том, что это немецкая лодка, не оставалось. Ближе
всех к ней был "Достойный", и его командир решил идти на таран. Но лодка
увеличила ход, оставляя за собой шлейф дыма. Никольский приказал открыть по
гитлеровцам артиллерийский огонь. Лейтенант Бабий быстро произвел
необходимые расчеты и дал команду носовому орудию. Старшина 2-й статьи
Подденежный и краснофлотцы Шаляпин и Григорьев посылали в немцев снаряд за
снарядом. Фашистская лодка удирала на полном ходу, ведя с кормовой пушки
огонь.
Трассирующие снаряды, словно огненные стрелы, прокалывали сумеречное
небо в обоих направлениях. Шесть снарядов, выпущенных с "Достойного",
вспенили воду у бортов лодки. Длинная очередь, выпущенная краснофлотцем
Панькиным из "эрликона", пришлась точно по цели. Лодка стала срочно
погружаться. Вслед ей "Достойный" сбросил большую серию бомб. Минеры группы
Фирсова действовали четко. Одновременно было усилено наблюдение в секторах.
И не напрасно -- вскоре сигнальщик Кондрыкин обнаружил едва заметный бурун.
-- Торпеда, право 50!
Последовал резкий отворот вправо, и торпеда врага проскользнула вдоль
борта. Уклоняясь от нее, эсминец оказался рядом с позицией стрелявшей лодки.
Гитлеровцы решили воспользоваться этим и атаковать с малой дистанции. Подняв
перископ, враг был уверен, что в такой темени кусочек трубы останется
незамеченным. Но просчитался.
Перископ, левый борт, девяносто, дистанция три
кабельтова! -- доложил сигнальщик Кондрыкин. Одно
временно об этом же поступил доклад и с кормы от
старшины 2-й статьи Чуприкова.
Лево на борт, -- последовала команда, и корабль
полным ходом устремился на врага. Перископ тут же
исчез.
Подводная лодка повернула к норду! -- доложил
гидроакустик Никодимов. Минеры Николаев, Овчинни
ков и Вовк по приказанию с мостика сбросили боль
шую серию глубинных бомб.
Один из взрывов был более мощный, чем остальные. От него содрогнулся
весь корпус эсминца. Сильное сотрясение вывело из строя гидроакустическую
аппаратуру. Лопнули плафоны в кают-компании, в рум-пельной появилась течь,
от боевого прожектора отскочила крышка '. А на поверхности моря появились
мелкие пузыри и маслянистая жидкость.
 1 ОЦВМА, ф. 47, д. 31754, лл. 73--75.
157
Неисправности в гидроакустической аппаратуре были устранены быстро.
Недаром Никодимов и Кучеров считались лучшими специалистами корабля. Оба в
совершенстве знали заведование, много и часто тренировались на боевом посту.
Включив аппаратуру, Никодимов начал асимметричный поиск: по правому
борту, в сторону моря -- сектор больше, по левому, где ищут врага соседние
корабли -- меньше. Сократив шаг поиска, акустик различил в хаотичных звуках
слабый отраженный от лодки сигнал и определил -- подводный хищник идет на
сближение.
Капитан 3-го ранга Никольский вновь повел эсминец в атаку. Снова
загрохотали взрывы глубинных бомб. На помощь минерам пришли зенитчики и
краснофлотцы боцманской команды, они подкатывали на ют глубинные бомбы. Уже
подходил к концу запас бомб, когда после очередной серии взрывов
гидроакустик доложил, что вражеская лодка быстро опустилась на дно. На
месте, где это произошло, бурлила вода, выталкивались на поверхность, словно
из кратера, тонны соляра.
Громовое "Ура!" пронеслось над морем. Экипаж "Достойного" поквитался с
врагом '.
Боевые будни чередовались с короткими часами досуга, об организации
которого постоянно заботился замполит Фомин. По его инициативе на корабле
состоялось специальное партийное собрание, где шла речь о том, чтобы сделать
отдых моряков разнообразнее, полноценнее. Много внимания уделялось
художественной самодеятельности. Среди членов экипажа "Живучего" нашлись н
музыканты, и певцы, и танцоры. На эсминце любили слушать игру корабельного
"оркестра", как в шутку называли трио, которое составили старшина 2-й статьи
Борис Гаврилов, игравший на баяне, краснофлотец Петр Комарь, отлично
владевший гитарой, и старшина 2-й статьи Вячеслав Лепилкин -- подыгрывавший
им на мандолине.
Завсегдатаями этих концертов были старшие краснофлотцы Федор Гуменюк и
Николаи Ланчуковский -- оба украинцы, страстные любители песни. Обычно
1 ОЦВМА, ф. 47, д. 31754, лл. 73--75.
157
Неисправности в гидроакустической аппаратуре были устранены быстро.
Недаром Никодимов и Кучеров считались лучшими специалистами корабля. Оба в
совершенстве знали заведование, много и часто тренировались на боевом посту.
Включив аппаратуру, Никодимов начал асимметричный поиск: по правому
борту, в сторону моря -- сектор больше, по левому, где ищут врага соседние
корабли -- меньше. Сократив шаг поиска, акустик различил в хаотичных звуках
слабый отраженный от лодки сигнал и определил -- подводный хищник идет на
сближение.
Капитан 3-го ранга Никольский вновь повел эсминец в атаку. Снова
загрохотали взрывы глубинных бомб. На помощь минерам пришли зенитчики и
краснофлотцы боцманской команды, они подкатывали на ют глубинные бомбы. Уже
подходил к концу запас бомб, когда после очередной серии взрывов
гидроакустик доложил, что вражеская лодка быстро опустилась на дно. На
месте, где это произошло, бурлила вода, выталкивались на поверхность, словно
из кратера, тонны соляра.
Громовое "Ура!" пронеслось над морем. Экипаж "Достойного" поквитался с
врагом '.
Боевые будни чередовались с короткими часами досуга, об организации
которого постоянно заботился замполит Фомин. По его инициативе на корабле
состоялось специальное партийное собрание, где шла речь о том, чтобы сделать
отдых моряков разнообразнее, полноценнее. Много внимания уделялось
художественной самодеятельности. Среди членов экипажа "Живучего" нашлись н
музыканты, и певцы, и танцоры. На эсминце любили слушать игру корабельного
"оркестра", как в шутку называли трио, которое составили старшина 2-й статьи
Борис Гаврилов, игравший на баяне, краснофлотец Петр Комарь, отлично
владевший гитарой, и старшина 2-й статьи Вячеслав Лепилкин -- подыгрывавший
им на мандолине.
Завсегдатаями этих концертов были старшие краснофлотцы Федор Гуменюк и
Николаи Ланчуковский -- оба украинцы, страстные любители песни. Обычно

1 СЩ6Л1.-1, ф. 254, д. 16477, л. 9.
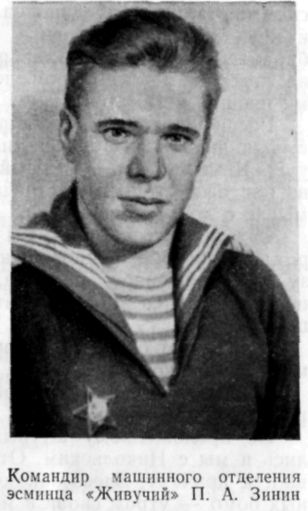 первым начинал импровизированный концерт Андреи Казаров, наш комсорг.
Очень задушевно у них получались песни "Реве та стогне Днипр широкий" и
"Уходим завтра в море".
Когда трио играло "Яблочко", в пляс пускался старшина 1-й статьи Павел
Зимин. Под одобрительные возгласы собравшихся он лихо отбивал чечетку,
мастерски выполнял сложнейшие элемены этого задорного танца. Музыка, песни и
пляски в кубриках продолжались нередко до самого отбоя.
Находилось время и для чтения. Большим спросом пользовались у нас
Станюкович, Соболев, Новиков-Прибой.
Во время стоянки корабля в базе, пока шло пополнение запасов, одну
смену отпускали в увольнение, соблюдая очередность. После болтанки и
постоянного напряжения приятно было расслабиться, пройти по твердой земле,
побывать в Доме флота. Многие офицеры и "сверхсрочники", служившие на Севере
с довоенных лет, имели на берегу семьи. Нет нужды говорить, как в те суровые
дни встречи с родными и близкими помогали им в нелегкой ратной службе.
В середине января к Алексею Прокоиьсвичу Про-ничкину приехала жена. В
военные годы для того чтобы попасть в прифронтовую зону, необходимо было
специальное разрешение. И Ольге Федоровне удалось добиться его. Мы с
Гончаровым и Никольским побывали тогда в гостях у Проничкиных. Они занимали
маленькую комнатку в небольшом деревянном домике. Уютно расположившись на
табуретках за столиком, уставленным небогатыми -- по военным временам --
закусками, мы отметили встречу фронтовыми "ста
граммами". Ольга Федоровна, смеясь, рассказала, как в кузове попутного
грузовика, завернутая в брезент, добиралась из Мурманска, забросала нас
кучей вопросов, на которые мы вчетвером не успевали отвечать. Время прошло
незаметно.
Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы вышли на улицу. Ярко
светила луна. Мороз хватал за уши. Шли молча -- каждый думал о своем. У
двоих из нас были жены, и встреча у Проничкиных навеяла мысли о доме, о
семье.
Спустившись с горки, мы оказались на вершине огромного сугроба,
припорошенного рыхлым снегом. Внизу, у заснеженного причала, чернели силуэты
эсминцев. Несколько моряков что-то сгружали с автомашины.
-- Хорошо бы, с этой горы на лыжах, -- нарушил молчание Никольский.
-- Можно и без лыж обойтись, -- отозвался Гончаров и, плюхнувшись в
снег, заскользил на спине вниз.
По проложенному штурманом "фарватеру" спустились и мы с Никольским.
Отряхивая на ходу снег, вышли к причалу. Здесь заканчивалась погрузка
глубинных бомб -- утром снова в море...
Прошло две недели февраля. Враг продолжал стягивать на Север подводные
лодки. После гибели "Деятельного" и серьезного повреждения "Разъяренного"
основная тяжесть противолодочной борьбы легла на плечи 2-го и 3-го
дивизионов эсминцев и кораблей охраны водного района (включая тральщики).
Последним было трудней, чем нам: малым кораблям в большей степени были
опасны свирепые шторм и обледенение. Вопреки всяким нормам мореходности их
часто посылали с нами в море. А что было делать? Битва на морских путях
сообщения приобретала все более ожесточенный характер.
3 февраля крупный конвой "IW-64" вышел из Клайда (Англия) в наши
северные порты. В точку, где беломорская группа судов отделялась от
мурманской, прибыли эсминцы "Живучий", "Жесткий", "Урицкий", "Карл Либкнехт"
и десять кораблей охраны водного района. Наша задача -- эскортировать 15
союзных транспортов и танкеров на переходе в Белое море. Было известно, что
по маршруту перехода немцы развернули несколько завес подводных лодок, а
кораблей охране-
160
ния в этот раз было меньше, чем охраняемых судов. Командир 2-го
дивизиона капитан 2-го ранга Козлов решил усилить сторону конвоя, обращенную
к берегу,-- оттуда чаще всего нападали гитлеровцы. В этом был известный
риск, но другого выхода не оставалось. И расчет оказался верным -- два раза
нас атаковывали лодки, и оба раза -- со стороны берега. Им, конечно, не
удалось проникнуть внутрь охранения. В обоих случаях гитлеровцы были
обнаружены вовремя и отогнаны от конвоя. Все корабли конвоя прибыли к месту
назначения благополучно.
Мурманской группе судов, охраняемой британскими кораблями,
противодействовали не меньшие силы немцев. Здесь, к сожалению, не обошлось
без потерь. 13 февраля в 4 часа утра в районе Сеть-Наволок немецкая
подводная лодка торпедировала корвет "Денбай Кастл". На следующий день у
входа в Кольский залив немцы повредили танкер "Норфиел" и транспорт "Хо-рейс
Грей", шедшие из Белого моря в Мурманск для формирования обратного конвоя.
А через три дня, 17 февраля, мы получили задание сопровождать союзный
конвой "RA-64", следовавший из Мурманска в Англию. Кроме "Живучего" в
составе эскорта вышел "Жесткий", а также несколько кораблей ОВРа и торпедных
катеров.
Уже через два часа после выхода конвоя из залива немецкие лодки стали
"заявлять" о себе. В динамике то и дело слышались донесения о подводных
контактах. Загремели взрывы глубинных бомб.
Объявлена боевая тревога. Уже несколько часов мы мерзнем на открытых
боевых постах, а отбоя все нет. Благо, немного спасают шерстяные
подшлемники. Вон у "эрликонов" справа от меня растирает замерзшие руки
комсорг Гаврилов. Лицо скрыто подшлемником, но я вижу его улыбающиеся глаза:
ничего, мол, зенитчики не подведут. Хороший у нас комсорг, отличный
специалист...
Мысли прерывает голос в динамике: "По пеленгу... в дистанции 30
кабельтовых от Кильдина торпедирован британский корвет "Ларк". С "Жесткого"
от комдива получено радио: "Идем к торпедированному кораблю. Приготовиться к
буксировке". Ворочаем в сторону корвета. Не проходит и часа, как новое
донесение: "По пеленгу... в дистанции 13 миль от Кильдина
6 Г. Г. Поляков 161
торпедирован американский транспорт". Получаем от флагмана новое
приказание -- оказать помощь транспорту. (Фашисты не унимались. В тот же
день вечером севернее Териберки погиб от немецкой торпеды британский корвет
"Блю-Бел".)
Североморцы делали все возможное, чтобы оказать помощь союзным морякам.
Эсминец "Жесткий", взяв на буксир торпедированный корвет "Ларк", повел его в
Кольский залив. Посредине пути случилось непредвиденное -- буксирный трос
лопнул и намотался на гребной винт. "Жесткий" лишился хода. Вокруг сновали
гитлеровские подводные лодки, и корабли оказались в большой опасности.
Но благодаря мужеству и самоотверженности сигнальщика Вячеслава
Лимарова, беды не произошло. Сменившийся с вахты краснофлотец находился на
юте в тот момент, когда оборвался буксир. Поняв, что трос намотался на винт,
Вячеслав мгновенно сбросил с себя верхнюю одежду, нырнул на трехметровую
глубину и стал освобождать винт. Рядом взрывались глубинные бомбы, в любой
момент сигнальщик мог погибнуть, но он не думал об опасности. Трижды нырял
моряк в ледяную воду, пока не распутал трос. Уже через 15 минут корабль дал
ход и продолжал выполнять свою задачу.
Английский фрегат был благополучно отбуксирован в порт.
Многих моряков спасли тогда "морские охотники" и торпедные катера.
Особенно четко действовал экипаж катера "МО-434". Это отметили и наши
союзники. В радиограмме командующего британским флотом адмирала Мура,
направленной адмиралу Головко, говорилось: "Желаю выразить свою
благодарность за быстроту действий личного состава Вашего охотника при
спасении наших людей, выброшенных взрывом за борт, когда был торпедирован
британский корвет "Ларк"1.
А "Живучий" тем временем разыскал торпедированный транспорт. Это был
"Томас Скотт" (типа "Либерти"). Подошли к борту -- на палубе судна ни души:
американцы успели спустить шлюпки и покинуть транспорт. Нужно было взять
судно на буксир -- а принимать швартовы некому. Решили высадить на аварий-
первым начинал импровизированный концерт Андреи Казаров, наш комсорг.
Очень задушевно у них получались песни "Реве та стогне Днипр широкий" и
"Уходим завтра в море".
Когда трио играло "Яблочко", в пляс пускался старшина 1-й статьи Павел
Зимин. Под одобрительные возгласы собравшихся он лихо отбивал чечетку,
мастерски выполнял сложнейшие элемены этого задорного танца. Музыка, песни и
пляски в кубриках продолжались нередко до самого отбоя.
Находилось время и для чтения. Большим спросом пользовались у нас
Станюкович, Соболев, Новиков-Прибой.
Во время стоянки корабля в базе, пока шло пополнение запасов, одну
смену отпускали в увольнение, соблюдая очередность. После болтанки и
постоянного напряжения приятно было расслабиться, пройти по твердой земле,
побывать в Доме флота. Многие офицеры и "сверхсрочники", служившие на Севере
с довоенных лет, имели на берегу семьи. Нет нужды говорить, как в те суровые
дни встречи с родными и близкими помогали им в нелегкой ратной службе.
В середине января к Алексею Прокоиьсвичу Про-ничкину приехала жена. В
военные годы для того чтобы попасть в прифронтовую зону, необходимо было
специальное разрешение. И Ольге Федоровне удалось добиться его. Мы с
Гончаровым и Никольским побывали тогда в гостях у Проничкиных. Они занимали
маленькую комнатку в небольшом деревянном домике. Уютно расположившись на
табуретках за столиком, уставленным небогатыми -- по военным временам --
закусками, мы отметили встречу фронтовыми "ста
граммами". Ольга Федоровна, смеясь, рассказала, как в кузове попутного
грузовика, завернутая в брезент, добиралась из Мурманска, забросала нас
кучей вопросов, на которые мы вчетвером не успевали отвечать. Время прошло
незаметно.
Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы вышли на улицу. Ярко
светила луна. Мороз хватал за уши. Шли молча -- каждый думал о своем. У
двоих из нас были жены, и встреча у Проничкиных навеяла мысли о доме, о
семье.
Спустившись с горки, мы оказались на вершине огромного сугроба,
припорошенного рыхлым снегом. Внизу, у заснеженного причала, чернели силуэты
эсминцев. Несколько моряков что-то сгружали с автомашины.
-- Хорошо бы, с этой горы на лыжах, -- нарушил молчание Никольский.
-- Можно и без лыж обойтись, -- отозвался Гончаров и, плюхнувшись в
снег, заскользил на спине вниз.
По проложенному штурманом "фарватеру" спустились и мы с Никольским.
Отряхивая на ходу снег, вышли к причалу. Здесь заканчивалась погрузка
глубинных бомб -- утром снова в море...
Прошло две недели февраля. Враг продолжал стягивать на Север подводные
лодки. После гибели "Деятельного" и серьезного повреждения "Разъяренного"
основная тяжесть противолодочной борьбы легла на плечи 2-го и 3-го
дивизионов эсминцев и кораблей охраны водного района (включая тральщики).
Последним было трудней, чем нам: малым кораблям в большей степени были
опасны свирепые шторм и обледенение. Вопреки всяким нормам мореходности их
часто посылали с нами в море. А что было делать? Битва на морских путях
сообщения приобретала все более ожесточенный характер.
3 февраля крупный конвой "IW-64" вышел из Клайда (Англия) в наши
северные порты. В точку, где беломорская группа судов отделялась от
мурманской, прибыли эсминцы "Живучий", "Жесткий", "Урицкий", "Карл Либкнехт"
и десять кораблей охраны водного района. Наша задача -- эскортировать 15
союзных транспортов и танкеров на переходе в Белое море. Было известно, что
по маршруту перехода немцы развернули несколько завес подводных лодок, а
кораблей охране-
160
ния в этот раз было меньше, чем охраняемых судов. Командир 2-го
дивизиона капитан 2-го ранга Козлов решил усилить сторону конвоя, обращенную
к берегу,-- оттуда чаще всего нападали гитлеровцы. В этом был известный
риск, но другого выхода не оставалось. И расчет оказался верным -- два раза
нас атаковывали лодки, и оба раза -- со стороны берега. Им, конечно, не
удалось проникнуть внутрь охранения. В обоих случаях гитлеровцы были
обнаружены вовремя и отогнаны от конвоя. Все корабли конвоя прибыли к месту
назначения благополучно.
Мурманской группе судов, охраняемой британскими кораблями,
противодействовали не меньшие силы немцев. Здесь, к сожалению, не обошлось
без потерь. 13 февраля в 4 часа утра в районе Сеть-Наволок немецкая
подводная лодка торпедировала корвет "Денбай Кастл". На следующий день у
входа в Кольский залив немцы повредили танкер "Норфиел" и транспорт "Хо-рейс
Грей", шедшие из Белого моря в Мурманск для формирования обратного конвоя.
А через три дня, 17 февраля, мы получили задание сопровождать союзный
конвой "RA-64", следовавший из Мурманска в Англию. Кроме "Живучего" в
составе эскорта вышел "Жесткий", а также несколько кораблей ОВРа и торпедных
катеров.
Уже через два часа после выхода конвоя из залива немецкие лодки стали
"заявлять" о себе. В динамике то и дело слышались донесения о подводных
контактах. Загремели взрывы глубинных бомб.
Объявлена боевая тревога. Уже несколько часов мы мерзнем на открытых
боевых постах, а отбоя все нет. Благо, немного спасают шерстяные
подшлемники. Вон у "эрликонов" справа от меня растирает замерзшие руки
комсорг Гаврилов. Лицо скрыто подшлемником, но я вижу его улыбающиеся глаза:
ничего, мол, зенитчики не подведут. Хороший у нас комсорг, отличный
специалист...
Мысли прерывает голос в динамике: "По пеленгу... в дистанции 30
кабельтовых от Кильдина торпедирован британский корвет "Ларк". С "Жесткого"
от комдива получено радио: "Идем к торпедированному кораблю. Приготовиться к
буксировке". Ворочаем в сторону корвета. Не проходит и часа, как новое
донесение: "По пеленгу... в дистанции 13 миль от Кильдина
6 Г. Г. Поляков 161
торпедирован американский транспорт". Получаем от флагмана новое
приказание -- оказать помощь транспорту. (Фашисты не унимались. В тот же
день вечером севернее Териберки погиб от немецкой торпеды британский корвет
"Блю-Бел".)
Североморцы делали все возможное, чтобы оказать помощь союзным морякам.
Эсминец "Жесткий", взяв на буксир торпедированный корвет "Ларк", повел его в
Кольский залив. Посредине пути случилось непредвиденное -- буксирный трос
лопнул и намотался на гребной винт. "Жесткий" лишился хода. Вокруг сновали
гитлеровские подводные лодки, и корабли оказались в большой опасности.
Но благодаря мужеству и самоотверженности сигнальщика Вячеслава
Лимарова, беды не произошло. Сменившийся с вахты краснофлотец находился на
юте в тот момент, когда оборвался буксир. Поняв, что трос намотался на винт,
Вячеслав мгновенно сбросил с себя верхнюю одежду, нырнул на трехметровую
глубину и стал освобождать винт. Рядом взрывались глубинные бомбы, в любой
момент сигнальщик мог погибнуть, но он не думал об опасности. Трижды нырял
моряк в ледяную воду, пока не распутал трос. Уже через 15 минут корабль дал
ход и продолжал выполнять свою задачу.
Английский фрегат был благополучно отбуксирован в порт.
Многих моряков спасли тогда "морские охотники" и торпедные катера.
Особенно четко действовал экипаж катера "МО-434". Это отметили и наши
союзники. В радиограмме командующего британским флотом адмирала Мура,
направленной адмиралу Головко, говорилось: "Желаю выразить свою
благодарность за быстроту действий личного состава Вашего охотника при
спасении наших людей, выброшенных взрывом за борт, когда был торпедирован
британский корвет "Ларк"1.
А "Живучий" тем временем разыскал торпедированный транспорт. Это был
"Томас Скотт" (типа "Либерти"). Подошли к борту -- на палубе судна ни души:
американцы успели спустить шлюпки и покинуть транспорт. Нужно было взять
судно на буксир -- а принимать швартовы некому. Решили высадить на аварий-
 1 ЦВМ А, ф. 1401, оп 24549, л. 62.
162
ный транспорт группу краснофлотцев во главе с парторгом корабля Лысым.
Швартовка к борту "Томаса Скотта" обошлась нам дорого -- волны с
большой силой бросали эсминец на транспорт, в результате "Живучий" получил
несколько серьезных повреждений. А на американском судне торпедой была
сильно повреждена носовая часть. Пришлось заводить буксирные концы на его
корму. Тем временем к борту "Живучего" подошли два наших торпедных катера,
на которых были спасенные американские моряки. Четверо из них имели тяжелые
ранения, двадцать три -- легкие. Фельдшер Владимир Щедро-лосев и санитар
Сергей Сильницын стали оказывать им помощь1.
Увидев свой транспорт на буксире у "Живучего", капитан "Томаса Скотта"
поднялся к нам на мостик и с удивлением спросил у командира:
-- Зачем вы это делаете? Транспорт застрахован, и нанесенный пароходной
компании ущерб полностью будет возмещен. Оставьте, пусть себе тонет!
Нам, советским морякам, такое отношение к судну было непонятно, хоть мы
и знали уже, что именно из-за него много боевой техники, весьма необходимой
нам для борьбы с гитлеровцами, до фронта не дошло. Американские моряки не
раз покидали на произвол судьбы поврежденные суда, которые можно было бы еще
спасти. Коммерция, голый расчет, бизнес -- для них главное.
Прошло пять часов с тех пор, как "Живучий" начал буксировку транспорта.
И вдруг мы почувствовали сильный рывок -- это отломилась и затонула носовая
часть "Томаса Скотта".
Поступление воды в кормовую часть, буксируемую эсминцем, по всей
вероятности, усилилось, потому что вскоре мы увидели, что она начала
проседать и крениться.
-- Обрубить концы! -- последовала команда. Прошли буквально мгновения,
и корма транспорта ушла под воду. Это был первый в нашей практике случай,
когда аварийное судно не удалось довести в базу.
Спасенные американцы были доставлены в Ваенгу. Большинство из них
оказалось без теплой одежды. Мы
1 ЦВМ А, ф. 1401, оп 24549, л. 62.
162
ный транспорт группу краснофлотцев во главе с парторгом корабля Лысым.
Швартовка к борту "Томаса Скотта" обошлась нам дорого -- волны с
большой силой бросали эсминец на транспорт, в результате "Живучий" получил
несколько серьезных повреждений. А на американском судне торпедой была
сильно повреждена носовая часть. Пришлось заводить буксирные концы на его
корму. Тем временем к борту "Живучего" подошли два наших торпедных катера,
на которых были спасенные американские моряки. Четверо из них имели тяжелые
ранения, двадцать три -- легкие. Фельдшер Владимир Щедро-лосев и санитар
Сергей Сильницын стали оказывать им помощь1.
Увидев свой транспорт на буксире у "Живучего", капитан "Томаса Скотта"
поднялся к нам на мостик и с удивлением спросил у командира:
-- Зачем вы это делаете? Транспорт застрахован, и нанесенный пароходной
компании ущерб полностью будет возмещен. Оставьте, пусть себе тонет!
Нам, советским морякам, такое отношение к судну было непонятно, хоть мы
и знали уже, что именно из-за него много боевой техники, весьма необходимой
нам для борьбы с гитлеровцами, до фронта не дошло. Американские моряки не
раз покидали на произвол судьбы поврежденные суда, которые можно было бы еще
спасти. Коммерция, голый расчет, бизнес -- для них главное.
Прошло пять часов с тех пор, как "Живучий" начал буксировку транспорта.
И вдруг мы почувствовали сильный рывок -- это отломилась и затонула носовая
часть "Томаса Скотта".
Поступление воды в кормовую часть, буксируемую эсминцем, по всей
вероятности, усилилось, потому что вскоре мы увидели, что она начала
проседать и крениться.
-- Обрубить концы! -- последовала команда. Прошли буквально мгновения,
и корма транспорта ушла под воду. Это был первый в нашей практике случай,
когда аварийное судно не удалось довести в базу.
Спасенные американцы были доставлены в Ваенгу. Большинство из них
оказалось без теплой одежды. Мы
 1 ОЦВМА, ф 47, д. 29826, л. 26.
поделились с союзниками кто чем мог. Им очень понравились наши теплые
одеяла, и некоторые так и сошли на берег, с головой закутавшись в них.
23 февраля, в День Красной Армии, "Живучий" стоял в Полярном. В Доме
флота награжденным вручали ордена и медали. Николай Никольский получил орден
Отечественной войны I степени, я -- орден Красной Звезды. А у старпома
Алексея Проничкнна была двойная радость -- ему присвоили звание
капитан-лейтенанта и тоже вручили орден.
Через 3 дня "Живучий" получил приказ: вместе с эсминцами "Урицкий",
"Дерзкий", "Жесткий" и "Жгучий" эскортировать два транспорта на переходе из
Ли-нахамари в Кольский залив. Это был первый выход "Живучего" под
командованием нового командира -- капитан-лейтенанта Проничкнна. Личный
состав корабля знал Алексея Прокопьевича как строгого и справедливого
человека, опытного и грамотного офицера -- он ведь у нас был старшим
помощником командира.
Стоял зимний солнечный день. Видимость была хорошая, и с кораблями
эскорта поддерживалась визуальная связь.
Мористее всех находился "Дерзкий". Ему и пришлось первым вступить в
схватку с врагом.
После похода стали известны ее подробности.
Команда обедала, когда стоявший на вахте гидроакустик старшина 2-й
статьи Волков уловил шум винтов подводной лодки. По тревоге, оставив
обеденные бачки, моряки разбежались по боевым постам. Минеры во главе с
Севрюковым сбросили за борт первую серию бомб. Врагу удалось уклониться,
контакт с лодкой был потерян. Через полчаса Волков вновь услышал шум винтов,
который постепенно нарастал. Было ясно: где-то рядом, приближаясь к конвою,
крадется подводная лодка.
Минеры Бочинин, Карасев и Березин действовали расторопно, без суеты. На
подготовку бомб к сбрасыванию, установку взрывателя на заданную глубину
требуются секунды. Бочинин сумел сократить вдвое и этот короткий норматив.
После очередной бомбежки нервы у гитлеровцев сдали, и лодка резко
отвернула в сторону от конвоя.
-- Немец уходит! -- доложил гидроакустик Козловский.
1 ОЦВМА, ф 47, д. 29826, л. 26.
поделились с союзниками кто чем мог. Им очень понравились наши теплые
одеяла, и некоторые так и сошли на берег, с головой закутавшись в них.
23 февраля, в День Красной Армии, "Живучий" стоял в Полярном. В Доме
флота награжденным вручали ордена и медали. Николай Никольский получил орден
Отечественной войны I степени, я -- орден Красной Звезды. А у старпома
Алексея Проничкнна была двойная радость -- ему присвоили звание
капитан-лейтенанта и тоже вручили орден.
Через 3 дня "Живучий" получил приказ: вместе с эсминцами "Урицкий",
"Дерзкий", "Жесткий" и "Жгучий" эскортировать два транспорта на переходе из
Ли-нахамари в Кольский залив. Это был первый выход "Живучего" под
командованием нового командира -- капитан-лейтенанта Проничкнна. Личный
состав корабля знал Алексея Прокопьевича как строгого и справедливого
человека, опытного и грамотного офицера -- он ведь у нас был старшим
помощником командира.
Стоял зимний солнечный день. Видимость была хорошая, и с кораблями
эскорта поддерживалась визуальная связь.
Мористее всех находился "Дерзкий". Ему и пришлось первым вступить в
схватку с врагом.
После похода стали известны ее подробности.
Команда обедала, когда стоявший на вахте гидроакустик старшина 2-й
статьи Волков уловил шум винтов подводной лодки. По тревоге, оставив
обеденные бачки, моряки разбежались по боевым постам. Минеры во главе с
Севрюковым сбросили за борт первую серию бомб. Врагу удалось уклониться,
контакт с лодкой был потерян. Через полчаса Волков вновь услышал шум винтов,
который постепенно нарастал. Было ясно: где-то рядом, приближаясь к конвою,
крадется подводная лодка.
Минеры Бочинин, Карасев и Березин действовали расторопно, без суеты. На
подготовку бомб к сбрасыванию, установку взрывателя на заданную глубину
требуются секунды. Бочинин сумел сократить вдвое и этот короткий норматив.
После очередной бомбежки нервы у гитлеровцев сдали, и лодка резко
отвернула в сторону от конвоя.
-- Немец уходит! -- доложил гидроакустик Козловский.
 Командир корабля Максимов быстро произвел нужный расчет и необходимые
данные передал на носовую многоствольную установку "Еж". Старший
краснофлотец Кутузов быстро выполнил команду -- реактивные мины сошли с
направляющих. В работу включились также минеры кормовых бомбометов Карасев и
Голубев.
Контакт с вражеской подводной лодкой поддерживался, атака продолжалась.
Старшина группы минеров Севрюков уверенно скомандовал на юте:
-- Первая!
По этой команде с правого борта сбросил бомбы Сахаров.
-- Вторая!
Сычугов, находившийся на левом борту, послал смертоносный груз за борт.
С мостика за взрывами бомб наблюдал сигнальщик Малышенко. Оторвав
бинокль от глаз, он доложил:
-- В районе сброшенных бомб масляные пятна!
-- Вижу водяной пузырь! -- одновременно доложили минеры Бочинин и
Тишков. В следующее мгновение на юте услышали глухой подводный
взрыв1.
-- Вот и пришел фрицу капут, -- удовлетворен
но потер руки Севрюков.
Эта весть быстро облетела боевые посты. Старшие краснофлотцы Кулагин и
Хомяков вместе с котельными машинистами Ворошиловым и Глаголевским вылезли
на верхнюю палубу, чтобы поздравить минеров с боевым успехом. Севрюков
ответил:
-- Это наша общая победа. В бою участвовал весь
экипаж.
Несмотря на большое напряжение и частые выходы в море, командование и
политический отдел эскадры находили время для проведения мероприятий
политико-воспитательного характера с экипажами кораблей. 11 марта, например,
состоялся однодневный сбор старшинского состава эскадры. Участники сбора
обменялись опытом работы, наметили задачи на ближайший период. Перед
старшинами выступил командующий эскадрой контр-адмирал Фокин.
В те дни состоялось также собрание партийного актива эскадры. На нем с
"Живучего" присутствовали шесть коммунистов. Делегацию возглавлял новый
замполит старший лейтенант Ф. В. Лысый, назначенный вместо
капитан-лейтенанта Е. А. Фомина, который убыл в распоряжение отдела кадров.
Временно обязанности парторга корабля исполнял я.
Задачи коммунистам кораблей поставил начальник штаба эскадры капитан
1-го ранга А. М. Румянцев:
-- В Баренцевом море рыщут вражеские подводные
лодки. Немецко-фашистские пираты изыскивают все
новые и новые способы борьбы на море, прибегают к
самым крайним, подлым средствам. Обстановка требу
ет величайшего напряжения. И, несмотря на это, мы
должны в ближайшее время очистить Баренцево море
от немцев и полностью обезопасить коммуникации. Из
этого и должны исходить в своей работе партийные ор
ганизации кораблей2.
Командир корабля Максимов быстро произвел нужный расчет и необходимые
данные передал на носовую многоствольную установку "Еж". Старший
краснофлотец Кутузов быстро выполнил команду -- реактивные мины сошли с
направляющих. В работу включились также минеры кормовых бомбометов Карасев и
Голубев.
Контакт с вражеской подводной лодкой поддерживался, атака продолжалась.
Старшина группы минеров Севрюков уверенно скомандовал на юте:
-- Первая!
По этой команде с правого борта сбросил бомбы Сахаров.
-- Вторая!
Сычугов, находившийся на левом борту, послал смертоносный груз за борт.
С мостика за взрывами бомб наблюдал сигнальщик Малышенко. Оторвав
бинокль от глаз, он доложил:
-- В районе сброшенных бомб масляные пятна!
-- Вижу водяной пузырь! -- одновременно доложили минеры Бочинин и
Тишков. В следующее мгновение на юте услышали глухой подводный
взрыв1.
-- Вот и пришел фрицу капут, -- удовлетворен
но потер руки Севрюков.
Эта весть быстро облетела боевые посты. Старшие краснофлотцы Кулагин и
Хомяков вместе с котельными машинистами Ворошиловым и Глаголевским вылезли
на верхнюю палубу, чтобы поздравить минеров с боевым успехом. Севрюков
ответил:
-- Это наша общая победа. В бою участвовал весь
экипаж.
Несмотря на большое напряжение и частые выходы в море, командование и
политический отдел эскадры находили время для проведения мероприятий
политико-воспитательного характера с экипажами кораблей. 11 марта, например,
состоялся однодневный сбор старшинского состава эскадры. Участники сбора
обменялись опытом работы, наметили задачи на ближайший период. Перед
старшинами выступил командующий эскадрой контр-адмирал Фокин.
В те дни состоялось также собрание партийного актива эскадры. На нем с
"Живучего" присутствовали шесть коммунистов. Делегацию возглавлял новый
замполит старший лейтенант Ф. В. Лысый, назначенный вместо
капитан-лейтенанта Е. А. Фомина, который убыл в распоряжение отдела кадров.
Временно обязанности парторга корабля исполнял я.
Задачи коммунистам кораблей поставил начальник штаба эскадры капитан
1-го ранга А. М. Румянцев:
-- В Баренцевом море рыщут вражеские подводные
лодки. Немецко-фашистские пираты изыскивают все
новые и новые способы борьбы на море, прибегают к
самым крайним, подлым средствам. Обстановка требу
ет величайшего напряжения. И, несмотря на это, мы
должны в ближайшее время очистить Баренцево море
от немцев и полностью обезопасить коммуникации. Из
этого и должны исходить в своей работе партийные ор
ганизации кораблей2.
 1 ОЦВМА, ф 254, д. 33938, л 87
2 Там же
166
В конце марта вышел из ремонта "Жесткий", и встал на текущий ремонт
"Живучий". Но перед тем был тяжелый боевой поход.
Беломорскую группу союзного конвоя эскортировали пятнадцать
противолодочных кораблей, в их числе пять эсминцев -- "Карл Либкнехт",
"Урицкий", "Живучий", "Жесткий" и "Дерзкий". Разведка сообщила, что вдоль
побережья по курсу конвоя развернуто четырнадцать подводных лодок
противника. На каждый корабль ПЛО приходилась одна субмарина. Такое
соотношение сил было явно не в нашу пользу. Враг имел и другие преимущества
-- заблаговременный выбор позиции для атаки и скрытность. Тем не менее
попытки гитлеровцев прорваться к охраняемым транспортам не имели успеха. Все
транспорты были отконвоированы в Архангельск в целости и сохранности.
Вернувшись в Кольский залив, мы с огорчением узнали, что Мурманская
группа союзного конвоя, обеспечиваемая английскими эскортными кораблями,
понесла потери. В 8 милях от мыса Териберский был торпедирован транспорт
"Хорейс Бушнел", а в районе Кильдина потоплены английский шлюп "Лапуинг" и
американский транспорт "Томас Дюнальдсон".
За три месяца нового года "Живучий" 31 раз выходил в море для
конвоирования транспортов и поиска вражеских подводных лодок. Эсминец прошел
8345 миль, затратив на боевые действия 693 часа'.
С фронтов продолжали поступать радостные вести. Советские войска вели
бои на ближних подступах к Берлину. Несмотря на это, подводные лодки Деница
продолжали активно действовать на наших коммуникациях. 21 апреля они
атаковали конвой, шедший из Линахамари в Кольский залив. В охранении
транспортов находились эсминцы "Дерзкий", "Жесткий", "Достойный" и "Карл
Либкнехт", а также несколько "больших охотников", торпедных катеров и два
норвежских тральщика.
После выхода из Линахамари корабли охранения обнаружили и расстреляли
пять плавающих мин. Командир конвоя капитан 1-го ранга Румянцев с борта
"Карла Либкнехта" дал приказание усилить наблюдение за морем, так как
накануне в этом районе отме-
1 ОЦВМА, ф 254, д. 33938, л 87
2 Там же
166
В конце марта вышел из ремонта "Жесткий", и встал на текущий ремонт
"Живучий". Но перед тем был тяжелый боевой поход.
Беломорскую группу союзного конвоя эскортировали пятнадцать
противолодочных кораблей, в их числе пять эсминцев -- "Карл Либкнехт",
"Урицкий", "Живучий", "Жесткий" и "Дерзкий". Разведка сообщила, что вдоль
побережья по курсу конвоя развернуто четырнадцать подводных лодок
противника. На каждый корабль ПЛО приходилась одна субмарина. Такое
соотношение сил было явно не в нашу пользу. Враг имел и другие преимущества
-- заблаговременный выбор позиции для атаки и скрытность. Тем не менее
попытки гитлеровцев прорваться к охраняемым транспортам не имели успеха. Все
транспорты были отконвоированы в Архангельск в целости и сохранности.
Вернувшись в Кольский залив, мы с огорчением узнали, что Мурманская
группа союзного конвоя, обеспечиваемая английскими эскортными кораблями,
понесла потери. В 8 милях от мыса Териберский был торпедирован транспорт
"Хорейс Бушнел", а в районе Кильдина потоплены английский шлюп "Лапуинг" и
американский транспорт "Томас Дюнальдсон".
За три месяца нового года "Живучий" 31 раз выходил в море для
конвоирования транспортов и поиска вражеских подводных лодок. Эсминец прошел
8345 миль, затратив на боевые действия 693 часа'.
С фронтов продолжали поступать радостные вести. Советские войска вели
бои на ближних подступах к Берлину. Несмотря на это, подводные лодки Деница
продолжали активно действовать на наших коммуникациях. 21 апреля они
атаковали конвой, шедший из Линахамари в Кольский залив. В охранении
транспортов находились эсминцы "Дерзкий", "Жесткий", "Достойный" и "Карл
Либкнехт", а также несколько "больших охотников", торпедных катеров и два
норвежских тральщика.
После выхода из Линахамари корабли охранения обнаружили и расстреляли
пять плавающих мин. Командир конвоя капитан 1-го ранга Румянцев с борта
"Карла Либкнехта" дал приказание усилить наблюдение за морем, так как
накануне в этом районе отме-
 ОЦВМА, ф. 254, д 29821, л 34.
167
чалась большая активность вражеских подводных лодок.
Было пройдено около трети пути, когда акустики "Жесткого" обнаружили
противника, проникшего через первую завесу охранения. Эсминец и "большой
охотник" сбросили на врага глубинные бомбы и сорвали его-атаку. У
Цып-Наволока вражеским лодкам удалось проникнуть внутрь охранения и
повредить норвежский транспорт "Идефиорд" и наше судно "Онега".
Командир конвоя приказал двум эсминцам взять поврежденные суда на
буксир. Угроза нависла и над флагманским кораблем. Минеры "Карла Либкнехта"
увидели две торпеды, идущие прямо на корабль.
-- Самый полный вперед! -- скомандовал командир корабля
капитан-лейтенант К. Д. Старицын.
Корабль рванулся вперед. Вражеские торпеды прошли в 20--30 метрах за
кормой. Ориентируясь по направлению следа торпед, "Карл Либкнехт" пробом-бил
участок, где предположительно находился враг. После взрывов второй серии
глубинных бомб из воды показались два перископа, затем разрушенная рубка и,
наконец, корма. Комендоры носового орудия прямой наводкой расстреляли
пирата, которым, как выяснилось позже, оказалась лодка "U-286"1.
Еще шесть раз гитлеровцы атаковывали конвой, но больше успеха не имели.
В конце перехода "Достойный", атакуя вражескую лодку, удачно накрыл ее на
четвертом заходе глубинными бомбами.
В оставшиеся до окончания войны дни эсминцы трижды выходили на
эскортирование союзных транспортов, следовавших в обоих направлениях. Ни
один транспорт, ни один корабль охранения больше не пострадал. Не повезло
только британскому корвету "Гу-далл". Производя 29 апреля поиск на подходах
к Кольскому заливу перед отправлением союзного конвоя "RA-66", корвет был
торпедирован неприятельской лодкой и затонул.
Это была последняя жертва войны в Баренцевом море. 2 мая на кораблях
эскадры прошли митинги, посвященные взятию советскими войсками Берлина. Со
дня на день ожидалось сообщение об окончании
ОЦВМА, ф. 254, д 29821, л 34.
167
чалась большая активность вражеских подводных лодок.
Было пройдено около трети пути, когда акустики "Жесткого" обнаружили
противника, проникшего через первую завесу охранения. Эсминец и "большой
охотник" сбросили на врага глубинные бомбы и сорвали его-атаку. У
Цып-Наволока вражеским лодкам удалось проникнуть внутрь охранения и
повредить норвежский транспорт "Идефиорд" и наше судно "Онега".
Командир конвоя приказал двум эсминцам взять поврежденные суда на
буксир. Угроза нависла и над флагманским кораблем. Минеры "Карла Либкнехта"
увидели две торпеды, идущие прямо на корабль.
-- Самый полный вперед! -- скомандовал командир корабля
капитан-лейтенант К. Д. Старицын.
Корабль рванулся вперед. Вражеские торпеды прошли в 20--30 метрах за
кормой. Ориентируясь по направлению следа торпед, "Карл Либкнехт" пробом-бил
участок, где предположительно находился враг. После взрывов второй серии
глубинных бомб из воды показались два перископа, затем разрушенная рубка и,
наконец, корма. Комендоры носового орудия прямой наводкой расстреляли
пирата, которым, как выяснилось позже, оказалась лодка "U-286"1.
Еще шесть раз гитлеровцы атаковывали конвой, но больше успеха не имели.
В конце перехода "Достойный", атакуя вражескую лодку, удачно накрыл ее на
четвертом заходе глубинными бомбами.
В оставшиеся до окончания войны дни эсминцы трижды выходили на
эскортирование союзных транспортов, следовавших в обоих направлениях. Ни
один транспорт, ни один корабль охранения больше не пострадал. Не повезло
только британскому корвету "Гу-далл". Производя 29 апреля поиск на подходах
к Кольскому заливу перед отправлением союзного конвоя "RA-66", корвет был
торпедирован неприятельской лодкой и затонул.
Это была последняя жертва войны в Баренцевом море. 2 мая на кораблях
эскадры прошли митинги, посвященные взятию советскими войсками Берлина. Со
дня на день ожидалось сообщение об окончании
 1 См : Еремеев Л. А., Шергин А. П. Подводные лодки
иностранных флотов во второй мировой войне. М, Воениздат, 1962, с 180.
168
войны. 7 мая немцы прекратили бои на западном фронте, но продолжали
оказывать яростное сопротивление наступающим советским войскам на востоке.
На улицах Мурманска днем 8 мая можно было встретить группки подвыпивших
американских моряков с прибывших транспортов. Они были возбуждены,
восторженно останавливали прохожих, восклицали: "Финиш воо! Финиш
воо!"1. Ночью с "Либерти" пускали сигнальные ракеты, стреляли из
пушек. Американцы торопились праздновать Победу.
На эскадре в ту ночь не спали. В 2 часа 45 минут поступило
правительственное сообщение о безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии и повсеместном прекращении боевых действий.
На палубах кораблей по "Большому сбору" в парадной форме при орденах и
медалях выстроились ликующие краснофлотцы, старшины, офицеры. Это было
незабываемое зрелище -- митинг в три часа ночи.
А утром в 8 часов состоялся торжественный подъем Военно-морского флага.
Гирлянды флагов расцвечивания протянулись над палубами и надстройками.
На рейде и на берегу -- всюду слышалась музыка, всюду радовались и
веселились люди. В полдень береговые батареи и корабли произвели салют.
В воскресенье, 13 мая в честь Победы в Кольском заливе состоялся парад
кораблей Северного флота.
Торжественную церемонию открыли торпедные катера, за ними шли тральщики
и "большие охотники".
В четком строю прошли эскадренные миноносцы. "Живучего" среди них не
было. С разобранными механизмами он стоял на приколе. Но многие члены
экипажа эсминца наблюдали за торжеством с берега. Завершили прохождение
подводные лодки. Парад явился демонстрацией несокрушимой силы Северного
флота, который вместе со всей страной праздновал Победу.
Душа ликовала, когда боевые корабли, оставляя за собой вспененные
буруны, один за другим гордо проходили по заливу. На боевых рубках многих из
них красовались цифры, обозначавшие число потопленных немецких кораблей и
подводных лодок.
1 См : Еремеев Л. А., Шергин А. П. Подводные лодки
иностранных флотов во второй мировой войне. М, Воениздат, 1962, с 180.
168
войны. 7 мая немцы прекратили бои на западном фронте, но продолжали
оказывать яростное сопротивление наступающим советским войскам на востоке.
На улицах Мурманска днем 8 мая можно было встретить группки подвыпивших
американских моряков с прибывших транспортов. Они были возбуждены,
восторженно останавливали прохожих, восклицали: "Финиш воо! Финиш
воо!"1. Ночью с "Либерти" пускали сигнальные ракеты, стреляли из
пушек. Американцы торопились праздновать Победу.
На эскадре в ту ночь не спали. В 2 часа 45 минут поступило
правительственное сообщение о безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии и повсеместном прекращении боевых действий.
На палубах кораблей по "Большому сбору" в парадной форме при орденах и
медалях выстроились ликующие краснофлотцы, старшины, офицеры. Это было
незабываемое зрелище -- митинг в три часа ночи.
А утром в 8 часов состоялся торжественный подъем Военно-морского флага.
Гирлянды флагов расцвечивания протянулись над палубами и надстройками.
На рейде и на берегу -- всюду слышалась музыка, всюду радовались и
веселились люди. В полдень береговые батареи и корабли произвели салют.
В воскресенье, 13 мая в честь Победы в Кольском заливе состоялся парад
кораблей Северного флота.
Торжественную церемонию открыли торпедные катера, за ними шли тральщики
и "большие охотники".
В четком строю прошли эскадренные миноносцы. "Живучего" среди них не
было. С разобранными механизмами он стоял на приколе. Но многие члены
экипажа эсминца наблюдали за торжеством с берега. Завершили прохождение
подводные лодки. Парад явился демонстрацией несокрушимой силы Северного
флота, который вместе со всей страной праздновал Победу.
Душа ликовала, когда боевые корабли, оставляя за собой вспененные
буруны, один за другим гордо проходили по заливу. На боевых рубках многих из
них красовались цифры, обозначавшие число потопленных немецких кораблей и
подводных лодок.
 1 Финиш воо (англ ) -- война кончилась
ПОСЛЕСЛОВИЕ
рошло много лет с тех пор, как окончилась война, корабли, принятые нами
во временное пользование, давно возвращены союзникам. Члены экипажей "шипов"
получили назначение на другие корабли. Многие сослуживцы вскоре
демобилизовались и разъехались по домам.
Работая над книгой, я вначале разыскал боевых друзей с эсминца
"Живучий". Хотелось узнать, как сложилась их судьба, помнят ли суровое
Баренцево море...
Встреча состоялась в Ленинграде накануне 30-летия Великой Победы. Найти
удалось двенадцать человек.
Читатель может представить, какая это была встреча. Объятия, поцелуи,
радостные возгласы... Все очень изменились и не сразу могли узнать друг
друга. Вначале было трудно разобрать, кто и что говорит, -- говорили все
одновременно.
Когда расселись за длинным столом в уютном зале гостиницы "Советская",
Н. И. Никольский предложил:
-- Пусть каждый расскажет, как жил, чем занимался после войны.
Это был своеобразный отчет перед боевыми друзьями, перед бывшим
командиром корабля Н. Д. Ряб-ченко. Вот его краткая запись.
Рябченко Николай Дмитриевич, капитан 1-го ранга в отставке, после войны
командовал кораблями, соединением кораблей. Находится на заслуженном отдыхе,
живет в Таллине.
170
Проничкин Алексей Прокопьевич, контр-адмирал запаса, командовал
кораблями, соединениями кораблей, служил в Главном штабе Военно-Морского
Флота СССР, живет в Москве.
Никольский Николай Иванович, капитан 1-го ранга-инженер запаса, доктор
технических наук. Долгое время преподавал в Военно-морской академии. Сейчас
профессор одного из ленинградских институтов.
Дубовов Борис Федорович, капитан 1-го ранга-инже-нер запаса, кандидат
технических наук, доцент. Работает деканом одного из факультетов
Ленинградского инженерно-экономического института им. П. Тольятти.
Яковлев Александр Евгеньевич, капитан 2-го ранга-инженер запаса --
инженер судостроительного завода в Ленинграде.
Васильев Николай Николаевич, капитан 3-го ранга запаса --- капитан
теплохода в Ленинградском речном пассажирском пароходстве.
Щедролосев Владимир Васильевич оставил медицину, стал военным
инженером. В звании подполковник-инженер ушел в запас. Живет в Ленинграде.
Петров Александр Петрович (бывший радиометрист) после демобилизации
закончил среднюю школу, институт, защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. Был на ответственной партийной работе, а теперь руководит
отделом в одном из институтов АН СССР.
Лариошин Василий Васильевич, капитан 2-го ранга запаса -- военрук в
ГПТУ г. Приозерска Ленинградской области.
Коньков Николай Григорьевич (бывший радиометрист) много лет служил на
сверхсрочной службе. Живет и работает в Ленинграде.
На встречу не смогли приехать:
Морозенко Владимир Дмитриевич, подполковник медицинской службы запаса.
Работает терапевтом в 1-й городской больнице города Севастополя.
Клименко Иван Никитович. После демобилизации работал в народном
хозяйстве, долго плавал на рыболовецких судах Каспия. Ушел на пенсию, живет
в Астрахани.
Два дня продолжалась наша встреча. Закончилась она посещением
легендарного крейсера "Аврора".
171
1 Финиш воо (англ ) -- война кончилась
ПОСЛЕСЛОВИЕ
рошло много лет с тех пор, как окончилась война, корабли, принятые нами
во временное пользование, давно возвращены союзникам. Члены экипажей "шипов"
получили назначение на другие корабли. Многие сослуживцы вскоре
демобилизовались и разъехались по домам.
Работая над книгой, я вначале разыскал боевых друзей с эсминца
"Живучий". Хотелось узнать, как сложилась их судьба, помнят ли суровое
Баренцево море...
Встреча состоялась в Ленинграде накануне 30-летия Великой Победы. Найти
удалось двенадцать человек.
Читатель может представить, какая это была встреча. Объятия, поцелуи,
радостные возгласы... Все очень изменились и не сразу могли узнать друг
друга. Вначале было трудно разобрать, кто и что говорит, -- говорили все
одновременно.
Когда расселись за длинным столом в уютном зале гостиницы "Советская",
Н. И. Никольский предложил:
-- Пусть каждый расскажет, как жил, чем занимался после войны.
Это был своеобразный отчет перед боевыми друзьями, перед бывшим
командиром корабля Н. Д. Ряб-ченко. Вот его краткая запись.
Рябченко Николай Дмитриевич, капитан 1-го ранга в отставке, после войны
командовал кораблями, соединением кораблей. Находится на заслуженном отдыхе,
живет в Таллине.
170
Проничкин Алексей Прокопьевич, контр-адмирал запаса, командовал
кораблями, соединениями кораблей, служил в Главном штабе Военно-Морского
Флота СССР, живет в Москве.
Никольский Николай Иванович, капитан 1-го ранга-инженер запаса, доктор
технических наук. Долгое время преподавал в Военно-морской академии. Сейчас
профессор одного из ленинградских институтов.
Дубовов Борис Федорович, капитан 1-го ранга-инже-нер запаса, кандидат
технических наук, доцент. Работает деканом одного из факультетов
Ленинградского инженерно-экономического института им. П. Тольятти.
Яковлев Александр Евгеньевич, капитан 2-го ранга-инженер запаса --
инженер судостроительного завода в Ленинграде.
Васильев Николай Николаевич, капитан 3-го ранга запаса --- капитан
теплохода в Ленинградском речном пассажирском пароходстве.
Щедролосев Владимир Васильевич оставил медицину, стал военным
инженером. В звании подполковник-инженер ушел в запас. Живет в Ленинграде.
Петров Александр Петрович (бывший радиометрист) после демобилизации
закончил среднюю школу, институт, защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. Был на ответственной партийной работе, а теперь руководит
отделом в одном из институтов АН СССР.
Лариошин Василий Васильевич, капитан 2-го ранга запаса -- военрук в
ГПТУ г. Приозерска Ленинградской области.
Коньков Николай Григорьевич (бывший радиометрист) много лет служил на
сверхсрочной службе. Живет и работает в Ленинграде.
На встречу не смогли приехать:
Морозенко Владимир Дмитриевич, подполковник медицинской службы запаса.
Работает терапевтом в 1-й городской больнице города Севастополя.
Клименко Иван Никитович. После демобилизации работал в народном
хозяйстве, долго плавал на рыболовецких судах Каспия. Ушел на пенсию, живет
в Астрахани.
Два дня продолжалась наша встреча. Закончилась она посещением
легендарного крейсера "Аврора".
171
 Удалось мне разыскать также всех семерых членов экипажа "Деятельный",
спасшихся при гибели эсминца. На предложение встретиться в Москве они
откликнулись все, но смогли приехать только пятеро. Встречу назначили в
скверике у Большого театра. Стояли погожие дни осени 1976 года. И мы решили
совершить прогулку на катере по каналу Москва--Волга. В уют-ион
кают-компании все располагало к разговору. Вот что я узнал от бывших боевых
товарищей.
Мачинский Олег Макарович (бывший старпом) -- контр-адмирал в отставке.
Живет в городе Видное под Москвой. Возглавляет водно-спасательную службу
столицы, участвует в военно-патриотической работе. Его воспоминания помогли
восстановить подробности мужественной борьбы экипажа за жизнь корабля.
Корябин Дмитрий Филиппович (бывший командир отделения сигнальщиков)
вскоре после войны демоби-
Удалось мне разыскать также всех семерых членов экипажа "Деятельный",
спасшихся при гибели эсминца. На предложение встретиться в Москве они
откликнулись все, но смогли приехать только пятеро. Встречу назначили в
скверике у Большого театра. Стояли погожие дни осени 1976 года. И мы решили
совершить прогулку на катере по каналу Москва--Волга. В уют-ион
кают-компании все располагало к разговору. Вот что я узнал от бывших боевых
товарищей.
Мачинский Олег Макарович (бывший старпом) -- контр-адмирал в отставке.
Живет в городе Видное под Москвой. Возглавляет водно-спасательную службу
столицы, участвует в военно-патриотической работе. Его воспоминания помогли
восстановить подробности мужественной борьбы экипажа за жизнь корабля.
Корябин Дмитрий Филиппович (бывший командир отделения сигнальщиков)
вскоре после войны демоби-
 лизовался, с отличием закончил железнодорожный техникум, а затем
Московский институт железнодорожного транспорта. Живет в г. Жилево под
Москвой, работает в Каширском отделении железной дороги. Участникам встречи
больше всего запомнилась такая деталь: когда окоченевшего Корябина вытащили
на палубу "Дерзкого", у него в руке был намертво зажат сигнальный фонарь, а
с шеи свисал тяжелый бинокль.
"Когда затопило вторую машину, -- рассказывал бывший машинист-турбинист
Вячеслав Васильевич Ше-стопалов, -- я выключил свет и вместе с другими вылез
через люк на палубу. Здесь услышал команду: "Покинуть корабль". Тысячью
иголок, впившихся в тело, показалась мне вода Баренцева моря..."
В. В. Шестопалов живет в г. Касимове, инвалид -- морская купель сильно
подорвала его здоровье.
Борис Васильевич Тормозов (боцман) после демобилизации вернулся в
родной Новороссийск, где до сих пор работает на цементном заводе
"Пролетарий". Он хорошо помнит события той трагической ночи: "Вместе со
старшим боцманом Блиновым я готовил буксирные средства, но нос корабля все
больше задирался кверху. Последовала команда: "Покинуть корабль". Прямо в
реглане и валенках прыгнул за борт. Вынырнув, увидел: корабль стоит почти
вертикально и над моей головой висит якорь..."
Павел Семенович Агеев, бывший штурманский электрик, после окончания
войны поступил в военное училище. Теперь он майор в отставке, живет и
работает в Одессе. Он до сих пор помнит многие детали, связанные со
спасением: "Оказавшись на плотике вместе с Мачинским, Корябиным и
Тормозовым, заметил, что только я одет "не по сезону" -- в суконных брюках,
бушлате и без шапки. Понял, что замерзну первым. Может быть, поэтому спросил
у Мачинского: "Куда дует ветер?" -- "К берегу", -- ответил Олег Макарович.
Видимо, он угадал мои мысли и решил успокоить. А мысли были такие: если все
замерзнем, то ветром и волной плот прибьет к берегу, нас обнаружат и
похоронят в земле. Еще подумал, что моя смерть очень огорчит мать", --
рассказывал П. С. Агеев.
Командир первой машины Назар Иванович Лебедев и командир отделения
мотористов Михаил Афанасьевич Кошелев в Москву приехать не смогли.
174
Н. И. Лебедев живет и работает в Донецке. За трудовые успехи награжден
орденом "Знак Почета".
М. А. Кошелев после демобилизации поселился в Сочи. Как и В. В.
Шестопалов, он тяжело перенес переохлаждение.
Удалось разыскать еще трех членов экипажа "Деятельного", оказавшихся в
день гибели корабля в отпуске: замполита Платона Игнатьевича Патрушева
(капитан 1-го ранга в отставке, живет и работает в Ленинграде), командира
БЧ-IV Павла Александровича Обрезумова (старший лейтенант в отставке, живет и
работает в Москве) и машиниста-турбиниста Николая Андреевича Нефедова
(мичман запаса, живет и работает в Ленинграде).
В ходе работы над книгой удалось узнать и о судьбе многих других
ветеранов эскадры Северного флота. Бывший начальник штаба эскадры Александр
Михайлович Румянцев ушел в запас в звании вице-адмирала. Работал над книгой
по истории Северного флота, но скоропостижная смерть осенью 1974 года не
позволила ему закончить эту работу.
Бывший командир эсминца "Достойный" (а несколько позже -- командир 2-го
дивизиона эсминцев) Евгений Андрианович Козлов -- контр-адмирал в отставке,
живет в Москве.
Командир эсминца "Дерзкий" Анатолий Иванович Андреев и его преемник на
этом посту Борис Николаевич Максимов живут в Ленинграде, командир эсминца
"Дружный" (ставший позже флагманским штурманом эскадры) капитан 1-го ранга в
отставке Александр Евгеньевич Пастухов умер в Ленинграде в 1976 году.
Капитан 1-го ранга в отставке Николай Васильевич Матковский, бывший
замполит командира эсминца "Дружный" -- профессор, ученый-международник.
Совсем недавно удалось связаться еще с двумя моряками "Живучего" --
гидроакустиком Василием Яковлевичем Рыжиковым и радиометристом Георгием
Александровичем Алхимовым. Оба живут и работают в Москве.
Встреча с каждым ветераном эскадры Северного флота была волнующей и
интересной. Очень жаль, что рамки книги не позволяют воспроизвести здесь
подробности этих встреч.
СОДЕРЖАН И Е
Вместо предисловия . . 5
Забытая картина 11
На правах пассажиров 13
Инженеры, переодетые в матросскую
форму 30
Под флагом Родины 53
Сквозь шторм и "волчьи стаи" ... 71
В семье североморцев 87
Тараном, снарядом и бомбой! . . . 109
Враг повержен 140
Послесловие . . . . 175
Художник
B. 3. Борисова
Гавриил Герасимович Поляков В СУРОВОМ БАРЕНЦЕВОМ
Редактор
C. К. Богатикова
Художественный редактор
A. 3. Маркелов
Технический редактор
А. Ф. Сергеев Корректор
B. П. Рябинина
Сдано в набор 31.01.78. Подписано
в печать 21.06.78. ПН 01925. Формат
84x108/32. Бумага типографская
No 1. Литературная. Высокая.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,4.
Тираж 15 000 экз. Зак. 1221.
Цена 43 коп.
Мурманское книжное издательство,
г. Мурманск, пр. Ленина, 100
Мурманская областная типография,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18
лизовался, с отличием закончил железнодорожный техникум, а затем
Московский институт железнодорожного транспорта. Живет в г. Жилево под
Москвой, работает в Каширском отделении железной дороги. Участникам встречи
больше всего запомнилась такая деталь: когда окоченевшего Корябина вытащили
на палубу "Дерзкого", у него в руке был намертво зажат сигнальный фонарь, а
с шеи свисал тяжелый бинокль.
"Когда затопило вторую машину, -- рассказывал бывший машинист-турбинист
Вячеслав Васильевич Ше-стопалов, -- я выключил свет и вместе с другими вылез
через люк на палубу. Здесь услышал команду: "Покинуть корабль". Тысячью
иголок, впившихся в тело, показалась мне вода Баренцева моря..."
В. В. Шестопалов живет в г. Касимове, инвалид -- морская купель сильно
подорвала его здоровье.
Борис Васильевич Тормозов (боцман) после демобилизации вернулся в
родной Новороссийск, где до сих пор работает на цементном заводе
"Пролетарий". Он хорошо помнит события той трагической ночи: "Вместе со
старшим боцманом Блиновым я готовил буксирные средства, но нос корабля все
больше задирался кверху. Последовала команда: "Покинуть корабль". Прямо в
реглане и валенках прыгнул за борт. Вынырнув, увидел: корабль стоит почти
вертикально и над моей головой висит якорь..."
Павел Семенович Агеев, бывший штурманский электрик, после окончания
войны поступил в военное училище. Теперь он майор в отставке, живет и
работает в Одессе. Он до сих пор помнит многие детали, связанные со
спасением: "Оказавшись на плотике вместе с Мачинским, Корябиным и
Тормозовым, заметил, что только я одет "не по сезону" -- в суконных брюках,
бушлате и без шапки. Понял, что замерзну первым. Может быть, поэтому спросил
у Мачинского: "Куда дует ветер?" -- "К берегу", -- ответил Олег Макарович.
Видимо, он угадал мои мысли и решил успокоить. А мысли были такие: если все
замерзнем, то ветром и волной плот прибьет к берегу, нас обнаружат и
похоронят в земле. Еще подумал, что моя смерть очень огорчит мать", --
рассказывал П. С. Агеев.
Командир первой машины Назар Иванович Лебедев и командир отделения
мотористов Михаил Афанасьевич Кошелев в Москву приехать не смогли.
174
Н. И. Лебедев живет и работает в Донецке. За трудовые успехи награжден
орденом "Знак Почета".
М. А. Кошелев после демобилизации поселился в Сочи. Как и В. В.
Шестопалов, он тяжело перенес переохлаждение.
Удалось разыскать еще трех членов экипажа "Деятельного", оказавшихся в
день гибели корабля в отпуске: замполита Платона Игнатьевича Патрушева
(капитан 1-го ранга в отставке, живет и работает в Ленинграде), командира
БЧ-IV Павла Александровича Обрезумова (старший лейтенант в отставке, живет и
работает в Москве) и машиниста-турбиниста Николая Андреевича Нефедова
(мичман запаса, живет и работает в Ленинграде).
В ходе работы над книгой удалось узнать и о судьбе многих других
ветеранов эскадры Северного флота. Бывший начальник штаба эскадры Александр
Михайлович Румянцев ушел в запас в звании вице-адмирала. Работал над книгой
по истории Северного флота, но скоропостижная смерть осенью 1974 года не
позволила ему закончить эту работу.
Бывший командир эсминца "Достойный" (а несколько позже -- командир 2-го
дивизиона эсминцев) Евгений Андрианович Козлов -- контр-адмирал в отставке,
живет в Москве.
Командир эсминца "Дерзкий" Анатолий Иванович Андреев и его преемник на
этом посту Борис Николаевич Максимов живут в Ленинграде, командир эсминца
"Дружный" (ставший позже флагманским штурманом эскадры) капитан 1-го ранга в
отставке Александр Евгеньевич Пастухов умер в Ленинграде в 1976 году.
Капитан 1-го ранга в отставке Николай Васильевич Матковский, бывший
замполит командира эсминца "Дружный" -- профессор, ученый-международник.
Совсем недавно удалось связаться еще с двумя моряками "Живучего" --
гидроакустиком Василием Яковлевичем Рыжиковым и радиометристом Георгием
Александровичем Алхимовым. Оба живут и работают в Москве.
Встреча с каждым ветераном эскадры Северного флота была волнующей и
интересной. Очень жаль, что рамки книги не позволяют воспроизвести здесь
подробности этих встреч.
СОДЕРЖАН И Е
Вместо предисловия . . 5
Забытая картина 11
На правах пассажиров 13
Инженеры, переодетые в матросскую
форму 30
Под флагом Родины 53
Сквозь шторм и "волчьи стаи" ... 71
В семье североморцев 87
Тараном, снарядом и бомбой! . . . 109
Враг повержен 140
Послесловие . . . . 175
Художник
B. 3. Борисова
Гавриил Герасимович Поляков В СУРОВОМ БАРЕНЦЕВОМ
Редактор
C. К. Богатикова
Художественный редактор
A. 3. Маркелов
Технический редактор
А. Ф. Сергеев Корректор
B. П. Рябинина
Сдано в набор 31.01.78. Подписано
в печать 21.06.78. ПН 01925. Формат
84x108/32. Бумага типографская
No 1. Литературная. Высокая.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,4.
Тираж 15 000 экз. Зак. 1221.
Цена 43 коп.
Мурманское книжное издательство,
г. Мурманск, пр. Ленина, 100
Мурманская областная типография,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18
Популярность: 27, Last-modified: Sun, 05 Feb 2006 08:50:22 GmT
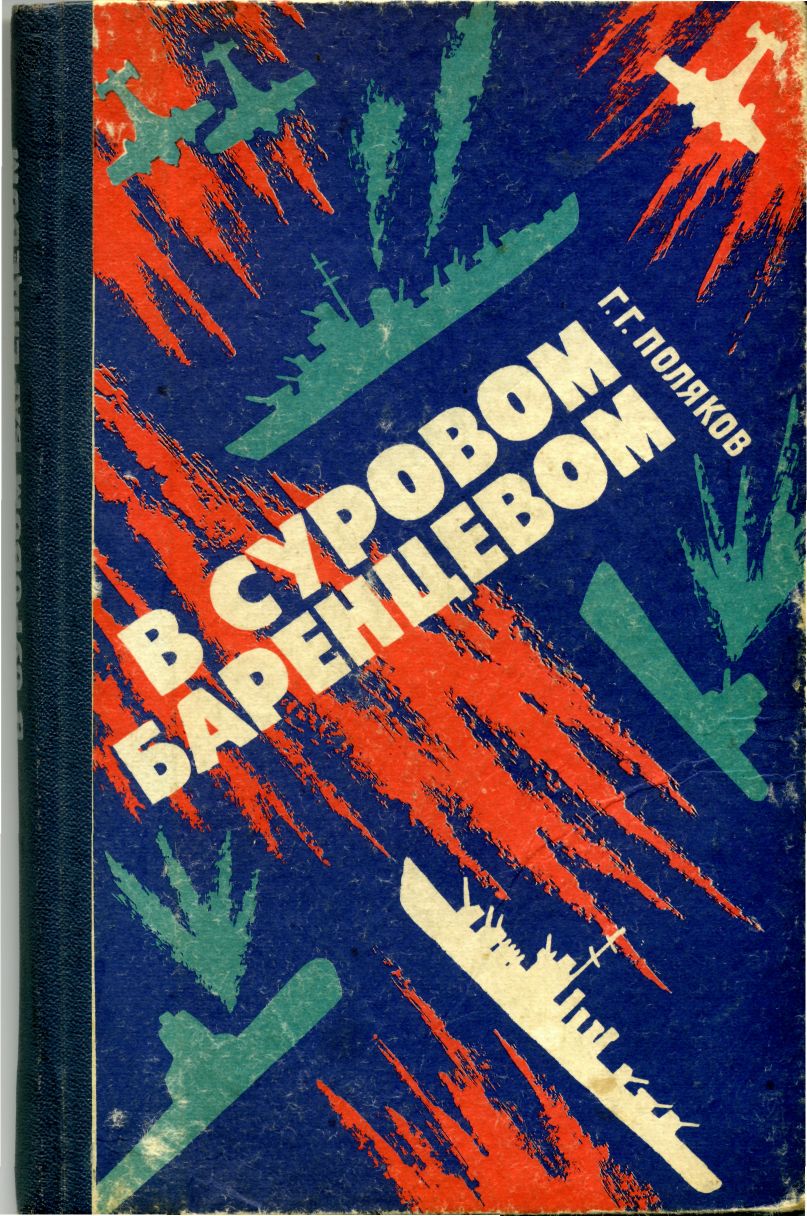
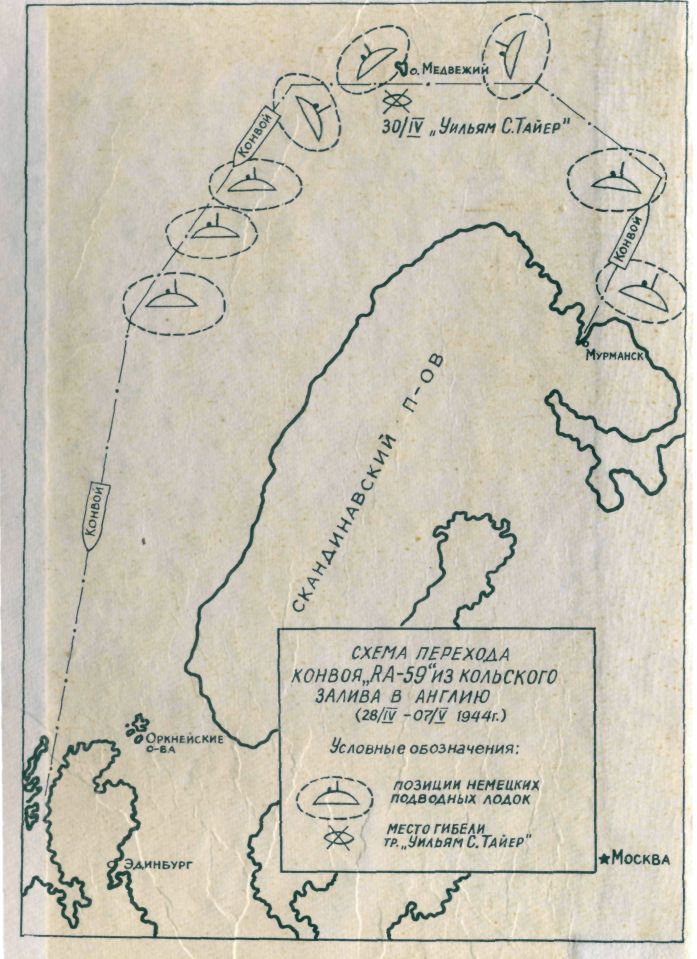
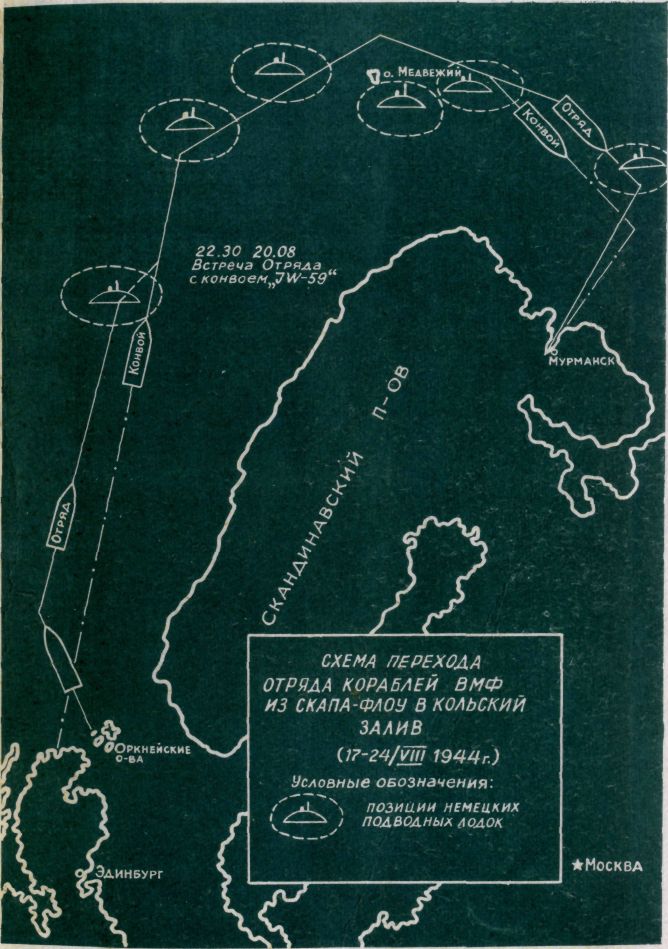
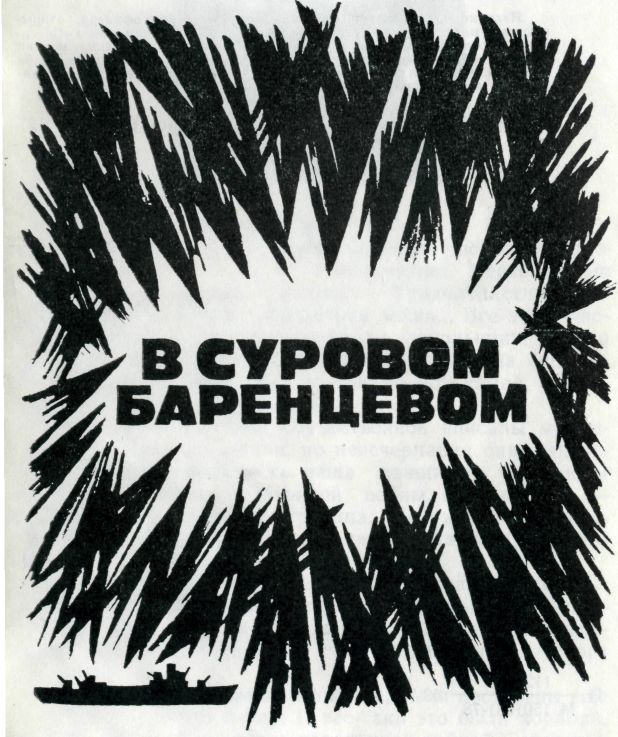 МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978
Поляков Г. Г.
П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.
176 с. с ил.
Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие
малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге
рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от
союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие
приспособленных для плавания в высоких широтах судах.
9(с)27(с12)+355.75(с12)
МУРМАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1978
Поляков Г. Г.
П54 В суровом Баренцевом. Мурманск, Кн. изд-во, 1978.
176 с. с ил.
Издание представляет собой записки морского офицера, открывающие
малоизвестные страницы истории Краснознаменного Северного флота. В книге
рассказывается о том. как советские моряки в годы войны принимали от
союзников корабли, в каких условиях перегоняли их. как воевали на этих ие
приспособленных для плавания в высоких широтах судах.
9(с)27(с12)+355.75(с12)
 Очень много войн познало человечество. Неизбежными
они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,
Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.
А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой
уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.
В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но
неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим
солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая
страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры
Северного флота.
Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев
отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные
союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.
Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую
войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная
войной Советская
страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши
моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких
широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют
воевать советские люди.
Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до
сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над
нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,
вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала
запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.
Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.
Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.
Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,
предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен
также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального
военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим
ряд добрых советов.
Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал
даром.
Автор
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Очень много войн познало человечество. Неизбежными
они были, жестокими и долгими -- Тридцатилетняя война, Столетняя война,
Семилетняя война... Все это -- история, которую изучали и изучают школьники.
А три с лишним десятилетия назад пополнилась она еще одной войной, не такой
уж и долгой, но зато самой страшной и самой жестокой из всех.
В историю Великой Отечественной вписаны миллионы и миллионы страниц, но
неисчерпаема она, как незабываема благодарность наша павшим и уцелевшим
солдатам и матросам Великой войны. И книга моя -- всего лишь одна такая
страница, она и история войны, и дань боевым моим друзьям из эскадры
Северного флота.
Необычное это было соединение. Составилось оно из эсминцев
отечественной постройки и устаревших кораблей, которые дали нам западные
союзники по антигитлеровской коалиции -- в счет раздела итальянского флота.
Эсминцы, принятые от англичан, были построены еще в первую мировую
войну. И все-таки это были корабли, в которых так нуждалась израненная
войной Советская
страна. Но не в этом, собственно, главное. Главное в том, что наши
моряки даже на таких старых, не приспособленных для плавания в высоких
широтах кораблях показали всему миру, и в первую очередь врагу, как умеют
воевать советские люди.
Честно говоря, все еще не могу поверить, что книга уже написана, и до
сих пор с благодарностью вспоминаю всех тех, кто мне помогал в работе над
нею -- адмиралов в отставке -Г. И. Левченко и Н. М. Харламова,
вице-адмиралов в отставке А. М. Румянцева и Н. А. Торика, контр-адмирала
запаса А. П. Проничкина, капитана 1-го ранга в отставке профессора Н. В.
Матков-ского, А. Е. Пастухова, В. К Подноринова, Н. Д. Ряб-ченко и И. П.
Чернышева, капитана 1-го ранга доктора военно-морских наук профессора В. С.
Шломина, полковника в отставке П. Н. Кудинова, многих сослуживцев,
предоставивших свои воспоминания, сделавших ценные замечания. Я признателен
также сотрудникам Центрального Военно-Морского Архива, Центрального
военно-морского музея, Музея Краснознаменного Северного флота,
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, оказавшим мне внимание и давшим
ряд добрых советов.
Если книга придется читателям по душе, значит, общий наш труд не пропал
даром.
Автор
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
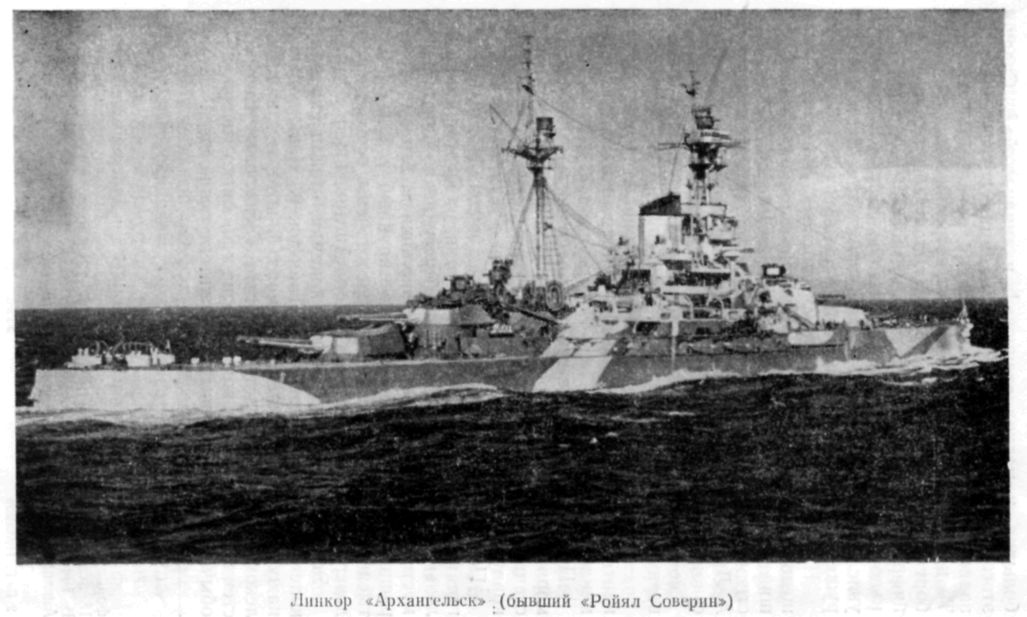 и мостика не было той стремительности, которая присуща кораблям
атакующего класса. Не впечатляло и артиллерийское вооружение: две пушки --
102-миллиметровая в носу и 76-миллиметровая в корме, четыре 20-миллиметровых
автомата "эрликон" и один (а не два, как обычно на эсминцах) трехтрубный
торпедный аппарат в средней части корабля. На баке был установлен
двадцатичетырехствольный противолодочный реактивный бомбомет "Хеджехог"
("Еж"), на корме -- два бортовых бомбомета и бомбосбрасыватели. Эсминец имел
две турбины "Парсонс" и четыре паровых котла "Торникрофт", обеспечивавшие
мощность 24 200 лошадиных сил и максимальный ход 26 узлов. Из новой техники
на нем были радар и гидроакустическая станция "Асдик". Самую же главную
"достопримечательность" корабля составляли четыре высокие цилиндрические
дымовые трубы.
Корпус эсминца при сравнительно большой длине (95 м) имел малую ширину
-- всего 9,3 м. Водоизмещение -- 1090 тонн1. Верхняя палуба была
в крайне запущенном состоянии, борта и надстройки во многих местах покрылись
ржавчиной.
Устроившись на новом "месте жительства", моряки разбрелись по кораблю
-- каждому хотелось получше рассмотреть свое "хозяйство". На ознакомление с
эсминцем много времени не потребовалось. Уже через полтора-два часа па
палубе и в кубриках шел оживленный обмен мнениями. Мы с Анатолием Лисовским
направились к группе краснофлотцев, расположившихся на юте. Еще издали
услышали голос старшего боц-,мана:
-- Это не боевой корабль, а "Севрюга" из кино
фильма "Волга-Волга".
Моряки дружно засмеялись. Потом кто-то запел:
-- А-ме-ри-ка Ра-ссии па-да-ри-ла па-ра-ход...
Снова взрыв смеха, ядовитые реплики...
Да, эсминец многим, как говорится, не приглянулся. Узнав о настроении
команды, Рябченко собрал офицеров:
-- Идите в кубрики и разъясните личному составу,
что корабль теперь будет наш. Все мы должны сами
привести в образцовое состояние, изучить механизмы
и мостика не было той стремительности, которая присуща кораблям
атакующего класса. Не впечатляло и артиллерийское вооружение: две пушки --
102-миллиметровая в носу и 76-миллиметровая в корме, четыре 20-миллиметровых
автомата "эрликон" и один (а не два, как обычно на эсминцах) трехтрубный
торпедный аппарат в средней части корабля. На баке был установлен
двадцатичетырехствольный противолодочный реактивный бомбомет "Хеджехог"
("Еж"), на корме -- два бортовых бомбомета и бомбосбрасыватели. Эсминец имел
две турбины "Парсонс" и четыре паровых котла "Торникрофт", обеспечивавшие
мощность 24 200 лошадиных сил и максимальный ход 26 узлов. Из новой техники
на нем были радар и гидроакустическая станция "Асдик". Самую же главную
"достопримечательность" корабля составляли четыре высокие цилиндрические
дымовые трубы.
Корпус эсминца при сравнительно большой длине (95 м) имел малую ширину
-- всего 9,3 м. Водоизмещение -- 1090 тонн1. Верхняя палуба была
в крайне запущенном состоянии, борта и надстройки во многих местах покрылись
ржавчиной.
Устроившись на новом "месте жительства", моряки разбрелись по кораблю
-- каждому хотелось получше рассмотреть свое "хозяйство". На ознакомление с
эсминцем много времени не потребовалось. Уже через полтора-два часа па
палубе и в кубриках шел оживленный обмен мнениями. Мы с Анатолием Лисовским
направились к группе краснофлотцев, расположившихся на юте. Еще издали
услышали голос старшего боц-,мана:
-- Это не боевой корабль, а "Севрюга" из кино
фильма "Волга-Волга".
Моряки дружно засмеялись. Потом кто-то запел:
-- А-ме-ри-ка Ра-ссии па-да-ри-ла па-ра-ход...
Снова взрыв смеха, ядовитые реплики...
Да, эсминец многим, как говорится, не приглянулся. Узнав о настроении
команды, Рябченко собрал офицеров:
-- Идите в кубрики и разъясните личному составу,
что корабль теперь будет наш. Все мы должны сами
привести в образцовое состояние, изучить механизмы
 Наши краснофлотцы и старшины, работая бок о бок с английскими рабочими,
постоянно устанавливали с ними дружеские контакты, помогали им продуктами,
делились табаком. Я не раз замечал, как рабочие, примостившись где-нибудь в
сторонке, ложкой, а то и пустой консервной банкой, черпали из бачка
принесенную краснофлотцами еду.
Не могли не вызвать улыбки неумелые попытки англичан свернуть цигарку
из махорки. Кое-как справившись с этим делом, они после первой же затяжки
начинали громко кашлять и чихать -- сказывалась многолетняя привычка к
слабым табакам. "Вери стронг!" '-- восклицали они.
Несмотря на языковой барьер, советские моряки и английские рабочие
хорошо понимали друг друга, а некоторые и подружились. Английским офицерам
это не правилось, так как многие из них были из привилегированных классов.
Один из командиров эсминцев владел большим парфюмерным магазином в Лондоне,
другой -- крупной скотоводческой фермой и Австралии.
Мы и раньше слышали, что в английском флоте существует кастовость, а
теперь имели возможность убедиться в этом сами. Командные должности занимают
там офицеры, относящиеся к так называемой белой кости"; все они, как
правило, выходцы из богатых семей. Те же. кто происходит из менее
обеспеченных слоев общества, -- "черная кость" -- довольствуются
Наши краснофлотцы и старшины, работая бок о бок с английскими рабочими,
постоянно устанавливали с ними дружеские контакты, помогали им продуктами,
делились табаком. Я не раз замечал, как рабочие, примостившись где-нибудь в
сторонке, ложкой, а то и пустой консервной банкой, черпали из бачка
принесенную краснофлотцами еду.
Не могли не вызвать улыбки неумелые попытки англичан свернуть цигарку
из махорки. Кое-как справившись с этим делом, они после первой же затяжки
начинали громко кашлять и чихать -- сказывалась многолетняя привычка к
слабым табакам. "Вери стронг!" '-- восклицали они.
Несмотря на языковой барьер, советские моряки и английские рабочие
хорошо понимали друг друга, а некоторые и подружились. Английским офицерам
это не правилось, так как многие из них были из привилегированных классов.
Один из командиров эсминцев владел большим парфюмерным магазином в Лондоне,
другой -- крупной скотоводческой фермой и Австралии.
Мы и раньше слышали, что в английском флоте существует кастовость, а
теперь имели возможность убедиться в этом сами. Командные должности занимают
там офицеры, относящиеся к так называемой белой кости"; все они, как
правило, выходцы из богатых семей. Те же. кто происходит из менее
обеспеченных слоев общества, -- "черная кость" -- довольствуются
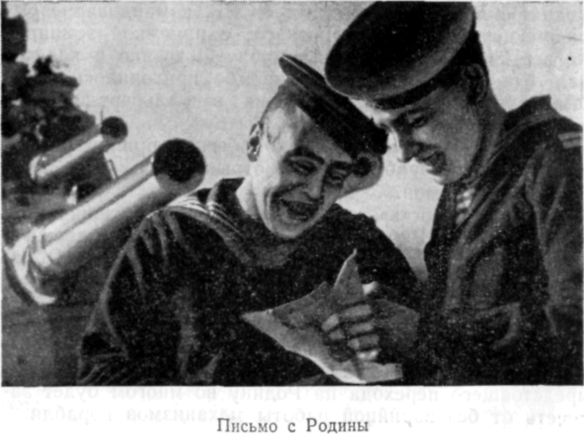
 Запомнился приезд контр-адмирала Харламова в Норт-Шилдс в начале июня.
В те дни вся Англия буквально бурлила -- высадился англоамериканский десант
на северо-западе Франции. Вокруг только и говорили, что об открытии второго
фронта. Нас, военных моряков, конечно, интересовали подробности этой
стратегической операции. Поэтому мы с особым вниманием слушали, так сказать,
из первых уст, сообщения контр-адмирала Харламова.
Николай Михайлович, участник крупнейшего в мировой истории десанта,
наблюдал за событиями с борта английского крейсера "Мавришес". Некоторые
цифры, характеризующие масштаб высадки, я тогда записал: в десантной
операции участвовало 6483 корабля и судна, а также 9600 самолетов.
Операция "Оверлорд" (кодовое название высадки десанта союзных войск во
Франции) долго и тщательно готовилась. Она началась, когда Красная Армия
вступила в Румынию и Венгрию, то есть тогда, когда поражение гитлеровской
Германии было уже предрешено.
О втором фронте после окончания войны написано много книг и монографий.
Иностранные авторы нередко преувеличивают значение высадки союзников во
Франции, пытаются убедить читателя в том, что без второго фронта победы над
Гитлером могло и не быть. Несомненно, операция союзников имела важное
значение, но советские люди хорошо знают, что прежде всего она преследовала
политические и военные цели, которые не имели ничего общего с задачами
оказания
Советскому Союзу помощи в его единоборстве с германским фашизмом.
Многие англичане искренне радовались открытию второго фронта и
рассматривали его как выполнение, хотя и запоздалое, союзнического долга
"перед Россией".
Приветствовали это событие не только англичане. Однажды в Саут-Шилдс к
стоявшим у причала эсминцам с шумом и гамом подошла группа возбужденных
французских моряков. Два матроса держали в руках мешки. В одном из них
оказались бананы, в другом -- обезьянка. Французский офицер взял в руки
обезьянку и, показывая на бананы, начал быстро и с жаром что-то говорить,
обращаясь к морякам "Достойного". Те не могли понять, чего хочет француз.
Подошел кинооператор Николай Большаков, знавший французский язык. Он
объяснил нам, что обезьянка -- это подарок в знак дружбы, а бананы -- еда
для нее.
Подарок приняли, французских моряков пригласили на корабль. В
кают-компании и в кубриках слышались оживленные голоса, смех, дружеские
рукопожатия.
А обезьянку позднее приучили есть свежую капусту, так как бананов
хватило ненадолго.
В те дни на улицах английских городов советские военные моряки
встречали особое дружелюбие и приветливость со стороны местного населения.
Много писем было получено от простых людей Англии. В них содержались
приветствия советским морякам, приглашения в гости. В Эдинбурге к
краснофлотцу Карна-уху подошел англичанин и сказал: "Вы спасли Англию от
гибели". Мы понимали, что симпатии и доброе отношение к нам свидетельствуют
о признании авторитета и могущества нашей социалистической Родины, ее
замечательных побед над немецко-фашистскими захватчиками. Все это обязывало
нас с еще большей ответственностью относиться к выполнению задания.
Партийно-политическая работа на корабле проводилась индивидуально, с
учетом обстановки: во время приема пищи, перекуров, непосредственно на
рабочих местах, у механизмов и орудий. Попытки собрать личный состав в
кубрик для беседы вызывали протест со стороны английского командования. Но
хоть мы и находились под английским флагом, наши экипажи жили по советским
нормам.
Запомнился приезд контр-адмирала Харламова в Норт-Шилдс в начале июня.
В те дни вся Англия буквально бурлила -- высадился англоамериканский десант
на северо-западе Франции. Вокруг только и говорили, что об открытии второго
фронта. Нас, военных моряков, конечно, интересовали подробности этой
стратегической операции. Поэтому мы с особым вниманием слушали, так сказать,
из первых уст, сообщения контр-адмирала Харламова.
Николай Михайлович, участник крупнейшего в мировой истории десанта,
наблюдал за событиями с борта английского крейсера "Мавришес". Некоторые
цифры, характеризующие масштаб высадки, я тогда записал: в десантной
операции участвовало 6483 корабля и судна, а также 9600 самолетов.
Операция "Оверлорд" (кодовое название высадки десанта союзных войск во
Франции) долго и тщательно готовилась. Она началась, когда Красная Армия
вступила в Румынию и Венгрию, то есть тогда, когда поражение гитлеровской
Германии было уже предрешено.
О втором фронте после окончания войны написано много книг и монографий.
Иностранные авторы нередко преувеличивают значение высадки союзников во
Франции, пытаются убедить читателя в том, что без второго фронта победы над
Гитлером могло и не быть. Несомненно, операция союзников имела важное
значение, но советские люди хорошо знают, что прежде всего она преследовала
политические и военные цели, которые не имели ничего общего с задачами
оказания
Советскому Союзу помощи в его единоборстве с германским фашизмом.
Многие англичане искренне радовались открытию второго фронта и
рассматривали его как выполнение, хотя и запоздалое, союзнического долга
"перед Россией".
Приветствовали это событие не только англичане. Однажды в Саут-Шилдс к
стоявшим у причала эсминцам с шумом и гамом подошла группа возбужденных
французских моряков. Два матроса держали в руках мешки. В одном из них
оказались бананы, в другом -- обезьянка. Французский офицер взял в руки
обезьянку и, показывая на бананы, начал быстро и с жаром что-то говорить,
обращаясь к морякам "Достойного". Те не могли понять, чего хочет француз.
Подошел кинооператор Николай Большаков, знавший французский язык. Он
объяснил нам, что обезьянка -- это подарок в знак дружбы, а бананы -- еда
для нее.
Подарок приняли, французских моряков пригласили на корабль. В
кают-компании и в кубриках слышались оживленные голоса, смех, дружеские
рукопожатия.
А обезьянку позднее приучили есть свежую капусту, так как бананов
хватило ненадолго.
В те дни на улицах английских городов советские военные моряки
встречали особое дружелюбие и приветливость со стороны местного населения.
Много писем было получено от простых людей Англии. В них содержались
приветствия советским морякам, приглашения в гости. В Эдинбурге к
краснофлотцу Карна-уху подошел англичанин и сказал: "Вы спасли Англию от
гибели". Мы понимали, что симпатии и доброе отношение к нам свидетельствуют
о признании авторитета и могущества нашей социалистической Родины, ее
замечательных побед над немецко-фашистскими захватчиками. Все это обязывало
нас с еще большей ответственностью относиться к выполнению задания.
Партийно-политическая работа на корабле проводилась индивидуально, с
учетом обстановки: во время приема пищи, перекуров, непосредственно на
рабочих местах, у механизмов и орудий. Попытки собрать личный состав в
кубрик для беседы вызывали протест со стороны английского командования. Но
хоть мы и находились под английским флагом, наши экипажи жили по советским
нормам.
 Наступило время обеда. Бачковые' выстроились у камбуза. Подошел и
английский матрос. Кок Василий Феофанов, приняв бачок от англичанина,
доверху наполнил его наваристыми щами. Увидев в бачке русскую еду,
англичанин недовольно поморщился и возвратился в кубрик, оставив бачок на
камбузе.
Отказ от приема пищи -- чрезвычайное происшествие. Старший лейтенант
Проничкин поручил переводчику уладить это недоразумение. Прибыв в кубрик,
Володя Журавлев объяснил матросам, что по решению английского старпома они
должны оставшиеся дни питаться вместе с советскими моряками. В ответ на его
слова один из матросов молча схватил свой бачок, побежал на камбуз, а
вернувшись, демонстративно выплеснул содержимое бачка в иллюминатор: дескать
есть не ел и приказание старпома выполнил.
Пошли брать обед трое остальных. Голод, как говорится, -- не тетка.
Распробовав русские щи, матросы охотно стали питаться из общего котла и
нередко просили добавки.
Помню, приходилось иногда встречаться с русскими эмигрантами, жившими в
Англии. Многие из них открыто выражали свою грусть, тоску по Родине,
интересовались, можно ли вернуться обратно и как это сделать. Встречи с ними
вызывали двоякое чувство: мы понимали, что в Англии им туго приходится, и
жалели их, но в то же время и осуждали за то, что когда-то они отреклись от
Родины.
Наш рабочий день был плотно забит. И все равно время тянулось медленно
и однообразно. Особенно грустно бывало по вечерам. В такие минуты чаще
вспоминались родные, близкие. Возникало желание расслабиться, тянуло
поговорить с друзьями "по душам". Частенько мы с Алексеем Прокопьевичем
Проничкнным заходили "на огонек" к Никольскому. В его просторной каюте за
чаем с английским джемом или ромом просиживали перед сном час-другой,
предаваясь воспоминаниям.
Наступило время обеда. Бачковые' выстроились у камбуза. Подошел и
английский матрос. Кок Василий Феофанов, приняв бачок от англичанина,
доверху наполнил его наваристыми щами. Увидев в бачке русскую еду,
англичанин недовольно поморщился и возвратился в кубрик, оставив бачок на
камбузе.
Отказ от приема пищи -- чрезвычайное происшествие. Старший лейтенант
Проничкин поручил переводчику уладить это недоразумение. Прибыв в кубрик,
Володя Журавлев объяснил матросам, что по решению английского старпома они
должны оставшиеся дни питаться вместе с советскими моряками. В ответ на его
слова один из матросов молча схватил свой бачок, побежал на камбуз, а
вернувшись, демонстративно выплеснул содержимое бачка в иллюминатор: дескать
есть не ел и приказание старпома выполнил.
Пошли брать обед трое остальных. Голод, как говорится, -- не тетка.
Распробовав русские щи, матросы охотно стали питаться из общего котла и
нередко просили добавки.
Помню, приходилось иногда встречаться с русскими эмигрантами, жившими в
Англии. Многие из них открыто выражали свою грусть, тоску по Родине,
интересовались, можно ли вернуться обратно и как это сделать. Встречи с ними
вызывали двоякое чувство: мы понимали, что в Англии им туго приходится, и
жалели их, но в то же время и осуждали за то, что когда-то они отреклись от
Родины.
Наш рабочий день был плотно забит. И все равно время тянулось медленно
и однообразно. Особенно грустно бывало по вечерам. В такие минуты чаще
вспоминались родные, близкие. Возникало желание расслабиться, тянуло
поговорить с друзьями "по душам". Частенько мы с Алексеем Прокопьевичем
Проничкнным заходили "на огонек" к Никольскому. В его просторной каюте за
чаем с английским джемом или ромом просиживали перед сном час-другой,
предаваясь воспоминаниям.
 флаг нашей Родины. После церемонии подъема флага состоялся праздничный
обед. Советские моряки с истинно русским радушием, теперь уже как
полновластные хозяева корабля, принимали английских гостей. Недостатка в
тостах не было. Один из них мне особенно запомнился. Его произнес англичанин
Лндикольт:
-- В колоколе "Ричмонда" я крестил младшую дочь. Это по английскому
преданию приносит счастье. Поднимаю тост за непотопляемость эсминца "Лаивли"
'.
Тост чиф-инженера всем понравился. Потом были тосты за разгром
германского фашизма, за послевоенную дружбу.
Мэр Ньюкасла (фамилию его я теперь не помню) после нескольких тостов
пришел в довольно "веселое" состояние. Кто-то из его соотечественников
пытался уговорить его больше не пить, на что мэр. улыбаясь добродушно,
ответил: "Мне нечего терять, кроме этой це-
1 Лапвли (англ.) -- живой. Англичане не могли выговорить
"Живучий", поэтому эсминец называли в английском переволе.
флаг нашей Родины. После церемонии подъема флага состоялся праздничный
обед. Советские моряки с истинно русским радушием, теперь уже как
полновластные хозяева корабля, принимали английских гостей. Недостатка в
тостах не было. Один из них мне особенно запомнился. Его произнес англичанин
Лндикольт:
-- В колоколе "Ричмонда" я крестил младшую дочь. Это по английскому
преданию приносит счастье. Поднимаю тост за непотопляемость эсминца "Лаивли"
'.
Тост чиф-инженера всем понравился. Потом были тосты за разгром
германского фашизма, за послевоенную дружбу.
Мэр Ньюкасла (фамилию его я теперь не помню) после нескольких тостов
пришел в довольно "веселое" состояние. Кто-то из его соотечественников
пытался уговорить его больше не пить, на что мэр. улыбаясь добродушно,
ответил: "Мне нечего терять, кроме этой це-
1 Лапвли (англ.) -- живой. Англичане не могли выговорить
"Живучий", поэтому эсминец называли в английском переволе.
 Пообщавшись с юными англичанами, мы продолжили поиски парка. Заметив
идущего навстречу пожилого мужчину, решили расспросить дорогу. Он
поинтересовался нашей национальностью. Узнав, что перед ним советские
моряки, англичанин очень обрадовался н стал быстро что-то говорить. Видя,
что его не понимают, показал билет члена коммунистической партии
Великобритании. Потом сказал, что на пятом (Лондонском) съезде РСДРП (б)
видел Владимира Ильича Ленина. По его оживленному виду, по блеску старческих
глаз мы поняли, как дорог этому англичанину образ вождя мирового
пролетариата.
Повернув в указанном стариком направлении, мы вскоре очутились у цели.
Действительно, парк оказался очень красивым, ухоженным. Аллеи были обрамлены
шаровидными декоративными кустами, деревья аккуратно "подстрижены". Много
цветов и зелени. Какой контраст со скудной природой Скапа-Флоу! Два часа
прошли незаметно.
Из Данди наши подводные лодки выходили поодиночке с суточным интервалом
и следовали самостоятельно в Кольский залив. Первой начала переход "В-1"
Пообщавшись с юными англичанами, мы продолжили поиски парка. Заметив
идущего навстречу пожилого мужчину, решили расспросить дорогу. Он
поинтересовался нашей национальностью. Узнав, что перед ним советские
моряки, англичанин очень обрадовался н стал быстро что-то говорить. Видя,
что его не понимают, показал билет члена коммунистической партии
Великобритании. Потом сказал, что на пятом (Лондонском) съезде РСДРП (б)
видел Владимира Ильича Ленина. По его оживленному виду, по блеску старческих
глаз мы поняли, как дорог этому англичанину образ вождя мирового
пролетариата.
Повернув в указанном стариком направлении, мы вскоре очутились у цели.
Действительно, парк оказался очень красивым, ухоженным. Аллеи были обрамлены
шаровидными декоративными кустами, деревья аккуратно "подстрижены". Много
цветов и зелени. Какой контраст со скудной природой Скапа-Флоу! Два часа
прошли незаметно.
Из Данди наши подводные лодки выходили поодиночке с суточным интервалом
и следовали самостоятельно в Кольский залив. Первой начала переход "В-1"
 пройдя под мостом в проливе Ферт-оф-Форт. Чтобы не задеть мост своими
высокими мачтами, линкор должен был пройти точно под средним пролетом.
Направить такую махину в эту узость да еще без буксиров решались не многие
англичане, а Вадим Иванович с первого же захода провел корабль под мостом с
ювелирной точностью.
Контр-адмирал Иванов не только умело управлял маневрами, но и в
совершенстве знал устройство механизмов и систем линейного корабля. Этого же
требовал и от своих подчиненных.
Успехи в выполнении задач боевой подготовки становились все более
заметными. Особенно отличились зенитчики.
При очередном выходе дивизиона на зенитную стрельбу на одном из
кораблей находился командующий Отрядом. Эсминцы выполнили задачу успешно --
буксируемый самолетом конус был весь изрешечен. А напоследок зенитчики
"Жесткого" угодили прямо в буксирный конец. Конус с обрывком стального троса
на глазах наших и английских моряков упал в воду.
пройдя под мостом в проливе Ферт-оф-Форт. Чтобы не задеть мост своими
высокими мачтами, линкор должен был пройти точно под средним пролетом.
Направить такую махину в эту узость да еще без буксиров решались не многие
англичане, а Вадим Иванович с первого же захода провел корабль под мостом с
ювелирной точностью.
Контр-адмирал Иванов не только умело управлял маневрами, но и в
совершенстве знал устройство механизмов и систем линейного корабля. Этого же
требовал и от своих подчиненных.
Успехи в выполнении задач боевой подготовки становились все более
заметными. Особенно отличились зенитчики.
При очередном выходе дивизиона на зенитную стрельбу на одном из
кораблей находился командующий Отрядом. Эсминцы выполнили задачу успешно --
буксируемый самолетом конус был весь изрешечен. А напоследок зенитчики
"Жесткого" угодили прямо в буксирный конец. Конус с обрывком стального троса
на глазах наших и английских моряков упал в воду.
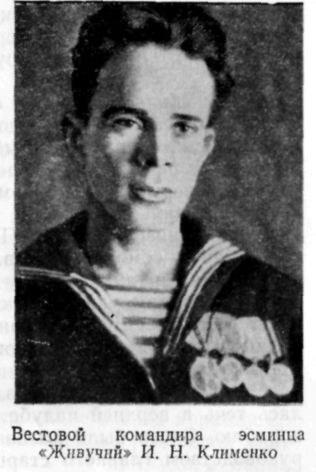 его и растеклась по палубе бурлящим потоком. Очередная волна настигла
уже у самой установки. Подождав, пока она откатит, Клименко молниеносно, в
два приема, сорвал с направляющих четыре опасные мины и выбросил их за борт
в пучину.
Снова набежала волна -- на мостике затаили дыхание. Прильнув к раме
установки и крепко обхватив ее руками, Клименко оставался на месте. В
направляющих находилось еще двадцать мин, вертушки которых тоже начали
срабатывать. Как с ними поступить? Цепляясь за раму левой рукой, Клименко
правой снимал оставшиеся мины и передавал их в руки подоспевшим комендорам
носовой пушки.
Промокшего до нитки и буквально окоченевшего товарища моряки на руках
внесли в кубрик. Опасность, нависшая над кораблем, была ликвидирована. Так
скромный воронежский парень Иван Клименко, первым в нашем экипаже совершил
подвиг. Ему потом была вручена награда -- медаль Ушакова.
Шторм нисколько не утихал. Волны, обрушиваясь на верхнюю палубу, с
грохотом ударяли в волнорез, надстройки и мостик. На руле стоял главный
боцман. Он с трудом удерживал корабль на курсе. Но вот Повто-рак увидел, как
на нос эсминца надвигается необычно крутая волна. Бывалого боцмана море
никогда не пугало, но тут даже он забеспокоился: отвернуть опасно, волна
может опрокинуть, ударив в борт.
Водяная глыба поглотила нос корабля. Я стоял на мостике и почувствовал,
как затряслось, затрещало подо мной. Мощным ударом разворотило переборку, и
волна, ворвавшись в рулевую рубку, сорвала нактоуз путевого компаса.
его и растеклась по палубе бурлящим потоком. Очередная волна настигла
уже у самой установки. Подождав, пока она откатит, Клименко молниеносно, в
два приема, сорвал с направляющих четыре опасные мины и выбросил их за борт
в пучину.
Снова набежала волна -- на мостике затаили дыхание. Прильнув к раме
установки и крепко обхватив ее руками, Клименко оставался на месте. В
направляющих находилось еще двадцать мин, вертушки которых тоже начали
срабатывать. Как с ними поступить? Цепляясь за раму левой рукой, Клименко
правой снимал оставшиеся мины и передавал их в руки подоспевшим комендорам
носовой пушки.
Промокшего до нитки и буквально окоченевшего товарища моряки на руках
внесли в кубрик. Опасность, нависшая над кораблем, была ликвидирована. Так
скромный воронежский парень Иван Клименко, первым в нашем экипаже совершил
подвиг. Ему потом была вручена награда -- медаль Ушакова.
Шторм нисколько не утихал. Волны, обрушиваясь на верхнюю палубу, с
грохотом ударяли в волнорез, надстройки и мостик. На руле стоял главный
боцман. Он с трудом удерживал корабль на курсе. Но вот Повто-рак увидел, как
на нос эсминца надвигается необычно крутая волна. Бывалого боцмана море
никогда не пугало, но тут даже он забеспокоился: отвернуть опасно, волна
может опрокинуть, ударив в борт.
Водяная глыба поглотила нос корабля. Я стоял на мостике и почувствовал,
как затряслось, затрещало подо мной. Мощным ударом разворотило переборку, и
волна, ворвавшись в рулевую рубку, сорвала нактоуз путевого компаса.
 была находиться лодка, с кормы и бортов обрушились па нее глубинные
бомбы. Позади "Жгучего" во вспененной воде появились какие-то небольшие
предметы и масляное пятно. Рассматривать их было некогда. Ясно одно: еще
одна вражеская субмарина выведена из строя.
В течение дня гитлеровские подводные лодки 15 раз пытались атаковать
наши корабли с разных направлении. "Жгучий", "Достойный", "Живучий",
"Дерзкий" и "Жаркий" по нескольку раз выходили в контратаки. Две из них,
проведенные эсминцами "Достойный" и "Жгучий", оказались успешными. Вражеские
лодки получили повреждения.
Заканчивался последний день перехода. Корабли находились уже в
операционной зоне Северного флота. Вторые сутки нас прикрывала североморская
авиация. Штаб флота непрерывно передавал по радио необходимую информацию.
Радиоразведка сообщала о восьми вражеских подводных лодках и семи плавающих
минах, обнаруженных в полосе движения Отряда.
В сумерках сигнальщик "Живучего" Василий Мука-сеев обнаружил вражеский
самолет, который вскоре скрылся из видимости.
была находиться лодка, с кормы и бортов обрушились па нее глубинные
бомбы. Позади "Жгучего" во вспененной воде появились какие-то небольшие
предметы и масляное пятно. Рассматривать их было некогда. Ясно одно: еще
одна вражеская субмарина выведена из строя.
В течение дня гитлеровские подводные лодки 15 раз пытались атаковать
наши корабли с разных направлении. "Жгучий", "Достойный", "Живучий",
"Дерзкий" и "Жаркий" по нескольку раз выходили в контратаки. Две из них,
проведенные эсминцами "Достойный" и "Жгучий", оказались успешными. Вражеские
лодки получили повреждения.
Заканчивался последний день перехода. Корабли находились уже в
операционной зоне Северного флота. Вторые сутки нас прикрывала североморская
авиация. Штаб флота непрерывно передавал по радио необходимую информацию.
Радиоразведка сообщала о восьми вражеских подводных лодках и семи плавающих
минах, обнаруженных в полосе движения Отряда.
В сумерках сигнальщик "Живучего" Василий Мука-сеев обнаружил вражеский
самолет, который вскоре скрылся из видимости.
 Наступило время сна, однако спать не хотелось: через несколько часов
откроются родные берега, а ночи здесь и в августе светлые.
Когда корабли вошли в Кольский залив, их встретил катер, на котором
находились начальник Главного морского штаба вице-адмирал В. А. Алафузов,
член Военного совета флота вице-адмирал А. А. Николаев и начальник штаба
Северного флота контр-адмирал В. И. Платонов. Приблизившись к Отряду, катер
круто развернулся, встал в голову строя и пошел вместе с нами по заливу.
Рано утром 24 августа корабли стали на якорь на рейде Ваенги. Итак,
покрыв около двух тысяч миль, выдержав жестокий шторм, отразив атаки
гитлеровских подводных лодок (всего за время перехода таких атак было 62),
мы благополучно прибыли на Родину. Одна подводная лодка была потоплена, трем
нанесены серьезные повреждения.
85
Хвастливые заявления гитлеровцев о том, что они потопят принятые нами в
Англии корабли, когда те будут идти в Мурманск, не осуществились. Более
того, немцы сами понесли ощутимые потери. Но, фактам вопреки, даже много лет
спустя западногерманские историки не хотят мириться с этим. Вот что пишется
в одной из публикаций:
"Утром 23 августа прибывшая из Карского моря подводная лодка "U-711"
(капитан-лейтенант Ланге) атаковала и, как предполагают, достигла попаданий
в линкор "Архангельск" и в один эсминец типа "Жаркий" (до сих пор не
подтверждено)"1.
Да это и не может подтвердиться. Западногерманским историкам должно
быть известно, что в 1947 году линкор "Архангельск" и эсминцы без боевых
повреждений, в целости и сохранности были возвращены Великобритании (за
исключением эсминца "Деятельный", погибшего в 1945 году).
В тот же день, когда корабли пришли в Кольский залив, И. В. Сталин
направил У. Черчиллю телеграмму: "Сегодня, 24 августа, утром благополучно
прибыла из Англии в известный Вам советский порт эскадра в составе одного
линкора и восьми миноносцев, переданных Советскому Союзу
Великобританией"2.
После четырехмесячного пребывания за границей благополучное возвращение
на Родину у многих моряков вызвало слезы радости. Очень хотелось пройтись по
родной русской земле, прильнуть к ней и целовать голые камни прибрежных
сопок...
Наступило время сна, однако спать не хотелось: через несколько часов
откроются родные берега, а ночи здесь и в августе светлые.
Когда корабли вошли в Кольский залив, их встретил катер, на котором
находились начальник Главного морского штаба вице-адмирал В. А. Алафузов,
член Военного совета флота вице-адмирал А. А. Николаев и начальник штаба
Северного флота контр-адмирал В. И. Платонов. Приблизившись к Отряду, катер
круто развернулся, встал в голову строя и пошел вместе с нами по заливу.
Рано утром 24 августа корабли стали на якорь на рейде Ваенги. Итак,
покрыв около двух тысяч миль, выдержав жестокий шторм, отразив атаки
гитлеровских подводных лодок (всего за время перехода таких атак было 62),
мы благополучно прибыли на Родину. Одна подводная лодка была потоплена, трем
нанесены серьезные повреждения.
85
Хвастливые заявления гитлеровцев о том, что они потопят принятые нами в
Англии корабли, когда те будут идти в Мурманск, не осуществились. Более
того, немцы сами понесли ощутимые потери. Но, фактам вопреки, даже много лет
спустя западногерманские историки не хотят мириться с этим. Вот что пишется
в одной из публикаций:
"Утром 23 августа прибывшая из Карского моря подводная лодка "U-711"
(капитан-лейтенант Ланге) атаковала и, как предполагают, достигла попаданий
в линкор "Архангельск" и в один эсминец типа "Жаркий" (до сих пор не
подтверждено)"1.
Да это и не может подтвердиться. Западногерманским историкам должно
быть известно, что в 1947 году линкор "Архангельск" и эсминцы без боевых
повреждений, в целости и сохранности были возвращены Великобритании (за
исключением эсминца "Деятельный", погибшего в 1945 году).
В тот же день, когда корабли пришли в Кольский залив, И. В. Сталин
направил У. Черчиллю телеграмму: "Сегодня, 24 августа, утром благополучно
прибыла из Англии в известный Вам советский порт эскадра в составе одного
линкора и восьми миноносцев, переданных Советскому Союзу
Великобританией"2.
После четырехмесячного пребывания за границей благополучное возвращение
на Родину у многих моряков вызвало слезы радости. Очень хотелось пройтись по
родной русской земле, прильнуть к ней и целовать голые камни прибрежных
сопок...
 Член Военного совета тепло поздравил моряков с успешным выполнением
задания по приему и переводу кораблей, поблагодарил за проделанную работу.
Затем он сказал о стоящих перед флотом задачах и коротко охарактеризовал
наши:
-- Гитлеровцы в последнее время начали подтяги
вать подводные лодки с западных районов к нам на
Север, чтобы нарушить судоходство в этом районе. За
дача эсминцев -- сорвать замысел врага.
Вице-адмирал А. А. Николаев и его спутники беседовали с командирами
кораблей и личным составом. Эти беседы отличались простотой и
непринужденностью.
В первый же день после нашего прибытия из Англии, каждому хотелось
послать весточку родным н близким. Улучив момент, мы с минером Василием
Ла-риошиным отправились на почту.
-- Я пошлю сразу четыре телеграммы, а ты? --
спросил Василий.
Из трубы соседнего с почтой дома валил сизый дымок.
-- И дым отечества нам сладок п приятен! -- про
декламировал Лариошин, открывая дверь в почтовую
контору. Настроение у нас было приподнятое. Взяв те-
Член Военного совета тепло поздравил моряков с успешным выполнением
задания по приему и переводу кораблей, поблагодарил за проделанную работу.
Затем он сказал о стоящих перед флотом задачах и коротко охарактеризовал
наши:
-- Гитлеровцы в последнее время начали подтяги
вать подводные лодки с западных районов к нам на
Север, чтобы нарушить судоходство в этом районе. За
дача эсминцев -- сорвать замысел врага.
Вице-адмирал А. А. Николаев и его спутники беседовали с командирами
кораблей и личным составом. Эти беседы отличались простотой и
непринужденностью.
В первый же день после нашего прибытия из Англии, каждому хотелось
послать весточку родным н близким. Улучив момент, мы с минером Василием
Ла-риошиным отправились на почту.
-- Я пошлю сразу четыре телеграммы, а ты? --
спросил Василий.
Из трубы соседнего с почтой дома валил сизый дымок.
-- И дым отечества нам сладок п приятен! -- про
декламировал Лариошин, открывая дверь в почтовую
контору. Настроение у нас было приподнятое. Взяв те-
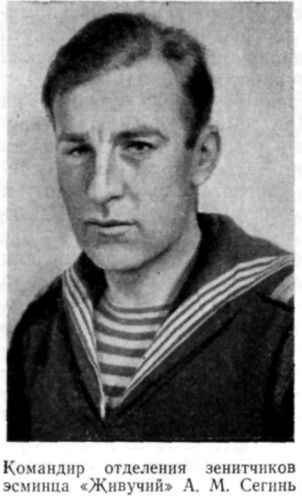 призвал комендоров и автоматчиков в совершенстве изучить оружие и умело
использовать его в бою. Он рассказал об опыте автоматчика Якова Сычева.
Слабым местом у "эрликонов" была боевая пружина -- она часто выходила из
строя. Сычев научился заменять боевую пружину автомата, не вынимая ствола.
Так же ловко он управлялся и с боевыми тягами. Эти нововведения значительно
упростили обслуживание автомата. Дельные предложения внесли также
комсомольцы Овчаренко и Балакин. Ремонт начался. На корабль прибыли рабо-
чие-судоремонтники. Однако многое нам предстояло сделать своими руками,
чтобы корабль как можно быстрее мог начать боевую деятельность.
В начале сентября был объявлен приказ о сформировании эскадры Северного
флота в составе линкора "Архангельск" (контр-адмирал В. И. Иванов), крейсера
"Мурманск" (капитан 1-го ранга А. И. Зубков) и трех дивизионов эскадренных
миноносцев. В 1-й днвн-зион эсминцев (капитан 1-го ранга А. И. Гурин)
входили лидер "Баку", гвардейский эсминец "Гремящий", эсминцы "Громкий",
"Грозный", "Разумный" и "Разъяренный". В составе 2-го дивизиона (капитан
2-го ранга М. Д. Осадчий) были эсминцы "Жаркий", "Живучий", "Жесткий",
"Жгучий", "Дерзкий" и "Доблестный". 3-й дивизион (капитан 2-го ранга Е. М.
Крашенинников) включал Краснознаменный эсминец "Валериан Куйбышев", эсминцы
"Карл Либкнехт", "Урицкий", "Достойный" и "Деятельный". Чуть позднее в него
вошел и эсминец "Дружный".
призвал комендоров и автоматчиков в совершенстве изучить оружие и умело
использовать его в бою. Он рассказал об опыте автоматчика Якова Сычева.
Слабым местом у "эрликонов" была боевая пружина -- она часто выходила из
строя. Сычев научился заменять боевую пружину автомата, не вынимая ствола.
Так же ловко он управлялся и с боевыми тягами. Эти нововведения значительно
упростили обслуживание автомата. Дельные предложения внесли также
комсомольцы Овчаренко и Балакин. Ремонт начался. На корабль прибыли рабо-
чие-судоремонтники. Однако многое нам предстояло сделать своими руками,
чтобы корабль как можно быстрее мог начать боевую деятельность.
В начале сентября был объявлен приказ о сформировании эскадры Северного
флота в составе линкора "Архангельск" (контр-адмирал В. И. Иванов), крейсера
"Мурманск" (капитан 1-го ранга А. И. Зубков) и трех дивизионов эскадренных
миноносцев. В 1-й днвн-зион эсминцев (капитан 1-го ранга А. И. Гурин)
входили лидер "Баку", гвардейский эсминец "Гремящий", эсминцы "Громкий",
"Грозный", "Разумный" и "Разъяренный". В составе 2-го дивизиона (капитан
2-го ранга М. Д. Осадчий) были эсминцы "Жаркий", "Живучий", "Жесткий",
"Жгучий", "Дерзкий" и "Доблестный". 3-й дивизион (капитан 2-го ранга Е. М.
Крашенинников) включал Краснознаменный эсминец "Валериан Куйбышев", эсминцы
"Карл Либкнехт", "Урицкий", "Достойный" и "Деятельный". Чуть позднее в него
вошел и эсминец "Дружный".
 Командующим эскадрой был назначен капитан 1-го ранга В. А. Фокин
(вскоре после этого ему было присвоено звание контр-адмирала). Начальником
штаба --• капитан 1-го ранга А. М. Румянцев, начальником политотдела --
капитан 1-го ранга Н. П. За-рембо.
Наш "Живучий" входил в состав 2-го дивизиона, которым командовал
капитан 2-го ранга М. Д. Осадчий. Прежде он был командиром "Жаркого", а еще
раньше -- в начале войны -- командиром эсминца "Славный", участвовал на нем
в знаменитом Таллинском прорыве (август 1941 г.).
Соотношение сил на Северном морском театре военных действий к этому
времени изменилось в нашу пользу. Теперь командование флотом ставило перед
надводными кораблями более сложные и ответственные, чем прежде, задачи.
Пока "Живучий" стоял в ремонте, часть членов экипажа была переведена на
другие корабли, находившиеся в строю. На смену убывшим пришли молодые
моряки. Произошли изменения и в офицерском составе. На новое место службы
ушел командир боевой части наблюдения и связи лейтенант Уланов. Его сменил
старший лейтенант Васильев, служивший ранее на кораблях морской пограничной
охраны.
Вслед за Улановым с корабля откомандировали старшего лейтенанта
медицинской службы Морозенко. Он получил назначение в Печенгу. На его место
был назначен младший лейтенант медицинской службы Щедролосев. На лидер
"Баку" убыл лейтенант Ларио-шин. Вместо него прибыл лейтенант Мотиенко.
Обновление экипажа не могло не сказаться на уровне профессиональной
подготовки старшин и краснофлотцев. Еще во время ремонтных работ выяснилось,
что некоторые из вновь прибывших нечетко представляют себе взаимодействие
деталей отдельных узлов и блоков корабельных механизмов, не всегда умеют
найти неисправность и устранить ее. На помощь новичкам пришли опытные
моряки, принимавшие и "обживавшие" корабль. Опять широко развернулась учеба.
Наибольшее внимание уделялось отработке задач непосредственно на боевых
постах, у действующих механизмов. Каждый специалист под наблюдением
командира самостоятельно запускал механизмы, управлял ими по командам,
останавливал. Лучше всех получалось у Фс-дорченко, Семенова и Карпова.
Артиллеристы практиковали проведение семинаров по обмену опытом. На
этих семинарах передовые комсомольцы Сегинь, Сычев, Овчаренко, Балакин и
другие делились с новичками своими знаниями, помогали краснофлотцам освоить
сложную технику, и это давало хорошие результаты. Даже самый молодой
краснофлотец Петр Пруткогляд вскоре начал самостоятельно нести вахту у
одного из механизмов. Этого симпатичного юношу с застенчивой девичьей
улыбкой все называли просто Петей. Он был вестовым у Никольского.
Командующим эскадрой был назначен капитан 1-го ранга В. А. Фокин
(вскоре после этого ему было присвоено звание контр-адмирала). Начальником
штаба --• капитан 1-го ранга А. М. Румянцев, начальником политотдела --
капитан 1-го ранга Н. П. За-рембо.
Наш "Живучий" входил в состав 2-го дивизиона, которым командовал
капитан 2-го ранга М. Д. Осадчий. Прежде он был командиром "Жаркого", а еще
раньше -- в начале войны -- командиром эсминца "Славный", участвовал на нем
в знаменитом Таллинском прорыве (август 1941 г.).
Соотношение сил на Северном морском театре военных действий к этому
времени изменилось в нашу пользу. Теперь командование флотом ставило перед
надводными кораблями более сложные и ответственные, чем прежде, задачи.
Пока "Живучий" стоял в ремонте, часть членов экипажа была переведена на
другие корабли, находившиеся в строю. На смену убывшим пришли молодые
моряки. Произошли изменения и в офицерском составе. На новое место службы
ушел командир боевой части наблюдения и связи лейтенант Уланов. Его сменил
старший лейтенант Васильев, служивший ранее на кораблях морской пограничной
охраны.
Вслед за Улановым с корабля откомандировали старшего лейтенанта
медицинской службы Морозенко. Он получил назначение в Печенгу. На его место
был назначен младший лейтенант медицинской службы Щедролосев. На лидер
"Баку" убыл лейтенант Ларио-шин. Вместо него прибыл лейтенант Мотиенко.
Обновление экипажа не могло не сказаться на уровне профессиональной
подготовки старшин и краснофлотцев. Еще во время ремонтных работ выяснилось,
что некоторые из вновь прибывших нечетко представляют себе взаимодействие
деталей отдельных узлов и блоков корабельных механизмов, не всегда умеют
найти неисправность и устранить ее. На помощь новичкам пришли опытные
моряки, принимавшие и "обживавшие" корабль. Опять широко развернулась учеба.
Наибольшее внимание уделялось отработке задач непосредственно на боевых
постах, у действующих механизмов. Каждый специалист под наблюдением
командира самостоятельно запускал механизмы, управлял ими по командам,
останавливал. Лучше всех получалось у Фс-дорченко, Семенова и Карпова.
Артиллеристы практиковали проведение семинаров по обмену опытом. На
этих семинарах передовые комсомольцы Сегинь, Сычев, Овчаренко, Балакин и
другие делились с новичками своими знаниями, помогали краснофлотцам освоить
сложную технику, и это давало хорошие результаты. Даже самый молодой
краснофлотец Петр Пруткогляд вскоре начал самостоятельно нести вахту у
одного из механизмов. Этого симпатичного юношу с застенчивой девичьей
улыбкой все называли просто Петей. Он был вестовым у Никольского.
 Свободного времени
почти не оставалось. На
берег сходили редко. По
этому каждое даже са
мое короткое увольнение
запоминалось надолго.
Было начало сентября.
На севере в эту пору уже
по-осеннему прохладно.
Но все равно мы с удо
вольствием бродили по
каменистым сопкам,
отыскивая похожие на черный виноград ягоды голубики, яркие бусинки
брусники. Любовались живописными маленькими озерками, встречавшимися едва ли
не на каждом шагу. В них как в зеркале отражались редкие облака, летящие на
юг. Своеобразная красота северной природы размягчала нас, навевала мысли о
доме, об отдыхе.
Хорошо бы сейчас на недельку в отпуск, -- взды
хал Никольский.
А кто будет ремонтом заниматься? -- язвил Про-
ничкин.
И все же наши мечты о встрече с родными, о побывке не были
беспочвенными. Командование сочло возможным, пока корабль стоит в ремонте,
предоставить отпуск нескольким офицерам, старшинам и краснофлотцам.
Первым выехал Проничкин. Он получил из дома печальное известие -- после
болезни умерла в Ульяновске его маленькая дочурка. Жена Ольга Федоровна
тяжело переживала эту утрату. Поддержка мужа была просто необходима.
Николай Иванович Никольский направился в Архангельск, где тогда
находились его жена с дочерью. Через несколько дней отпустили и меня к
родителям в Курскую область, в небольшой старинный городок Льгов. До Москвы
добрался без затруднений, зато с
Свободного времени
почти не оставалось. На
берег сходили редко. По
этому каждое даже са
мое короткое увольнение
запоминалось надолго.
Было начало сентября.
На севере в эту пору уже
по-осеннему прохладно.
Но все равно мы с удо
вольствием бродили по
каменистым сопкам,
отыскивая похожие на черный виноград ягоды голубики, яркие бусинки
брусники. Любовались живописными маленькими озерками, встречавшимися едва ли
не на каждом шагу. В них как в зеркале отражались редкие облака, летящие на
юг. Своеобразная красота северной природы размягчала нас, навевала мысли о
доме, об отдыхе.
Хорошо бы сейчас на недельку в отпуск, -- взды
хал Никольский.
А кто будет ремонтом заниматься? -- язвил Про-
ничкин.
И все же наши мечты о встрече с родными, о побывке не были
беспочвенными. Командование сочло возможным, пока корабль стоит в ремонте,
предоставить отпуск нескольким офицерам, старшинам и краснофлотцам.
Первым выехал Проничкин. Он получил из дома печальное известие -- после
болезни умерла в Ульяновске его маленькая дочурка. Жена Ольга Федоровна
тяжело переживала эту утрату. Поддержка мужа была просто необходима.
Николай Иванович Никольский направился в Архангельск, где тогда
находились его жена с дочерью. Через несколько дней отпустили и меня к
родителям в Курскую область, в небольшой старинный городок Льгов. До Москвы
добрался без затруднений, зато с
 было выполнено на восьми эсминцах, но всего за три недели, остававшиеся
до выхода очередного арктического конвоя. Эту задачу назначенным в экипаж
людям пришлось решать самостоятельно: Отряд кораблей ВМФ покинул Англию.
Ввиду того что принимался не боевой корабль, а запасные части, а также из-за
нехватки людей, в состав экипажа включили всего 63 человека, то есть в два
раза меньше, чем положено по штатному расписанию.
Поздним вечером 16 августа, накануне выхода линкора "Архангельск" из
Скапа-Флоу, в каюте флагмана обсуждались кандидатуры командира и заместителя
по политчасти на девятый эсминец. Капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо предложил
назначить замполитом начальника агитпропчасти политотдела Отряда капитана
3-го ранга Н. В. Матковского.
-- У него солидный боевой опыт по службе на Черноморском флоте, в
Азовской и Волжской флотилиях, большая практика партийно-политической
работы. Перед войной Матковский защитил диссертацию, стал кандидатом
исторических наук, -- сказал начальник политотдела. -- Пожалуй, это самая
подходящая кандидатура.
Вице-адмирал Г. И. Левченко и капитан 1-го ранга В. А. Фокин одобрили
это предложение.
--• Николай Васильевич, как вы смотрите, если мы оставим вас еще
на некоторое время в Англии? -- спросил Зарембо у Матковского, вызванного в
салон командующего Отрядом. -- Предлагаю вас замполитом на эсминец,
предназначенный на запасные части. Задача очень ответственная, решать ее
придется самостоятельно и в короткий срок. В экипаже половина коммунистов,
было выполнено на восьми эсминцах, но всего за три недели, остававшиеся
до выхода очередного арктического конвоя. Эту задачу назначенным в экипаж
людям пришлось решать самостоятельно: Отряд кораблей ВМФ покинул Англию.
Ввиду того что принимался не боевой корабль, а запасные части, а также из-за
нехватки людей, в состав экипажа включили всего 63 человека, то есть в два
раза меньше, чем положено по штатному расписанию.
Поздним вечером 16 августа, накануне выхода линкора "Архангельск" из
Скапа-Флоу, в каюте флагмана обсуждались кандидатуры командира и заместителя
по политчасти на девятый эсминец. Капитан 1-го ранга Н. П. Зарембо предложил
назначить замполитом начальника агитпропчасти политотдела Отряда капитана
3-го ранга Н. В. Матковского.
-- У него солидный боевой опыт по службе на Черноморском флоте, в
Азовской и Волжской флотилиях, большая практика партийно-политической
работы. Перед войной Матковский защитил диссертацию, стал кандидатом
исторических наук, -- сказал начальник политотдела. -- Пожалуй, это самая
подходящая кандидатура.
Вице-адмирал Г. И. Левченко и капитан 1-го ранга В. А. Фокин одобрили
это предложение.
--• Николай Васильевич, как вы смотрите, если мы оставим вас еще
на некоторое время в Англии? -- спросил Зарембо у Матковского, вызванного в
салон командующего Отрядом. -- Предлагаю вас замполитом на эсминец,
предназначенный на запасные части. Задача очень ответственная, решать ее
придется самостоятельно и в короткий срок. В экипаже половина коммунистов,
 Пастухов знал, что на замполита можно положиться, что он не только
хороший политработник, но и опытный моряк, что еще в 1932 году комсомолец
Матков-ский плавал вторым помощником капитана на теплоходе "Пионер", нес
вахту на ходовом мостике, не раз штормовал на Иссык-Куле. Командир был
уверен: в трудную минуту замполит сможет помочь не только словом, но и
делом.
-- Добро, -- удовлетворенно произнес Пастухов. -- Только пусть вас
хорошо задраят снаружи.
Предусмотрел командир и другие меры на случай аварии. Корабль все
больше зарывался носом, оголяя винты. Усилилась вибрация корпуса, а ход
уменьшать было нельзя. Отстать от конвоя -- значило стать мишенью для
гитлеровской подводной лодки...
Положение корабля становилось критическим. Однако командир своими
уверенными действиями, спокойствием задавал тон, все члены экипажа работали
четко, проявляя исключительную выносливость и мужество.
На меридиане Медвежьего начались атаки гитлеровских подводных лодок.
Взрывы глубинных бомб раздавались трое суток, пока конвои не вошел в
Кольский залив. Проникнуть внутрь охранения врагу так и не удалось.
Еще в Баренцевом море попали в полосу тумана. "Запчастям" пришлось
труднее всех: англичане сняли с корабля радиолокацию, и советские моряки
должны были проявить максимум бдительности, высокую морскую выучку, чтобы
избежать столкновения с другими судами. Грозила опасность и от плавающих
мин. Ветре-
102
ча с одной из них на подходах к Кольскому заливу едва не оказалась
роковой. Всего в нескольких метрах от борта заметил ее впередсмотрящий.
Резким отворотом вправо А. Е. Пастухову удалось избежать столкновения и
спасти эсминец от подрыва.
-- В годы войны мне приходилось попадать в раз
ные переделки, но этот переход на "запасных частях"
остался в памяти на всю жизнь, -- вспоминал Алек
сандр Евгеньевич Пастухов. -- Высокий патриотизм
и самоотверженность были характерны, конечно, не
только для нашего экипажа. Замечательные люди слу
жили и на других кораблях Северного флота. Но зада
чи, выпавшие на нашу долю, были необычными. Это по
нимал каждый член команды, и моряки делали подчас
невозможное в тех условиях.
Александр Евгеньевич скромно умолчал о том, что сам он весь переход не
сходил с мостика и экипаж это видел. Вера в командира на корабле очень много
значит. Немаловажен здесь и характер взаимоотношений командира с офицерами,
с личным составом. Особой, пожалуй, деловитостью и глубокой партийностью
отличались на эсминце отношения командира корабля и его заместителя по
политчасти. Они умело дополняли друг друга, понимали друг друга с полуслова
и во всем были единодушны.
С приходом эсминца, командующий эскадрой контрадмирал В. А. Фокин,
поздравляя личный состав с успешным выполнением задания, сказал:
-- Учитывая, что сложную задачу в такой короткий
срок мог выполнить только сплоченный И дружный кол
лектив, вашему кораблю командующий флотом решил
присвоить наименование -- "Дружный". В ответ на
слова адмирала раздалось громкое матросское "Ура!".
В начале октября вышел из ремонта эсминец "Доблестный", а за ним и наш
"Живучий". Настроение у всех было приподнятое -- североморцы, помогая
Красной Армии, громили немецких оккупантов на море и на суше. Теперь в
боевую сферу включались еще два наших корабля.
15 октября Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224
орудий войскам Карельского фронта и морякам Северного флота, освободившим
Пе-ченгу (Петсамо). В тот день эсминец "Живучий",
Пастухов знал, что на замполита можно положиться, что он не только
хороший политработник, но и опытный моряк, что еще в 1932 году комсомолец
Матков-ский плавал вторым помощником капитана на теплоходе "Пионер", нес
вахту на ходовом мостике, не раз штормовал на Иссык-Куле. Командир был
уверен: в трудную минуту замполит сможет помочь не только словом, но и
делом.
-- Добро, -- удовлетворенно произнес Пастухов. -- Только пусть вас
хорошо задраят снаружи.
Предусмотрел командир и другие меры на случай аварии. Корабль все
больше зарывался носом, оголяя винты. Усилилась вибрация корпуса, а ход
уменьшать было нельзя. Отстать от конвоя -- значило стать мишенью для
гитлеровской подводной лодки...
Положение корабля становилось критическим. Однако командир своими
уверенными действиями, спокойствием задавал тон, все члены экипажа работали
четко, проявляя исключительную выносливость и мужество.
На меридиане Медвежьего начались атаки гитлеровских подводных лодок.
Взрывы глубинных бомб раздавались трое суток, пока конвои не вошел в
Кольский залив. Проникнуть внутрь охранения врагу так и не удалось.
Еще в Баренцевом море попали в полосу тумана. "Запчастям" пришлось
труднее всех: англичане сняли с корабля радиолокацию, и советские моряки
должны были проявить максимум бдительности, высокую морскую выучку, чтобы
избежать столкновения с другими судами. Грозила опасность и от плавающих
мин. Ветре-
102
ча с одной из них на подходах к Кольскому заливу едва не оказалась
роковой. Всего в нескольких метрах от борта заметил ее впередсмотрящий.
Резким отворотом вправо А. Е. Пастухову удалось избежать столкновения и
спасти эсминец от подрыва.
-- В годы войны мне приходилось попадать в раз
ные переделки, но этот переход на "запасных частях"
остался в памяти на всю жизнь, -- вспоминал Алек
сандр Евгеньевич Пастухов. -- Высокий патриотизм
и самоотверженность были характерны, конечно, не
только для нашего экипажа. Замечательные люди слу
жили и на других кораблях Северного флота. Но зада
чи, выпавшие на нашу долю, были необычными. Это по
нимал каждый член команды, и моряки делали подчас
невозможное в тех условиях.
Александр Евгеньевич скромно умолчал о том, что сам он весь переход не
сходил с мостика и экипаж это видел. Вера в командира на корабле очень много
значит. Немаловажен здесь и характер взаимоотношений командира с офицерами,
с личным составом. Особой, пожалуй, деловитостью и глубокой партийностью
отличались на эсминце отношения командира корабля и его заместителя по
политчасти. Они умело дополняли друг друга, понимали друг друга с полуслова
и во всем были единодушны.
С приходом эсминца, командующий эскадрой контрадмирал В. А. Фокин,
поздравляя личный состав с успешным выполнением задания, сказал:
-- Учитывая, что сложную задачу в такой короткий
срок мог выполнить только сплоченный И дружный кол
лектив, вашему кораблю командующий флотом решил
присвоить наименование -- "Дружный". В ответ на
слова адмирала раздалось громкое матросское "Ура!".
В начале октября вышел из ремонта эсминец "Доблестный", а за ним и наш
"Живучий". Настроение у всех было приподнятое -- североморцы, помогая
Красной Армии, громили немецких оккупантов на море и на суше. Теперь в
боевую сферу включались еще два наших корабля.
15 октября Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224
орудий войскам Карельского фронта и морякам Северного флота, освободившим
Пе-ченгу (Петсамо). В тот день эсминец "Живучий",
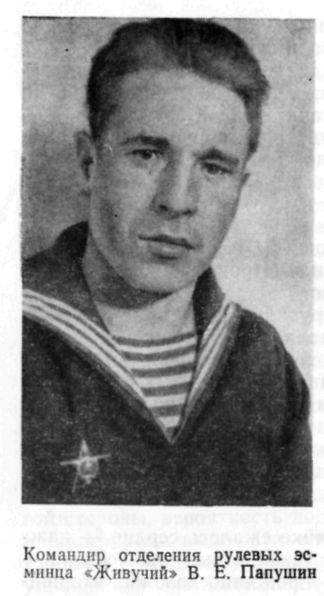 В один "прекрасный" момент комдив тральщиков Панфилов просемафорил:
"Тралы все перебиты, следуйте самостоятельно". К получению такой вводной мы
не были готовы. Корабельный устав на этот счет предусматривает: при
неясности обстановки застопорить машины, осмотреться, а потом принять
решение. Рябченко слегка нахмурился и перешел на правое крыло мостика.
Что будем делать
,
штурман?
По Морскому еже
годнику в этот час здесь
наибольший
прилив.
Осадка у нас небольшая,
если поторопимся, то мо
жем проскочить, -- вы
сказал свои соображения
Гончаров.
-- Средний вперед! -- последовала команда.
Как только машины дали ход, носовой и кормовой аварийным партиям была
объявлена готовность номер один, а личному составу приказано надеть
спасательные пояса. На мостике все притихли, лица стали жестче,
сосредоточеннее. Моряки, свободные от вахт, находились на верхней палубе --
при взрыве здесь менее опасно.
Сложность н опасность ситуации усугублялась тем, что вокруг не было
никаких навигационных ограждений и огней. Немцы при отступлении уничтожили
все гидрографическое оборудование.
-- Мина, право пять, три кабельтова! -- доложил
гидроакустик Василии Рыжиков. Он с самого выхода из
Пумманок не покидал рубку "Асдика". Вахтенный офи
цер Проничкин подправил курс рулевому, и мина оста
лась за кормой.
В один "прекрасный" момент комдив тральщиков Панфилов просемафорил:
"Тралы все перебиты, следуйте самостоятельно". К получению такой вводной мы
не были готовы. Корабельный устав на этот счет предусматривает: при
неясности обстановки застопорить машины, осмотреться, а потом принять
решение. Рябченко слегка нахмурился и перешел на правое крыло мостика.
Что будем делать
,
штурман?
По Морскому еже
годнику в этот час здесь
наибольший
прилив.
Осадка у нас небольшая,
если поторопимся, то мо
жем проскочить, -- вы
сказал свои соображения
Гончаров.
-- Средний вперед! -- последовала команда.
Как только машины дали ход, носовой и кормовой аварийным партиям была
объявлена готовность номер один, а личному составу приказано надеть
спасательные пояса. На мостике все притихли, лица стали жестче,
сосредоточеннее. Моряки, свободные от вахт, находились на верхней палубе --
при взрыве здесь менее опасно.
Сложность н опасность ситуации усугублялась тем, что вокруг не было
никаких навигационных ограждений и огней. Немцы при отступлении уничтожили
все гидрографическое оборудование.
-- Мина, право пять, три кабельтова! -- доложил
гидроакустик Василии Рыжиков. Он с самого выхода из
Пумманок не покидал рубку "Асдика". Вахтенный офи
цер Проничкин подправил курс рулевому, и мина оста
лась за кормой.
 грызли у офицеров погоны. А однажды они даже повредили свинцовый
кабель, выведя из строя размагничивающую противоминную обмотку. С грызунами
на корабле вели борьбу все -- делали силки на трубопроводах и других
коммуникациях, ставили капканы, но избавиться от крыс не удавалось.
Никольский любил заглянуть в кают-компанию просто так, "на огонек".
Здесь всегда можно было услышать новости походной жизни, узнать обстановку
"наверху".
Не успели мы перекинуться и парой фраз, как раздался сигнал боевой
тревоги. Быстро взбежав на мостик, я сразу понял причину: крупные волны одна
за другой перекатывались через низкий борт эсминца, доставали до надстроек.
На сильном морозе водяные струп сразу же замерзали, покрывая все сплошной
ледяной коркой. Льдом обросли мачты, палубы, мостик, орудия. От его тяжести
погнулись леерные стойки. Появился сильный крен, корабль плохо слушался
руля. На околку льда были брошены все силы.
грызли у офицеров погоны. А однажды они даже повредили свинцовый
кабель, выведя из строя размагничивающую противоминную обмотку. С грызунами
на корабле вели борьбу все -- делали силки на трубопроводах и других
коммуникациях, ставили капканы, но избавиться от крыс не удавалось.
Никольский любил заглянуть в кают-компанию просто так, "на огонек".
Здесь всегда можно было услышать новости походной жизни, узнать обстановку
"наверху".
Не успели мы перекинуться и парой фраз, как раздался сигнал боевой
тревоги. Быстро взбежав на мостик, я сразу понял причину: крупные волны одна
за другой перекатывались через низкий борт эсминца, доставали до надстроек.
На сильном морозе водяные струп сразу же замерзали, покрывая все сплошной
ледяной коркой. Льдом обросли мачты, палубы, мостик, орудия. От его тяжести
погнулись леерные стойки. Появился сильный крен, корабль плохо слушался
руля. На околку льда были брошены все силы.
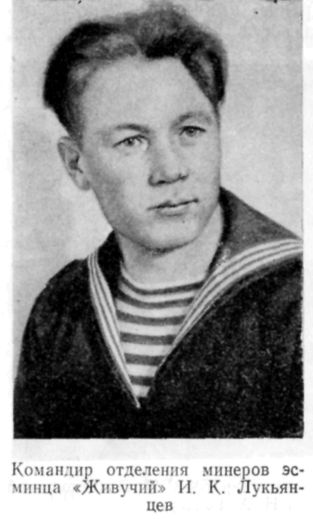 На шаткой и скользкой палубе, обдаваемые ледяными брызгами, моряки
ломами и лопатами бились со льдом. Труднее всех пришлось минерам. Волны все
чаще докатывались до кормы. Начали обмерзать в стеллажах глубинные бомбы.
Боеготовность кормового боевого поста оказалась под угрозой. Понятно, что
ломы здесь не могли пригодиться. Что же делать? Выход нашелся. Коммунист
Лукьянцев предложил отпаривать бомбы горячей водой. Минеры по очереди
спускались в котельное помещение и возвращались на ют с окутанными паром
ведрами в руках.
В тот день обледенение причинило нашим кораблям много хлопот. Позднее
мы уже подстраховывались на такой случай. Кочегары эсминца "Достойный"
внесли рацпредложение, которое сразу же стало достоянием всех кораблей.
Новшество оказалось довольно простым: вывели на корму гибкие шланги,
подключили их к паровому отоплению. При необходимости можно было паром
"резать" лед, как масло.
Наш отряд приближался к назначенному месту встречи. На экране локатора
засветилась береговая черта. Это Новая Земля. Через несколько минут появился
в поле зрения и конвой.
В 11 часов 19 ноября у выхода из Карских Ворот эсминцы второго отряда
вступили в охранение. Вскоре разыгрался девятибалльный шторм. Стихия
буквально бесновалась, волны свободно перекатывались через борт. Ходить по
палубе без риска быть смытым уже было нельзя. Выручали натянутые
заблаговременно штормовые леера. О подводной опасности больше не думали --
атаки лодок вряд ли возможны в такой кутерьме. Окалывали лед одной рукой,
второй надо было держаться за леер или надстройку. Люди выбивались из
последних сил, но, немного передохнув и обогревшись в кубрике, снова
выходили на палубу.
Шторм не унимался четверо суток. Когда конвой вошел в Белое море, даже
не верилось, что все позади. В порт корабли пришли изрядно потрепанными,
некоторые даже с поломками, но главное было сделано -- конвой прибыл к месту
назначения без потерь.
Примерно в то же время с Диксона в Иокангу шел другой конвой -- три
транспорта и танкер в охранении эсминца "Достойный", тральщиков и "больших
охотников". На их долю выпали еще большие испытания. Оказавшись в густом
тумане, который потом сменился частыми снежными зарядами, транспорты и
корабли эскорта потеряли друг друга. Ордер распался, суда остались без
охранения. А это было опасно.
Конвоем командовал командир эсминца "Достойный" капитан 3-го ранга Н.
И. Никольский1, опытнейший офицер и замечательный моряк. Двумя
годами раньше он, будучи командиром эсминца "Разъярен-
На шаткой и скользкой палубе, обдаваемые ледяными брызгами, моряки
ломами и лопатами бились со льдом. Труднее всех пришлось минерам. Волны все
чаще докатывались до кормы. Начали обмерзать в стеллажах глубинные бомбы.
Боеготовность кормового боевого поста оказалась под угрозой. Понятно, что
ломы здесь не могли пригодиться. Что же делать? Выход нашелся. Коммунист
Лукьянцев предложил отпаривать бомбы горячей водой. Минеры по очереди
спускались в котельное помещение и возвращались на ют с окутанными паром
ведрами в руках.
В тот день обледенение причинило нашим кораблям много хлопот. Позднее
мы уже подстраховывались на такой случай. Кочегары эсминца "Достойный"
внесли рацпредложение, которое сразу же стало достоянием всех кораблей.
Новшество оказалось довольно простым: вывели на корму гибкие шланги,
подключили их к паровому отоплению. При необходимости можно было паром
"резать" лед, как масло.
Наш отряд приближался к назначенному месту встречи. На экране локатора
засветилась береговая черта. Это Новая Земля. Через несколько минут появился
в поле зрения и конвой.
В 11 часов 19 ноября у выхода из Карских Ворот эсминцы второго отряда
вступили в охранение. Вскоре разыгрался девятибалльный шторм. Стихия
буквально бесновалась, волны свободно перекатывались через борт. Ходить по
палубе без риска быть смытым уже было нельзя. Выручали натянутые
заблаговременно штормовые леера. О подводной опасности больше не думали --
атаки лодок вряд ли возможны в такой кутерьме. Окалывали лед одной рукой,
второй надо было держаться за леер или надстройку. Люди выбивались из
последних сил, но, немного передохнув и обогревшись в кубрике, снова
выходили на палубу.
Шторм не унимался четверо суток. Когда конвой вошел в Белое море, даже
не верилось, что все позади. В порт корабли пришли изрядно потрепанными,
некоторые даже с поломками, но главное было сделано -- конвой прибыл к месту
назначения без потерь.
Примерно в то же время с Диксона в Иокангу шел другой конвой -- три
транспорта и танкер в охранении эсминца "Достойный", тральщиков и "больших
охотников". На их долю выпали еще большие испытания. Оказавшись в густом
тумане, который потом сменился частыми снежными зарядами, транспорты и
корабли эскорта потеряли друг друга. Ордер распался, суда остались без
охранения. А это было опасно.
Конвоем командовал командир эсминца "Достойный" капитан 3-го ранга Н.
И. Никольский1, опытнейший офицер и замечательный моряк. Двумя
годами раньше он, будучи командиром эсминца "Разъярен-
 ли себя вначале скованно, напряженно, играли молча. Но адмиралы
держались очень просто, и вскоре лейтенанты повеселели и стали по ходу игры
бросать реплики, острить. Под конец партии они так "разошлись", что
почувствовали себя совсем свободно, а один из них, войдя в азарт, даже
переступил черту дозволенного.
-- Силен, бродяга! --
восхитился он очередным
"каверзным" ходом вице-
адмирала Николаева. Го
ловко, не спеша, мягко
приставил свою костяш
ку и с расстановкой,
четко произнес:
-- Не бродяга, а член
Военного совета!
Тут только лейтенант спохватился, что допустил бестактность. С краской
на лице он вскочил, принял положение "Смирно" и удрученно произнес:
Виноват, товарищ адмирал!
Ничего, бывает! Садитесь, но в следующий раз
увлекаться не следует, -- произнес Головко. Николаев
промолчал.
Игра продолжалась.
По окончании партии Головко и Николаев тепло распрощались со своими
молодыми партнерами. Для последних это был урок на всю жизнь. Эпизод с
лейтенантами и вспомнил Рябченко, идя по штабному коридору вдоль множества
дверей.
Дежурный подвел офицеров к кабинету командующего н, козырнув, удалился.
Адмирал Головко, немного сутулясь, встал из-за стола и тепло
поздоровался с вошедшими. Пригласив командиров сесть и опустившись в кресло,
мягко, но с легкой укоризной произнес:
-- Как же это вы упустили фрицев?
121
ли себя вначале скованно, напряженно, играли молча. Но адмиралы
держались очень просто, и вскоре лейтенанты повеселели и стали по ходу игры
бросать реплики, острить. Под конец партии они так "разошлись", что
почувствовали себя совсем свободно, а один из них, войдя в азарт, даже
переступил черту дозволенного.
-- Силен, бродяга! --
восхитился он очередным
"каверзным" ходом вице-
адмирала Николаева. Го
ловко, не спеша, мягко
приставил свою костяш
ку и с расстановкой,
четко произнес:
-- Не бродяга, а член
Военного совета!
Тут только лейтенант спохватился, что допустил бестактность. С краской
на лице он вскочил, принял положение "Смирно" и удрученно произнес:
Виноват, товарищ адмирал!
Ничего, бывает! Садитесь, но в следующий раз
увлекаться не следует, -- произнес Головко. Николаев
промолчал.
Игра продолжалась.
По окончании партии Головко и Николаев тепло распрощались со своими
молодыми партнерами. Для последних это был урок на всю жизнь. Эпизод с
лейтенантами и вспомнил Рябченко, идя по штабному коридору вдоль множества
дверей.
Дежурный подвел офицеров к кабинету командующего н, козырнув, удалился.
Адмирал Головко, немного сутулясь, встал из-за стола и тепло
поздоровался с вошедшими. Пригласив командиров сесть и опустившись в кресло,
мягко, но с легкой укоризной произнес:
-- Как же это вы упустили фрицев?
121
 Выслушав Гончара, а затем Рябченко, командующий начал внимательно
просматривать кальки маневрирования и записи в журналах боевых действий.
Затем, отложив в сторону документы и немного подумав, сказал, что
гитлеровские лодки имеют теперь новые технические средства обнаружения. Это
позволяет им своевременно уклоняться от атак кораблей срочным погружением.
Поэтому нужна очень высокая бдительность и четкость в действиях всего
личного состава. Надо еще решительнее атаковать врага.
В конце беседы, обращаясь к капитану 3-го ранга Гончару, Головко
сказал:
-- А лодку эту я Вам пока не засчитываю. Уверен
ности в ее уничтожении у меня нет.
В конце войны к вопросу оценки боевых потерь противника высшее
командование стало относиться строже. Только после получения подтверждений
из нескольких источников, после тщательного изучения документов командующий
подписывал заключение.
Видя огорчение на лицах собеседников, Арсений Григорьевич улыбнулся и,
показав на вазу с апельсинами, произнес:
-- Подарок из Грузии, угощайтесь.
Потом пригласил командиров к столу.
Комфлота налил себе вина в маленькую рюмку и жестом пригласил гостей к
самообслуживанию. Рябченко и Гончар наполнили свои рюмки.
В это время вошел адъютант с телеграммой в руке.
-- А вот и тост есть хороший! -- воскликнул адми
рал, едва пробежав по листку глазами. -- Сегодня
Выслушав Гончара, а затем Рябченко, командующий начал внимательно
просматривать кальки маневрирования и записи в журналах боевых действий.
Затем, отложив в сторону документы и немного подумав, сказал, что
гитлеровские лодки имеют теперь новые технические средства обнаружения. Это
позволяет им своевременно уклоняться от атак кораблей срочным погружением.
Поэтому нужна очень высокая бдительность и четкость в действиях всего
личного состава. Надо еще решительнее атаковать врага.
В конце беседы, обращаясь к капитану 3-го ранга Гончару, Головко
сказал:
-- А лодку эту я Вам пока не засчитываю. Уверен
ности в ее уничтожении у меня нет.
В конце войны к вопросу оценки боевых потерь противника высшее
командование стало относиться строже. Только после получения подтверждений
из нескольких источников, после тщательного изучения документов командующий
подписывал заключение.
Видя огорчение на лицах собеседников, Арсений Григорьевич улыбнулся и,
показав на вазу с апельсинами, произнес:
-- Подарок из Грузии, угощайтесь.
Потом пригласил командиров к столу.
Комфлота налил себе вина в маленькую рюмку и жестом пригласил гостей к
самообслуживанию. Рябченко и Гончар наполнили свои рюмки.
В это время вошел адъютант с телеграммой в руке.
-- А вот и тост есть хороший! -- воскликнул адми
рал, едва пробежав по листку глазами. -- Сегодня
 Президиум Верховного Совета учредил медаль "За оборону Советского
Заполярья". Военный совет Карельского фронта поздравляет личный состав
Северного флота с награждением участников обороны Советского Заполярья
медалью.
Затем командующий зачитал весь поздравительный текст, который
заканчивался словами: "Да здравствуют моряки Северного военно-морского
флота! Да здравствует боевая дружба Военно-Морского Флота и сухопутных сил
Красной Армии!"
-- Да, за это стоит
выпить, -- произнес Го
ловко и поднял свою
рюмку. -- За ваши боевые успехи, за наш замечательный личный состав!
Оба командира были взволнованы вестью. Поставив рюмку на стол, комфлота
встал из-за стола, дав понять, что встреча окончена.
-- А ваши материалы я еще проанализирую, --
сказал Головко на прощанье.
Весть об учреждении медали "За оборону Советского Заполярья" с
быстротой молнии облетела все корабли. Моряки были горды высокой оценкой,
данной Советским правительством, деятельности участников героической обороны
Советского Заполярья, самоотверженной борьбы воинов Красной Армии и
Военно-Морского Флота против немецко-фашистских захватчиков на крайнем
правом фланге Великой Отечественной войны.
С самого первого дня вероломного нападения на нашу Родину гитлеровские
захватчики протянули хищные Щупальца к Советскому Заполярью. Они направили
на Север отборные части и огромное количество боевой
Президиум Верховного Совета учредил медаль "За оборону Советского
Заполярья". Военный совет Карельского фронта поздравляет личный состав
Северного флота с награждением участников обороны Советского Заполярья
медалью.
Затем командующий зачитал весь поздравительный текст, который
заканчивался словами: "Да здравствуют моряки Северного военно-морского
флота! Да здравствует боевая дружба Военно-Морского Флота и сухопутных сил
Красной Армии!"
-- Да, за это стоит
выпить, -- произнес Го
ловко и поднял свою
рюмку. -- За ваши боевые успехи, за наш замечательный личный состав!
Оба командира были взволнованы вестью. Поставив рюмку на стол, комфлота
встал из-за стола, дав понять, что встреча окончена.
-- А ваши материалы я еще проанализирую, --
сказал Головко на прощанье.
Весть об учреждении медали "За оборону Советского Заполярья" с
быстротой молнии облетела все корабли. Моряки были горды высокой оценкой,
данной Советским правительством, деятельности участников героической обороны
Советского Заполярья, самоотверженной борьбы воинов Красной Армии и
Военно-Морского Флота против немецко-фашистских захватчиков на крайнем
правом фланге Великой Отечественной войны.
С самого первого дня вероломного нападения на нашу Родину гитлеровские
захватчики протянули хищные Щупальца к Советскому Заполярью. Они направили
на Север отборные части и огромное количество боевой
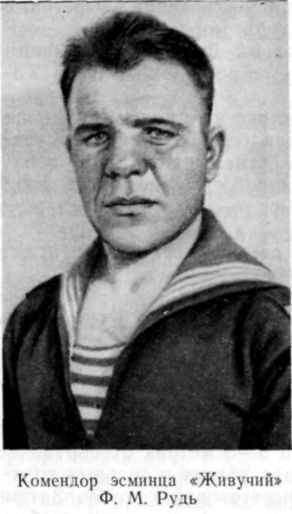 К крикам, доносившимся с лодки, теперь прибавился еще тревожный
металлический стук. Видимо, стучали сверху в задраенный рубочный люк. В
ответ с бака послышалось:
-- Алло, фриц, ауф-видерзеен! -- это комендор носового орудия Федор
Рудь вступил в "диалог" с гитлеровцами.
Когда "Живучий" дал задний ход, поврежденная лодка пыталась еще
ускользнуть -- рванула полным ходом вперед. Но не тут-то было. Как только
она вышла из "мертвого пространства", носовое орудие коммуниста старшины 1-й
статьи Толкачева открыло по
ней огонь прямой наводкой. Первый же снаряд угодил в рубку, за ним еще
несколько.
"Вот когда пригодились быстрота и слаженность действий, которых мы
добивались на тренировках", -- промелькнула у меня мысль.
Кормовое орудие вело огонь, чередуя осветительные снаряды с фугасными.
Затем к нему присоединились зенитные автоматы старшины 2-й статьи Сегиня,
краснофлотцев Свитнева и Смирнова. В этом бою комсорг второй боевой части
Александр Ссгинь показал пример воинского мастерства. Когда кончился
боезапас у автомата левого борта, он перешел к правому и успешно вел огонь
через узкое пространство между дымовыми трубами.
Таранный удар, прямые попадания снарядов сделали свое дело: фашистская
подводная лодка начала быстро оседать на корму и вскоре скрылась в морской
пучине.
-- Большая серия бомб -- товсь! -- раздалась знакомая команда.
130
На голову агонизирующего врага посыпались бомбы, сброшенные минерами
Иваном Лукьянцевым, Ме-фодием Никитиным и Гавриилом Скибой. За первой серией
последовали следующие. За кормой послышались мощные взрывы, и на том месте,
где только что был подводный хищник, вздыбились огромные водяные столбы.
В этом необычном бою эсминец израсходовал 27 трех- и четырехдюймовых
снарядов, 210 снарядов зенитных автоматов и 30 больших глубинных
бомб1.
Осветив прожектором район гибели вражеской лодки, мы увидели много
обломков, плававших в густом соляре. Так была потоплена фашистская лодка
"U-387" 2.
На "Живучем" от таранного удара разошлись стальные листы обшивки в
носовой части, вышли из строя два передатчика и радиолокационная станция. Из
личного состава пострадал котельный машинист Иван Пастухов -- он получил
сильный ожог, упав при ударе на стенку котла.
После отбоя тревоги командир приказал мне, Никольскому и Васильеву
осмотреть нижние помещения носовой части корабля. Выполнив поручение и не
обнаружив ничего существенного, мы направились в кают-компанию. Здесь уже
собралось человек семь офицеров. У всех возбужденные лица, приподнятое
настроение. Вестовой Клименко подал свежезаваренный ароматный чай. Вошел
командир.
-- Ну что, товарищи, выпьем за победу... по ста
кану чая? -- с улыбкой пробасил он и добавил: --
А "ста граммами" отметим, когда вернемся в базу.
Только что получена шифровка. По данным радиораз
ведки, у нас по курсу еще три гитлеровские подводные
лодки и праздновать победу еще...
Сигнал боевой тревоги прервал командира. Выскочили на мостик.
-- Товарищ капитан 3-го ранга! Обнаружена под
водная лодка, -- доложил вахтенный офицер.
Невдалеке уже слышались взрывы: это действовал "Разумный", наш
напарник. Его атака тоже была успешной -- после бомбежки на поверхности моря
по-
К крикам, доносившимся с лодки, теперь прибавился еще тревожный
металлический стук. Видимо, стучали сверху в задраенный рубочный люк. В
ответ с бака послышалось:
-- Алло, фриц, ауф-видерзеен! -- это комендор носового орудия Федор
Рудь вступил в "диалог" с гитлеровцами.
Когда "Живучий" дал задний ход, поврежденная лодка пыталась еще
ускользнуть -- рванула полным ходом вперед. Но не тут-то было. Как только
она вышла из "мертвого пространства", носовое орудие коммуниста старшины 1-й
статьи Толкачева открыло по
ней огонь прямой наводкой. Первый же снаряд угодил в рубку, за ним еще
несколько.
"Вот когда пригодились быстрота и слаженность действий, которых мы
добивались на тренировках", -- промелькнула у меня мысль.
Кормовое орудие вело огонь, чередуя осветительные снаряды с фугасными.
Затем к нему присоединились зенитные автоматы старшины 2-й статьи Сегиня,
краснофлотцев Свитнева и Смирнова. В этом бою комсорг второй боевой части
Александр Ссгинь показал пример воинского мастерства. Когда кончился
боезапас у автомата левого борта, он перешел к правому и успешно вел огонь
через узкое пространство между дымовыми трубами.
Таранный удар, прямые попадания снарядов сделали свое дело: фашистская
подводная лодка начала быстро оседать на корму и вскоре скрылась в морской
пучине.
-- Большая серия бомб -- товсь! -- раздалась знакомая команда.
130
На голову агонизирующего врага посыпались бомбы, сброшенные минерами
Иваном Лукьянцевым, Ме-фодием Никитиным и Гавриилом Скибой. За первой серией
последовали следующие. За кормой послышались мощные взрывы, и на том месте,
где только что был подводный хищник, вздыбились огромные водяные столбы.
В этом необычном бою эсминец израсходовал 27 трех- и четырехдюймовых
снарядов, 210 снарядов зенитных автоматов и 30 больших глубинных
бомб1.
Осветив прожектором район гибели вражеской лодки, мы увидели много
обломков, плававших в густом соляре. Так была потоплена фашистская лодка
"U-387" 2.
На "Живучем" от таранного удара разошлись стальные листы обшивки в
носовой части, вышли из строя два передатчика и радиолокационная станция. Из
личного состава пострадал котельный машинист Иван Пастухов -- он получил
сильный ожог, упав при ударе на стенку котла.
После отбоя тревоги командир приказал мне, Никольскому и Васильеву
осмотреть нижние помещения носовой части корабля. Выполнив поручение и не
обнаружив ничего существенного, мы направились в кают-компанию. Здесь уже
собралось человек семь офицеров. У всех возбужденные лица, приподнятое
настроение. Вестовой Клименко подал свежезаваренный ароматный чай. Вошел
командир.
-- Ну что, товарищи, выпьем за победу... по ста
кану чая? -- с улыбкой пробасил он и добавил: --
А "ста граммами" отметим, когда вернемся в базу.
Только что получена шифровка. По данным радиораз
ведки, у нас по курсу еще три гитлеровские подводные
лодки и праздновать победу еще...
Сигнал боевой тревоги прервал командира. Выскочили на мостик.
-- Товарищ капитан 3-го ранга! Обнаружена под
водная лодка, -- доложил вахтенный офицер.
Невдалеке уже слышались взрывы: это действовал "Разумный", наш
напарник. Его атака тоже была успешной -- после бомбежки на поверхности моря
по-
 От частых взрывов, а может быть, от штормовых сотрясений на "Живучем
вышла из строя радиолокационная станция -- отскочил верхний конец фидера.
Необходимо было припаять его. Плексигласовый колпак антенны возвышался над
мостиком. Днем на ликвидацию неисправности ушло бы несколько минут, а в
темноте при такой качке не то что паять, подняться по скоб-трапу рискованно.
Да и освещение включать не разрешалось. Но радиометрист Александр Петров все
же сумел устранить поломку. Он достал
парусиновый чехол от антенны и, рискуя сорваться, поднялся с ним
наверх. Краснофлотец Баринов помог ему накрыть этим чехлом купол антенны
радиолокатора. Светомаскировка была обеспечена. Петров быстро припаял кончик
фидера, и через несколько минут корабль стал "зрячим".
Утром спасательные работы были возобновлены. А ветер не стихал -- 8
баллов и крупная зыбь с норда. Тральщики заливало водой, и их отпустили в
базу.
Аварийное судно за ночь сдрейфовало к Кильдину, до берега оставалось
всего пять кабельтовых. Подойти к нему эсминец не мог. Вскоре на помощь
подоспели буксиры "М-2" и "М-12" с мощными буксирными устройствами и лидер
"Баку". В небе появились два противолодочных самолета. Общими усилиями
эсминцев и буксиров корма транспорта в начале суток 2 января была приведена
в Териберку.
Пятеро отважных моряков, выполнив задание, благополучно вернулись на
корабль. Они провели на "Тбилиси" 40 часов 15 минут1. Позднее все
они были награждены боевыми орденами.
От частых взрывов, а может быть, от штормовых сотрясений на "Живучем
вышла из строя радиолокационная станция -- отскочил верхний конец фидера.
Необходимо было припаять его. Плексигласовый колпак антенны возвышался над
мостиком. Днем на ликвидацию неисправности ушло бы несколько минут, а в
темноте при такой качке не то что паять, подняться по скоб-трапу рискованно.
Да и освещение включать не разрешалось. Но радиометрист Александр Петров все
же сумел устранить поломку. Он достал
парусиновый чехол от антенны и, рискуя сорваться, поднялся с ним
наверх. Краснофлотец Баринов помог ему накрыть этим чехлом купол антенны
радиолокатора. Светомаскировка была обеспечена. Петров быстро припаял кончик
фидера, и через несколько минут корабль стал "зрячим".
Утром спасательные работы были возобновлены. А ветер не стихал -- 8
баллов и крупная зыбь с норда. Тральщики заливало водой, и их отпустили в
базу.
Аварийное судно за ночь сдрейфовало к Кильдину, до берега оставалось
всего пять кабельтовых. Подойти к нему эсминец не мог. Вскоре на помощь
подоспели буксиры "М-2" и "М-12" с мощными буксирными устройствами и лидер
"Баку". В небе появились два противолодочных самолета. Общими усилиями
эсминцев и буксиров корма транспорта в начале суток 2 января была приведена
в Териберку.
Пятеро отважных моряков, выполнив задание, благополучно вернулись на
корабль. Они провели на "Тбилиси" 40 часов 15 минут1. Позднее все
они были награждены боевыми орденами.
 не обнаружили и повернули вслед за "Дерзким" догонять конвой. Надо ли
говорить, что было на душе у каждого?
В полночь "Живучий" и "Дерзкий" заняли места в эскорте. У ледовой
кромки горла Белого моря конвой был расформирован: во льды подводные лодки
врага не заходили. Под проводкой ледоколов транспорты благополучно прибыли к
месту назначения.
Но вернемся к обстоятельствам гибели "Деятельного". Получив приказание
командира конвоя, "Дерзкий" вышел из ордера на помощь "Деятельному",
попавшему в беду. В 21.20 неподалеку
от аварийного корабля гидроакустик "Дерзкого" обнаружил вражескую
подводную лодку. Сбросив на нее глубинные бомбы, эсминец лег на курс. Через
12 минут вновь обнаружили лодку в подводном положении, и опять на нее
сбросили большую серию глубинных бомб. Все бомбы взорвались. Результаты
атаки не известны. Наблюдение за "Деятельным" было непрерывным.
В 21.46 радиометристы "Дерзкого" на экране локатора зафиксировали
исчезновение "Деятельного", а сигнальщики увидели на воде большое пламя.
Через три минуты "Дерзкий" подошел к месту погружения эсминца. Застопорил
машины, чтобы корпусом и винтами не побить людей, плававших на воде, и
приступил к спасательной операции. По левому борту была обнаружена резиновая
шлюпка с людьми, с правого борта -- полузатопленный катер. На нем что-то
тлело. Через минуту катер затонул1.
не обнаружили и повернули вслед за "Дерзким" догонять конвой. Надо ли
говорить, что было на душе у каждого?
В полночь "Живучий" и "Дерзкий" заняли места в эскорте. У ледовой
кромки горла Белого моря конвой был расформирован: во льды подводные лодки
врага не заходили. Под проводкой ледоколов транспорты благополучно прибыли к
месту назначения.
Но вернемся к обстоятельствам гибели "Деятельного". Получив приказание
командира конвоя, "Дерзкий" вышел из ордера на помощь "Деятельному",
попавшему в беду. В 21.20 неподалеку
от аварийного корабля гидроакустик "Дерзкого" обнаружил вражескую
подводную лодку. Сбросив на нее глубинные бомбы, эсминец лег на курс. Через
12 минут вновь обнаружили лодку в подводном положении, и опять на нее
сбросили большую серию глубинных бомб. Все бомбы взорвались. Результаты
атаки не известны. Наблюдение за "Деятельным" было непрерывным.
В 21.46 радиометристы "Дерзкого" на экране локатора зафиксировали
исчезновение "Деятельного", а сигнальщики увидели на воде большое пламя.
Через три минуты "Дерзкий" подошел к месту погружения эсминца. Застопорил
машины, чтобы корпусом и винтами не побить людей, плававших на воде, и
приступил к спасательной операции. По левому борту была обнаружена резиновая
шлюпка с людьми, с правого борта -- полузатопленный катер. На нем что-то
тлело. Через минуту катер затонул1.
 Вахтенный офицер старший лейтенант М. Ф. Тур-ланов объявил боевую
тревогу. На мостик вбежал командир корабля капитан-лейтенант К. А.
Кравченко, месяц назад сменивший на этом посту П. М. Гончара'. Прежде он был
старпомом на эсминце "Жесткий".
Намерения врага командиру были ясны; решив преградить субмарине путь к
транспортам, он сразу скомандовал:
-- Полный ход, право руль!
Когда расстояние до цели сократилось, в фосфоресцирующем буруне с
мостика опознали лодку, шедшую на погружение. Эсминец устремился к буруну,
но лодка ужо ушла на глубину. Вслед ей полетели бомбы. Пока минеры готовили
новую серию глубинных бомб, корабль разворачивался на обратный курс для
повторной атаки. Когда эсминец уже заканчивал циркуляцию, в корме раздался
взрыв. Случилось это в 20 часов 55 минут. Корабль вздрогнул, осел на корму
Вахтенный офицер старший лейтенант М. Ф. Тур-ланов объявил боевую
тревогу. На мостик вбежал командир корабля капитан-лейтенант К. А.
Кравченко, месяц назад сменивший на этом посту П. М. Гончара'. Прежде он был
старпомом на эсминце "Жесткий".
Намерения врага командиру были ясны; решив преградить субмарине путь к
транспортам, он сразу скомандовал:
-- Полный ход, право руль!
Когда расстояние до цели сократилось, в фосфоресцирующем буруне с
мостика опознали лодку, шедшую на погружение. Эсминец устремился к буруну,
но лодка ужо ушла на глубину. Вслед ей полетели бомбы. Пока минеры готовили
новую серию глубинных бомб, корабль разворачивался на обратный курс для
повторной атаки. Когда эсминец уже заканчивал циркуляцию, в корме раздался
взрыв. Случилось это в 20 часов 55 минут. Корабль вздрогнул, осел на корму
 и потерял ход. Через несколько секунд последовал второй взрыв по силе
чуть меньше первого -- это взорвались глубинные бомбы, скатившиеся за
борт1.
Кравченко приказал осмотреться и доложить о повреждениях. Ют на
телефонный вызов не отвечал. Молчали и оба машинных отделения. От сильного
сотрясения корпуса нарушилась радиосвязь.
-- Акустикам произ
вести поиск целей, ра
диометристам осмотреть
горизонт! -- распорядил
ся командир.
Минут через пять после взрыва на мостик доложили из первой (носовой)
машины:
-- Вторую машину заливает водой, у меня все в по
рядке!
Но на приказание командира дать исправной машине средний ход вперед
последовал доклад:
-- Машина работает "вразнос".
Это означало, что оторваны винты.
Положение сложилось тяжелое, необходимо было немедленно доложить о
случившемся командиру конвоя, но рация не работала... Спокойным голосом
Кравченко отдал приказание на "эрликоны" -- стрелять вверх трассирующими.
Через несколько минут доложили, что исправлен передатчик УКВ. Кравченко
передал в эфир:
-- Я торпедирован. Обе машины затоплены, мед
ленно погружаюсь. Имею крен на правый борт. Ста
раюсь его выровнять. Принимаю меры к спасению ко
рабля.
Ответа не было -- приемник так и не удалось отремонтировать.
и потерял ход. Через несколько секунд последовал второй взрыв по силе
чуть меньше первого -- это взорвались глубинные бомбы, скатившиеся за
борт1.
Кравченко приказал осмотреться и доложить о повреждениях. Ют на
телефонный вызов не отвечал. Молчали и оба машинных отделения. От сильного
сотрясения корпуса нарушилась радиосвязь.
-- Акустикам произ
вести поиск целей, ра
диометристам осмотреть
горизонт! -- распорядил
ся командир.
Минут через пять после взрыва на мостик доложили из первой (носовой)
машины:
-- Вторую машину заливает водой, у меня все в по
рядке!
Но на приказание командира дать исправной машине средний ход вперед
последовал доклад:
-- Машина работает "вразнос".
Это означало, что оторваны винты.
Положение сложилось тяжелое, необходимо было немедленно доложить о
случившемся командиру конвоя, но рация не работала... Спокойным голосом
Кравченко отдал приказание на "эрликоны" -- стрелять вверх трассирующими.
Через несколько минут доложили, что исправлен передатчик УКВ. Кравченко
передал в эфир:
-- Я торпедирован. Обе машины затоплены, мед
ленно погружаюсь. Имею крен на правый борт. Ста
раюсь его выровнять. Принимаю меры к спасению ко
рабля.
Ответа не было -- приемник так и не удалось отремонтировать.
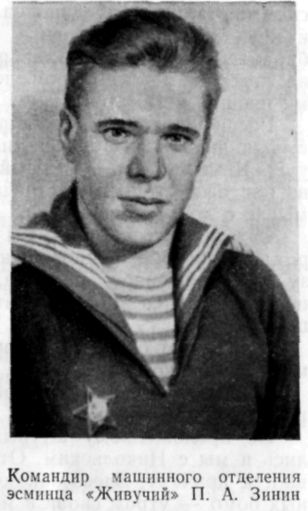 первым начинал импровизированный концерт Андреи Казаров, наш комсорг.
Очень задушевно у них получались песни "Реве та стогне Днипр широкий" и
"Уходим завтра в море".
Когда трио играло "Яблочко", в пляс пускался старшина 1-й статьи Павел
Зимин. Под одобрительные возгласы собравшихся он лихо отбивал чечетку,
мастерски выполнял сложнейшие элемены этого задорного танца. Музыка, песни и
пляски в кубриках продолжались нередко до самого отбоя.
Находилось время и для чтения. Большим спросом пользовались у нас
Станюкович, Соболев, Новиков-Прибой.
Во время стоянки корабля в базе, пока шло пополнение запасов, одну
смену отпускали в увольнение, соблюдая очередность. После болтанки и
постоянного напряжения приятно было расслабиться, пройти по твердой земле,
побывать в Доме флота. Многие офицеры и "сверхсрочники", служившие на Севере
с довоенных лет, имели на берегу семьи. Нет нужды говорить, как в те суровые
дни встречи с родными и близкими помогали им в нелегкой ратной службе.
В середине января к Алексею Прокоиьсвичу Про-ничкину приехала жена. В
военные годы для того чтобы попасть в прифронтовую зону, необходимо было
специальное разрешение. И Ольге Федоровне удалось добиться его. Мы с
Гончаровым и Никольским побывали тогда в гостях у Проничкиных. Они занимали
маленькую комнатку в небольшом деревянном домике. Уютно расположившись на
табуретках за столиком, уставленным небогатыми -- по военным временам --
закусками, мы отметили встречу фронтовыми "ста
первым начинал импровизированный концерт Андреи Казаров, наш комсорг.
Очень задушевно у них получались песни "Реве та стогне Днипр широкий" и
"Уходим завтра в море".
Когда трио играло "Яблочко", в пляс пускался старшина 1-й статьи Павел
Зимин. Под одобрительные возгласы собравшихся он лихо отбивал чечетку,
мастерски выполнял сложнейшие элемены этого задорного танца. Музыка, песни и
пляски в кубриках продолжались нередко до самого отбоя.
Находилось время и для чтения. Большим спросом пользовались у нас
Станюкович, Соболев, Новиков-Прибой.
Во время стоянки корабля в базе, пока шло пополнение запасов, одну
смену отпускали в увольнение, соблюдая очередность. После болтанки и
постоянного напряжения приятно было расслабиться, пройти по твердой земле,
побывать в Доме флота. Многие офицеры и "сверхсрочники", служившие на Севере
с довоенных лет, имели на берегу семьи. Нет нужды говорить, как в те суровые
дни встречи с родными и близкими помогали им в нелегкой ратной службе.
В середине января к Алексею Прокоиьсвичу Про-ничкину приехала жена. В
военные годы для того чтобы попасть в прифронтовую зону, необходимо было
специальное разрешение. И Ольге Федоровне удалось добиться его. Мы с
Гончаровым и Никольским побывали тогда в гостях у Проничкиных. Они занимали
маленькую комнатку в небольшом деревянном домике. Уютно расположившись на
табуретках за столиком, уставленным небогатыми -- по военным временам --
закусками, мы отметили встречу фронтовыми "ста
 Командир корабля Максимов быстро произвел нужный расчет и необходимые
данные передал на носовую многоствольную установку "Еж". Старший
краснофлотец Кутузов быстро выполнил команду -- реактивные мины сошли с
направляющих. В работу включились также минеры кормовых бомбометов Карасев и
Голубев.
Контакт с вражеской подводной лодкой поддерживался, атака продолжалась.
Старшина группы минеров Севрюков уверенно скомандовал на юте:
-- Первая!
По этой команде с правого борта сбросил бомбы Сахаров.
-- Вторая!
Сычугов, находившийся на левом борту, послал смертоносный груз за борт.
С мостика за взрывами бомб наблюдал сигнальщик Малышенко. Оторвав
бинокль от глаз, он доложил:
Командир корабля Максимов быстро произвел нужный расчет и необходимые
данные передал на носовую многоствольную установку "Еж". Старший
краснофлотец Кутузов быстро выполнил команду -- реактивные мины сошли с
направляющих. В работу включились также минеры кормовых бомбометов Карасев и
Голубев.
Контакт с вражеской подводной лодкой поддерживался, атака продолжалась.
Старшина группы минеров Севрюков уверенно скомандовал на юте:
-- Первая!
По этой команде с правого борта сбросил бомбы Сахаров.
-- Вторая!
Сычугов, находившийся на левом борту, послал смертоносный груз за борт.
С мостика за взрывами бомб наблюдал сигнальщик Малышенко. Оторвав
бинокль от глаз, он доложил:
 Удалось мне разыскать также всех семерых членов экипажа "Деятельный",
спасшихся при гибели эсминца. На предложение встретиться в Москве они
откликнулись все, но смогли приехать только пятеро. Встречу назначили в
скверике у Большого театра. Стояли погожие дни осени 1976 года. И мы решили
совершить прогулку на катере по каналу Москва--Волга. В уют-ион
кают-компании все располагало к разговору. Вот что я узнал от бывших боевых
товарищей.
Мачинский Олег Макарович (бывший старпом) -- контр-адмирал в отставке.
Живет в городе Видное под Москвой. Возглавляет водно-спасательную службу
столицы, участвует в военно-патриотической работе. Его воспоминания помогли
восстановить подробности мужественной борьбы экипажа за жизнь корабля.
Корябин Дмитрий Филиппович (бывший командир отделения сигнальщиков)
вскоре после войны демоби-
Удалось мне разыскать также всех семерых членов экипажа "Деятельный",
спасшихся при гибели эсминца. На предложение встретиться в Москве они
откликнулись все, но смогли приехать только пятеро. Встречу назначили в
скверике у Большого театра. Стояли погожие дни осени 1976 года. И мы решили
совершить прогулку на катере по каналу Москва--Волга. В уют-ион
кают-компании все располагало к разговору. Вот что я узнал от бывших боевых
товарищей.
Мачинский Олег Макарович (бывший старпом) -- контр-адмирал в отставке.
Живет в городе Видное под Москвой. Возглавляет водно-спасательную службу
столицы, участвует в военно-патриотической работе. Его воспоминания помогли
восстановить подробности мужественной борьбы экипажа за жизнь корабля.
Корябин Дмитрий Филиппович (бывший командир отделения сигнальщиков)
вскоре после войны демоби-
 лизовался, с отличием закончил железнодорожный техникум, а затем
Московский институт железнодорожного транспорта. Живет в г. Жилево под
Москвой, работает в Каширском отделении железной дороги. Участникам встречи
больше всего запомнилась такая деталь: когда окоченевшего Корябина вытащили
на палубу "Дерзкого", у него в руке был намертво зажат сигнальный фонарь, а
с шеи свисал тяжелый бинокль.
"Когда затопило вторую машину, -- рассказывал бывший машинист-турбинист
Вячеслав Васильевич Ше-стопалов, -- я выключил свет и вместе с другими вылез
через люк на палубу. Здесь услышал команду: "Покинуть корабль". Тысячью
иголок, впившихся в тело, показалась мне вода Баренцева моря..."
В. В. Шестопалов живет в г. Касимове, инвалид -- морская купель сильно
подорвала его здоровье.
Борис Васильевич Тормозов (боцман) после демобилизации вернулся в
родной Новороссийск, где до сих пор работает на цементном заводе
"Пролетарий". Он хорошо помнит события той трагической ночи: "Вместе со
старшим боцманом Блиновым я готовил буксирные средства, но нос корабля все
больше задирался кверху. Последовала команда: "Покинуть корабль". Прямо в
реглане и валенках прыгнул за борт. Вынырнув, увидел: корабль стоит почти
вертикально и над моей головой висит якорь..."
Павел Семенович Агеев, бывший штурманский электрик, после окончания
войны поступил в военное училище. Теперь он майор в отставке, живет и
работает в Одессе. Он до сих пор помнит многие детали, связанные со
спасением: "Оказавшись на плотике вместе с Мачинским, Корябиным и
Тормозовым, заметил, что только я одет "не по сезону" -- в суконных брюках,
бушлате и без шапки. Понял, что замерзну первым. Может быть, поэтому спросил
у Мачинского: "Куда дует ветер?" -- "К берегу", -- ответил Олег Макарович.
Видимо, он угадал мои мысли и решил успокоить. А мысли были такие: если все
замерзнем, то ветром и волной плот прибьет к берегу, нас обнаружат и
похоронят в земле. Еще подумал, что моя смерть очень огорчит мать", --
рассказывал П. С. Агеев.
Командир первой машины Назар Иванович Лебедев и командир отделения
мотористов Михаил Афанасьевич Кошелев в Москву приехать не смогли.
174
Н. И. Лебедев живет и работает в Донецке. За трудовые успехи награжден
орденом "Знак Почета".
М. А. Кошелев после демобилизации поселился в Сочи. Как и В. В.
Шестопалов, он тяжело перенес переохлаждение.
Удалось разыскать еще трех членов экипажа "Деятельного", оказавшихся в
день гибели корабля в отпуске: замполита Платона Игнатьевича Патрушева
(капитан 1-го ранга в отставке, живет и работает в Ленинграде), командира
БЧ-IV Павла Александровича Обрезумова (старший лейтенант в отставке, живет и
работает в Москве) и машиниста-турбиниста Николая Андреевича Нефедова
(мичман запаса, живет и работает в Ленинграде).
В ходе работы над книгой удалось узнать и о судьбе многих других
ветеранов эскадры Северного флота. Бывший начальник штаба эскадры Александр
Михайлович Румянцев ушел в запас в звании вице-адмирала. Работал над книгой
по истории Северного флота, но скоропостижная смерть осенью 1974 года не
позволила ему закончить эту работу.
Бывший командир эсминца "Достойный" (а несколько позже -- командир 2-го
дивизиона эсминцев) Евгений Андрианович Козлов -- контр-адмирал в отставке,
живет в Москве.
Командир эсминца "Дерзкий" Анатолий Иванович Андреев и его преемник на
этом посту Борис Николаевич Максимов живут в Ленинграде, командир эсминца
"Дружный" (ставший позже флагманским штурманом эскадры) капитан 1-го ранга в
отставке Александр Евгеньевич Пастухов умер в Ленинграде в 1976 году.
Капитан 1-го ранга в отставке Николай Васильевич Матковский, бывший
замполит командира эсминца "Дружный" -- профессор, ученый-международник.
Совсем недавно удалось связаться еще с двумя моряками "Живучего" --
гидроакустиком Василием Яковлевичем Рыжиковым и радиометристом Георгием
Александровичем Алхимовым. Оба живут и работают в Москве.
Встреча с каждым ветераном эскадры Северного флота была волнующей и
интересной. Очень жаль, что рамки книги не позволяют воспроизвести здесь
подробности этих встреч.
СОДЕРЖАН И Е
Вместо предисловия . . 5
Забытая картина 11
На правах пассажиров 13
Инженеры, переодетые в матросскую
форму 30
Под флагом Родины 53
Сквозь шторм и "волчьи стаи" ... 71
В семье североморцев 87
Тараном, снарядом и бомбой! . . . 109
Враг повержен 140
Послесловие . . . . 175
Художник
B. 3. Борисова
Гавриил Герасимович Поляков В СУРОВОМ БАРЕНЦЕВОМ
Редактор
C. К. Богатикова
Художественный редактор
A. 3. Маркелов
Технический редактор
А. Ф. Сергеев Корректор
B. П. Рябинина
Сдано в набор 31.01.78. Подписано
в печать 21.06.78. ПН 01925. Формат
84x108/32. Бумага типографская
No 1. Литературная. Высокая.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,4.
Тираж 15 000 экз. Зак. 1221.
Цена 43 коп.
Мурманское книжное издательство,
г. Мурманск, пр. Ленина, 100
Мурманская областная типография,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18
лизовался, с отличием закончил железнодорожный техникум, а затем
Московский институт железнодорожного транспорта. Живет в г. Жилево под
Москвой, работает в Каширском отделении железной дороги. Участникам встречи
больше всего запомнилась такая деталь: когда окоченевшего Корябина вытащили
на палубу "Дерзкого", у него в руке был намертво зажат сигнальный фонарь, а
с шеи свисал тяжелый бинокль.
"Когда затопило вторую машину, -- рассказывал бывший машинист-турбинист
Вячеслав Васильевич Ше-стопалов, -- я выключил свет и вместе с другими вылез
через люк на палубу. Здесь услышал команду: "Покинуть корабль". Тысячью
иголок, впившихся в тело, показалась мне вода Баренцева моря..."
В. В. Шестопалов живет в г. Касимове, инвалид -- морская купель сильно
подорвала его здоровье.
Борис Васильевич Тормозов (боцман) после демобилизации вернулся в
родной Новороссийск, где до сих пор работает на цементном заводе
"Пролетарий". Он хорошо помнит события той трагической ночи: "Вместе со
старшим боцманом Блиновым я готовил буксирные средства, но нос корабля все
больше задирался кверху. Последовала команда: "Покинуть корабль". Прямо в
реглане и валенках прыгнул за борт. Вынырнув, увидел: корабль стоит почти
вертикально и над моей головой висит якорь..."
Павел Семенович Агеев, бывший штурманский электрик, после окончания
войны поступил в военное училище. Теперь он майор в отставке, живет и
работает в Одессе. Он до сих пор помнит многие детали, связанные со
спасением: "Оказавшись на плотике вместе с Мачинским, Корябиным и
Тормозовым, заметил, что только я одет "не по сезону" -- в суконных брюках,
бушлате и без шапки. Понял, что замерзну первым. Может быть, поэтому спросил
у Мачинского: "Куда дует ветер?" -- "К берегу", -- ответил Олег Макарович.
Видимо, он угадал мои мысли и решил успокоить. А мысли были такие: если все
замерзнем, то ветром и волной плот прибьет к берегу, нас обнаружат и
похоронят в земле. Еще подумал, что моя смерть очень огорчит мать", --
рассказывал П. С. Агеев.
Командир первой машины Назар Иванович Лебедев и командир отделения
мотористов Михаил Афанасьевич Кошелев в Москву приехать не смогли.
174
Н. И. Лебедев живет и работает в Донецке. За трудовые успехи награжден
орденом "Знак Почета".
М. А. Кошелев после демобилизации поселился в Сочи. Как и В. В.
Шестопалов, он тяжело перенес переохлаждение.
Удалось разыскать еще трех членов экипажа "Деятельного", оказавшихся в
день гибели корабля в отпуске: замполита Платона Игнатьевича Патрушева
(капитан 1-го ранга в отставке, живет и работает в Ленинграде), командира
БЧ-IV Павла Александровича Обрезумова (старший лейтенант в отставке, живет и
работает в Москве) и машиниста-турбиниста Николая Андреевича Нефедова
(мичман запаса, живет и работает в Ленинграде).
В ходе работы над книгой удалось узнать и о судьбе многих других
ветеранов эскадры Северного флота. Бывший начальник штаба эскадры Александр
Михайлович Румянцев ушел в запас в звании вице-адмирала. Работал над книгой
по истории Северного флота, но скоропостижная смерть осенью 1974 года не
позволила ему закончить эту работу.
Бывший командир эсминца "Достойный" (а несколько позже -- командир 2-го
дивизиона эсминцев) Евгений Андрианович Козлов -- контр-адмирал в отставке,
живет в Москве.
Командир эсминца "Дерзкий" Анатолий Иванович Андреев и его преемник на
этом посту Борис Николаевич Максимов живут в Ленинграде, командир эсминца
"Дружный" (ставший позже флагманским штурманом эскадры) капитан 1-го ранга в
отставке Александр Евгеньевич Пастухов умер в Ленинграде в 1976 году.
Капитан 1-го ранга в отставке Николай Васильевич Матковский, бывший
замполит командира эсминца "Дружный" -- профессор, ученый-международник.
Совсем недавно удалось связаться еще с двумя моряками "Живучего" --
гидроакустиком Василием Яковлевичем Рыжиковым и радиометристом Георгием
Александровичем Алхимовым. Оба живут и работают в Москве.
Встреча с каждым ветераном эскадры Северного флота была волнующей и
интересной. Очень жаль, что рамки книги не позволяют воспроизвести здесь
подробности этих встреч.
СОДЕРЖАН И Е
Вместо предисловия . . 5
Забытая картина 11
На правах пассажиров 13
Инженеры, переодетые в матросскую
форму 30
Под флагом Родины 53
Сквозь шторм и "волчьи стаи" ... 71
В семье североморцев 87
Тараном, снарядом и бомбой! . . . 109
Враг повержен 140
Послесловие . . . . 175
Художник
B. 3. Борисова
Гавриил Герасимович Поляков В СУРОВОМ БАРЕНЦЕВОМ
Редактор
C. К. Богатикова
Художественный редактор
A. 3. Маркелов
Технический редактор
А. Ф. Сергеев Корректор
B. П. Рябинина
Сдано в набор 31.01.78. Подписано
в печать 21.06.78. ПН 01925. Формат
84x108/32. Бумага типографская
No 1. Литературная. Высокая.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,4.
Тираж 15 000 экз. Зак. 1221.
Цена 43 коп.
Мурманское книжное издательство,
г. Мурманск, пр. Ленина, 100
Мурманская областная типография,
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18